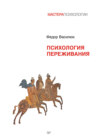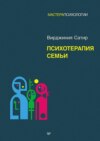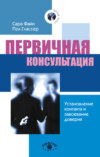Read the book: «Восприятие мира у детей»
Jean Piaget
La representation du monde chez l'enfant
© Presses Universitaires de France / Humensis, 2013
© Перевод на русский язык ООО «Прогресс книга», 2024
© Издание на русском языке, оформление ООО «Прогресскнига», 2024
© Серия «Мастера психологии», 2024
© ООО Издательство «Питер», 2024
Введение. Задачи и методы
(перевод Аллы Беляк)
Мы предлагаем заняться изучением одного из важнейших и при этом сложнейших вопросов детской психологии: какие представления о мире спонтанно вырабатываются у детей на разных этапах их интеллектуального развития? У этой проблемы есть два существенных аспекта. С одной стороны, это вопрос о модальности детского мышления: в каких плоскостях реальности движется эта мысль? Иными словами, убежден ли ребенок, как мы, в существовании реального мира и отличает ли он это убеждение от вымысла, рожденного игрой или воображением? В какой степени ребенок отделяет внешний мир от внутреннего, или субъективного, мира и какие границы ставит между собой и объективной реальностью? Все эти вопросы составляют первую проблему – проблему восприятия реальности у ребенка.
С ней связан второй фундаментальный вопрос – вопрос экспликации у ребенка. Как ребенок использует понятия причины и закономерности? Какова структура причинности у детей? Есть исследования по экспликации в примитивных обществах, описана экспликация научная, различные типы философской экспликации. Предложит ли нам ребенок оригинальный тип экспликации? Все эти вопросы в сумме составляют вторую проблему: проблему причинности. Именно восприятие реальности и причинность у детей станут предметом рассмотрения в этой книге, а также в последующей работе «Физическая причинность у детей». Сразу понятно, что эти проблемы отличны от тех, которые мы рассматривали в предыдущей книге1. Если в прошлом мы ставили задачу проанализировать форму и функционирование детского мышления, то теперь мы приступаем к анализу его содержания.
Эти два вопроса близко соприкасаются, но могут быть вполне закономерно разграничены. Однако форма и функционирование мышления ребенка проявляются при контактах со сверстниками или со взрослым: это определенная манера социального поведения, которую можно наблюдать извне. Содержание, напротив, у разных детей и для разных объектов репрезентации либо раскрывается, либо остается скрытым. Оно составляет систему глубинных убеждений: для их вычленения необходимы специальные методы. И прежде всего, содержание – это система установок, умонастроений, которые сам ребенок до этого не осознавал и не выражал словами.
Поэтому не только полезно, но и необходимо прежде всего договориться о методах изучения детских убеждений. Чтобы составить представление о логике детей, часто достаточно говорить с ними, а также наблюдать их взаимодействие друг с другом. Чтобы составить мнение об их убеждениях, нужна особая методика, и мы должны предупредить, что она сложна, трудоемка и требует «насмотренности», то есть по крайней мере года-двух предварительной тренировки. Алиенисты (психиатры), привыкшие к клинической практике, сразу поймут почему. Действительно, для того чтобы определить истинную ценность того или иного высказывания ребенка, необходимо действовать крайне осторожно. И прежде всего мы хотели бы поговорить об этих мерах предосторожности: если их не учитывать, читатель может воспринять смысл последующих страниц совершенно ошибочно и, прежде всего, исказить проделанные нами эксперименты, если станет, как мы надеемся, продолжать их и самостоятельно контролировать результаты.
§ 1. Тестирование, чистое наблюдение и клинический метод
Первый метод, который напрашивается для решения рассматриваемой нами проблемы, – это метод проведения тестов, при котором ребенок подвергается испытаниям при соблюдении следующих условий: во-первых, вопрос одинаков для всех испытуемых и всегда задается при одних и тех же условиях; во-вторых, ответы испытуемых выстраиваются по шкале, позволяющей сравнивать их качественно или количественно. Преимущества этого метода для индивидуальной диагностики детей неоспоримы. Полученная статистика часто дает полезную информацию в плане общей психологии. Но при решении наших задач тесты имеют два заметных недостатка. Во-первых, не дают достаточной основы для анализа полученных результатов. Действуя всегда в одинаковых условиях, мы получаем грубые результаты, интересные для практики, но часто непригодные для теоретического обобщения из-за недостаточности контекста. Но это еще ничего – ведь понятно, что при известной изобретательности тесты можно варьировать так, чтобы выявить все компоненты той или иной психологической установки. Существенный недостаток теста в нашем исследовании заключается в том, что он искажает ориентацию ума опрашиваемого ребенка или, по крайней мере, может ее исказить. Например, мы ставим задачу выяснить, как ребенок представляет себе движение небесных светил. Задаем вопрос: «Отчего движется солнце»? Ребенок ответит, например, «Господь Бог толкает» или «ветер толкает» и т. д. Получаются результаты, которые стоит знать, даже если в их основе лежит фантазия, иначе говоря склонность детей к мифотворчеству, когда заданный вопрос ставит их в тупик. И мы бы не сильно продвинулись даже в том случае, если бы протестировали таким образом детей всех возрастов, потому что, возможно, ребенок никогда не формулировал для себя вопрос в такой форме или даже не задавался им вовсе. Вполне возможно, что ребенок представляет себе солнце как живое существо, которое движется самостоятельно. Спрашивая «Кто двигает солнце?», мы сразу подсказываем мысль о внешнем воздействии и провоцируем создание мифа. Задавая вопрос «Как движется солнце?», мы, возможно, напротив, заставляем задуматься над способом передвижения, чего раньше не было, и провоцируем создание других мифов: «солнце движется от дуновения», «с помощью тепла», «катится» и т. д. Единственный способ избежать этих трудностей – варьировать вопросы, делать встречные предложения, короче говоря, отказаться от любого фиксированного опросника.
То же самое происходит и в психической патологии. При раннем слабоумии у человека может случиться прояснение сознания или он вспомнит, кто его отец, хотя обычно считает себя отпрыском более родовитой семьи. Но настоящая задача – узнать, как этот вопрос формулировался в его сознании и возникал ли он вообще. Мастерство клинициста состоит не в том, чтобы добиться ответа, а в том, чтобы вызвать ребенка на свободный разговор и вскрыть спонтанные устремления, а не направлять их в какое-то русло или сдерживать их поток. Оно заключается в том, чтобы поместить каждый симптом в психический контекст, а не абстрагироваться от контекста.
Словом, тестирование полезно со многих точек зрения, но для наших целей оно рискует исказить перспективы, отклоняя направление мыслей ребенка. Оно рискует упустить важные вопросы, спонтанные интересы и первичный образ мышления.
Поэтому давайте прибегнем к чистому наблюдению. Любое исследование детского мышления должно отталкиваться от наблюдения и возвращаться к нему для контроля экспериментальных исследований, навеянных этим наблюдением. И применительно к проблемам нашего исследования наблюдение дает нам источник материала первостепенной важности. Речь об изучении спонтанных вопросов детей. Детальное изучение содержания вопросов позволяет выявить интересы детей в разном возрасте и указывает на ряд вопросов, которыми задается ребенок и до которых мы никогда бы не додумались или которые мы никогда бы не сформулировали таким образом. И главное, изучение самой формы вопросов подсказывает внутренние ответы самих детей, ведь почти в каждом вопросе, в его формулировке содержится ответ. Например, когда ребенок спрашивает: «Кто делает солнце?», то действительно создается впечатление, что он воспринимает солнце как результат некой «изготовительной» деятельности. Или же когда он спрашивает, почему есть две горы Салев – Большой и Малый, – но нет двух Маттерхорнов, похоже, ребенок считает, что горы расставлены по определенному и никак не случайному плану.
Так что теперь мы можем задать первое правило нашего метода. При исследовании какой-то группы объяснений у детей стоит начать с каких-нибудь вопросов, спонтанно задаваемых детьми того же возраста или младше, и по той же форме строить вопросы детям, выступающим в качестве испытуемых. В поисках выводов на основе проведенного исследования важно проводить контрольные испытания, сопоставляя результаты со спонтанными вопросами детей. Это позволяет понять, соответствуют ли приписываемые детям представления тем вопросам, которые они ставят, и самой форме постановки этих вопросов.
Возьмем такой пример. В этой книге мы будем изучать детский анимизм. Мы увидим, что если спросить у детей, является ли солнце и т. д. живым, может ли оно думать и чувствовать и т. д., дети определенного возраста отвечают утвердительно. Но является ли это спонтанной идеей или это ответ, прямо или косвенно подсказанный в ходе опроса? В таком случае следует поискать, нет ли чего-то подобного в подборках детских вопросов, и тогда обнаружим, что ребенок 6,5 лет, Дэл (см. L.P., гл. I, § 8), спонтанно спросил, увидев, как шарик катится в направлении наблюдательницы: «Он знает, что вы в той стороне?» Мы также видим, что Дэл своими вопросами часто пытался выяснить, живой или неживой предмет – например, лист растения. И главное, на утверждение, что опавшие листья – точно мертвые, Дэл возразил: «Но они же шевелятся на ветру» (там же, § 8). Значит, есть дети, которые самой формулировкой вопроса как будто уподобляют жизнь движению. Эти факты показывают, что опрос на тему анимизма, проводимый в нужной форме (если ставить вопрос так, как его сформулировал Дэл: «знает» ли движущееся тело, что оно движется вперед), не является искусственным и что уподобление движения и жизни соответствует какому-то спонтанному убеждению ребенка.
Необходимость прямого наблюдения понятна, но видны также и препятствия, явно ограничивающие использование этого ме тода. Метод чистого наблюдения, конечно, трудоемок и гарантирует качество результатов только в ущерб их количеству (невозможно наблюдать большое количество детей в одинаковых условиях), но он еще и приносит систематические неудобства. Вот два основных.
Прежде всего, интеллектуальный эгоцентризм ребенка: он составляет серьезное препятствие для тех, кто хочет узнать ребенка путем чистого наблюдения, никак не расспрашивая наблюдаемого. В другом месте мы пытались показать (L. P., гл. I–III), что ребенок спонтанно не стремится или не преуспевает в полной передаче своей мысли. Он либо находится в обществе сверстников, и разговор связан с непосредственными действиями и игрой, не затрагивая ту существенную часть мышления, которая оторвана от действия и развивается при контакте с картинами взрослой деятельности или природы. И тогда кажется, что ребенка абсолютно не интересуют представление о мире и физическая причинность. Либо ребенок находится в обществе взрослых, и тогда он постоянно задает вопросы, не давая собственных объяснений. Он не озвучивает их сначала потому, что считает общеизвестными, а в дальнейшем – из скромности, застенчивости, из страха ошибиться, утратить иллюзии. Он не озвучивает их прежде всего потому, что собственные объяснения кажутся ему наиболее естественными и даже единственно возможными. Короче говоря, даже то, что можно выразить словами, обычно остается невыраженным просто потому, что мышление ребенка не так социализировано, как наше. Но наряду с мыслями, которые поддаются формулировке хотя бы во внутренней речи, сколько еще неформулируемых мыслей остаются для нас тайной, если мы ограничиваемся наблюдением за ребенком, не заговаривая с ним? Под неформулируемыми мыслями мы понимаем умственные установки, синкретические паттерны, зрительные или двигательные, все эти предварительные связи, которые мы угадываем, как только заговариваем с ребенком. Прежде всего нужно узнать эти предварительные связи, и чтобы их нащупать, необходимо использовать специальные методы.
Второй систематически встречающийся недостаток чистого наблюдения обусловлен трудностью различения у ребенка игры и убеждения. Вот ребенок, думая, что он один, говорит катку-асфальтоукладчику: «Это ведь ты раздавил большие камни?» Что это – игра или реальная персонификация машины? В данном случае сказать невозможно, потому что это отдельный случай. Чистое наблюдение бессильно отличить убеждение от фантазии. Единственно верные критерии, как мы увидим позже, основаны на множественности результатов и сравнении индивидуальных реакций.
Поэтому нужно обязательно выйти за рамки метода чистого наблюдения и при этом избежать недостатков тестирования, чтобы воспользоваться основными преимуществами экспериментального метода. Так что мы будем использовать третий метод, соединяющий потенциал тестирования и прямого наблюдения, при этом избегая недостатков каждого из них: это метод клинического обследования, который психиатры используют как средство диагностики. Можно, например, месяцами наблюдать определенные формы паранойи и ни разу не выявить ту самую идею величия, которая, однако же, угадывается при каждой странной реакции. С другой стороны, нет тестов для дифференциации различных патологических синдромов. Но клиницист может одновременно: 1) беседовать с больным, ведя наблюдение даже по ответам, чтобы не упустить ничего из возможных проявлений бредовых идей; и 2) мягко подводить его к критическим зонам (его происхождение, раса, состояние, военные звания и политические посты, его таланты, мистическая жизнь и т. д.), не зная, естественно, где выйдет на поверхность бредовая идея, но постоянно удерживая разговор на благодатной почве. Таким образом, клиническое обследование является частью опыта в том смысле, что врач ставит задачи, выдвигает гипотезы, варьирует условия игры и, наконец, проверяет каждую из своих гипотез, сопоставляя ее с реакциями, вызванными беседой. Однако клиническое обследование является также частью прямого наблюдения, поскольку хороший врач и направляет больного, и следует за ним, и учитывает весь психический контекст, а не становится жертвой «систематических ошибок», как это часто бывает с чистым экспериментатором.
Поскольку клинический метод очень помог в области, где без него царили беспорядок и путаница, грех было не воспользоваться им в детской психологии. На самом деле априорно ничто не препятствует нам расспрашивать детей о темах, в которых чистое наблюдение не приводит исследователя к результату. Все, что было сказано о детской мифомании и внушаемости, а также о систематических ошибках, которые они влекут за собой, не мешает психологу расспросить ребенка, но при этом обязательно определить точную долю внушения или выдумки в полученных ответах путем клинического обследования.
Нет смысла приводить здесь примеры, поскольку основная цель данной работы – составление сборника клинических наблюдений. Правда, нам все равно придется укладывать описываемые случаи в определенную схему, не резюмируя их (что было бы равносильно их искажению), но извлекая из записей беседы только места, представляющие непосредственный интерес. Так из многостраничных записей, сделанных в каждом случае, мы отберем лишь несколько строк. Но мы считаем излишним приводить здесь полный пример опроса, поскольку клиническому методу можно научиться только путем длительной практики. Мы даже думаем, что для преодоления неизбежных вначале колебаний, проб и ошибок, в детской психологии, как и в патологической психологии, необходим год ежедневной практической работы. Так сложно не сказать лишнего, задавая ребенку вопросы, особенно если ты учитель! Так сложно не подсказывать ответ! Так сложно избежать как систематизации на основе заранее определенных критериев, так и сумбура из-за отсутствия какой-либо руководящей гипотезы! По сути, хороший экспериментатор должен сочетать в себе два зачастую несовместимых качества: уметь наблюдать, то есть давать ребенку говорить, не перебивая и не подталкивая в нужную сторону, и в то же время искать и добиваться от него чего-то конкретного, ежесекундно стремиться проверить какую-то рабочую гипотезу, какую-то теорию, правильную или ложную. Нужно иметь за плечами опыт преподавания клинического метода, чтобы понять, насколько он на самом деле сложен. Начинающие ученики либо подсказывают ребенку все, что хотят от него получить, либо не подсказывают, но только потому, что сами не знают, чего искать, а следовательно, ничего и не находят.
Короче говоря, дело это непростое, и собранные таким образом материалы следует подвергнуть строгому критическому анализу. Психолог должен, по сути, компенсировать ненадежность метода опроса, оттачивая точность интерпретации. И здесь опять новичку грозят две противоположные опасности: опасность приписать всему, что сказал ребенок, либо максимальное, либо минимальное значение. Главные враги клинического метода – те, кто принимает за чистую монету всё, что отвечают дети, и те, кто отказывается верить любому результату опроса. Естественно, наиболее опасны первые, но и те и другие исходят из одного и того же ошибочного суждения – считать, что все, сказанное ребенком за четверть часа, полчаса или три четверти часа нашей с ним беседы, лежит в одной и той же плоскости сознания: либо плоскости обдуманного убеждения, либо плоскости вымысла и т. д.
Сущность клинического метода, напротив, состоит в том, чтобы отделить зерна от плевел и поместить каждый ответ в соответствующий психический контекст. Но ведь существуют контексты размышления, спонтанной убежденности, игры или попугайничания, контексты усилия и заинтересованности или усталости, и, прежде всего, есть испытуемые, которые сразу же внушают доверие, которые у нас на глазах думают и ищут решение, а есть и другие, которые явно насмехаются над вами или вас не слушают.
Мы не можем дать правила такой диагностики индивидуальных реакций. Это вопрос практики. Но чтобы прояснить, каким образом мы выбирали наблюдения из тех, которыми располагаем (для этой книги мы лично провели более 600 наблюдений, и в других местах наши сотрудники тоже обследовали большое количество детей), необходимо попытаться разбить возможное типы ответов на несколько больших категорий. Поскольку ценность этих типов ответов весьма неравнозначна, важно держать в уме четкую схему этой классификации, чтобы нюансировать их толкование.
§ 2. Пять типов реакций, наблюдаемых при клиническом обследовании
Когда заданный вопрос не нравится ребенку или вообще не вызывает у него никакой работы по осознанию и адаптации, ребенок отвечает что угодно и как угодно, даже не пытаясь придумать что-то забавное или фантастическое. Мы будем обозначать эту реакцию удобным, хотя и варварским термином, восходящим к Бине и Симону: «ерундизм». Когда ребенок, недолго думая, отвечает на вопрос, сочиняя историю, в которую сам не верит или в которую верит посредством простой словесной инерции, мы говорим, что здесь имеет место фабуляция, или выдумка. Когда ребенок делает усилие, чтобы ответить на вопрос, но вопрос носит наводящий характер или ребенок просто стремится угодить испытующему, не задействуя собственную рефлексию, мы говорим, что имеется внушенное (наведенное) убеждение. Мы включаем в этот случай персеверацию, или настойчивое повторение, в том случае, когда она обусловлена тем, что вопросы задаются наводящими сериями. В других случаях настойчивое повторение является формой ерундизма.
Когда ребенок отвечает вдумчиво, черпая ответ из глубины души, без внушения, но вопрос для него нов, мы говорим, что это спровоцированное убеждение. Спровоцированное убеждение обязательно возникает под влиянием расспроса, так как самый способ, которым вопрос задается и предъявляется ребенку, заставляет его рассуждать в определенном направлении и систематизировать свои знания определенным образом; но это тем не менее подлинный продукт детского мышления, так как ни рассуждения ребенка для ответа на вопрос, ни совокупность предшествующих знаний, которыми он пользуется в ходе размышления, не находятся под прямым влиянием экспериментатора. То есть спровоцированное убеждение не является ни совершенно спонтанным, ни совершенно внушенным: это продукт рассуждения, сделанного по заказу, но из оригинальных материалов (знаний ребенка, мысленных образов, двигательных паттернов, синкретических до-связей и т. д.) и оригинальных логических инструментов (структура рассуждения, ориентации ума, интеллектуальные привычки и т. д.).
Наконец, когда ребенку не нужно рассуждать, чтобы ответить на вопрос, а он может дать готовый ответ, поскольку он уже сформулирован или формулируем, возникает спонтанное убеждение. То есть спонтанное убеждение существует, когда вопрос не нов для ребенка и когда ответ является результатом предварительного и оригинального размышления. Мы, естественно, исключаем из этого типа реакции, как и из предыдущих, все ответы, отмеченные знаниями, приобретенными до опроса. Здесь возникает особая и, естественно, очень сложная проблема – различить в полученных ответах то, что исходит от ребенка, и то, что вдохновлено взрослым окружением. В дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу. А пока ограничимся максимально четким различением пяти типов реакций, которые мы только что описали, и прежде всего последних.
Возможность обнаружить методом клинического обследования наличие у ребенка спонтанных убеждений и развить их силами самого ребенка неоспорима. Эти убеждения редки в том смысле, что их труднее всего вычленить, но они существуют. Мы увидим, например, что мальчики восьми лет (в среднем) умеют давать правильное словесное объяснение и полностью нарисовать механизм велосипеда. Очевидно, что такой результат и такая синхронность индивидуальных ответов свидетельствуют о наблюдении и размышлении, существовавших до опроса, даже если мы не отметили никаких детских вопросов, касающихся детального устройства велосипеда. Мы также увидим, что достаточно спросить 8-летних детей: «Что делает солнце, когда ты гуляешь?», чтобы эти дети в простоте душевной тут же ответили, что солнце и луна идут за ними, передвигаются и останавливаются вместе с ними. Постоянство ответов и спонтанность рассказа при расплывчатом характере вопроса, безусловно, означают убеждение спонтанное, то есть сформированное до самого вопроса.
Впрочем, читателю предстоит обсудить не столько существование спонтанных убеждений, сколько, прежде всего, разграничение между спонтанными и спровоцированными убеждениями. Действительно, нам в каждый момент кажется, что мы задаем детям вопросы, о которых они никогда не задумывались, однако неожиданность и оригинальность ответов наводят на мысль о предшествующем размышлении. Где граница? Например, мы спрашиваем детей: «Откуда берется ночь?» Заданный в такой форме вопрос ничего не подсказывает. Ребенок колеблется, уклоняется от ответа и наконец говорит, что приходят черные тучи и получается ночь. Это спонтанное убеждение? Или ребенок никогда не задавался этим вопросом и потому прибегнул для ответа к простейшей и наименее трудоемкой для воображения гипотезе? Обе интерпретации годятся для обсуждения. Более того, обе, возможно, соответствуют действительности. Действительно, некоторые дети на вопрос, почему облака движутся, отвечают: «Чтобы сделать темноту и ночь». В данном случае объяснение ночи и темноты наличием облаков явно спонтанно. В других случаях создается впечатление, что ребенок придумывает объяснение на месте. Интересно, кстати, отметить, что в таком примере спонтанные и спровоцированные убеждения совпадают, но очевидно, что в целом и даже в каждом конкретном случае их значение для психолога неодинаково.
Конечно, спрашивать детей о том, случалось ли им думать о задаваемом вопросе, совершенно бесполезно. При недостаточности запаса воспоминаний и отсутствии самоанализа они об этом понятия не имеют.
Но можно ли в каждом случае отличить эти спонтанные убеждения от убеждений спровоцированных, в общем-то, не имеет особого значения. Ведь изучение спровоцированных убеждений весьма ценно само по себе. Этот момент следует подчеркнуть особо, он имеет решающее значение для осуществления нашего замысла. Есть фактический довод, который перевешивает любой теоретический аргумент: спровоцированные убеждения склонны к тому же однообразию, что и убеждения спонтанные. Например, мы поставили такой небольшой эксперимент: на глазах у ребенка опускали камешек в неполный стакан с водой и спрашивали его, почему повышается уровень воды. Полученные ответы естественным образом возникают из спровоцированных убеждений, по крайней мере в большинстве случаев, то есть когда ребенок не знал заранее, что уровень воды при погружении камешка поднимется. Так вот, все малыши (до 9 лет) заявляют, что вода поднимается потому, что камень «тяжелый», и продолжение эксперимента ясно показывает, что они думают не об объеме, а только о весе погружаемого тела. То есть перед нами решение, найденное на месте, но которое с примечательным единообразием повторяется от ребенка к ребенку. Данная работа предоставит нам множество других примеров единообразия спровоцированных убеждений. Таким образом, мы видим, что, даже если решение придумано ребенком в ходе самого опыта, оно придумано не на пустом месте. Оно предполагает предшествующие схемы, ориентацию ума, интеллектуальные привычки и т. д. Единственное исключающее правило – избегать внушения, то есть стараться не навязывать среди всех возможных ответов один конкретный ответ. Но если удастся отличить спровоцированные убеждения от внушенных, то первые заслуживают углубленного изучения, поскольку они, по крайней мере, раскрывают психические установки ребенка.
Давайте возьмем другой пример. Ребенок спросил нас: «Кто делает солнце?» Мы решили использовать этот вопрос и стали задавать его ряду детей в форме, не содержащей подсказки: «Как началось солнце?» Все малыши заявляют, что его сделали люди. Предположим, что это просто сиюминутная выдумка и эти дети никогда не задумывались над данным вопросом. Но мы имеем решение, которое, с одной стороны, ребенок нашел, предпочел многим другим, и которое, с другой стороны, он не отбрасывает даже под давлением встречных, иных предложений. То есть весьма вероятно, что артификалистский ответ ребенка, даже если он спровоцирован, связан с латентным артификализмом, с артификалистской мыслительной установкой. Понятно, что это еще предстоит доказать, но сама постановка задачи не составляет трудности. С другой стороны, ребенок не отбрасывает свою гипотезу в ходе дальнейших расспросов, несмотря на наши попытки. И это второе указание: у ребенка мало установок, опровергающих такую артификалисткую позицию. Иначе было бы легко сбить ребенка, подтолкнуть придумать что-то другое и т. д.
Словом, задача изучения спровоцированных убеждений вполне допустима. Метод заключается в расспросе ребенка обо всем, что его окружает. Мы гипотетически допускаем, что способ, которым ребенок изобретает решение, в некоторой степени раскрывает его спонтанные умственные установки. Чтобы этот метод дал результат, естественно, должны существовать правила строгого контроля и по способу постановки вопросов ребенку, и по интерпретации ответов. Далее мы постараемся сформулировать эти правила.
Но если разграничение спровоцированных и спонтанных убеждений важно лишь относительно, то, напротив, совершенно необходимо четко отличать спровоцированные убеждения от убеждений внушенных. Не следует думать, что внушения легко избежать. Чтобы научиться распознавать и избегать многообразных форм внушения, необходима долгая тренировка. Особенно опасны две разновидности: внушение словом и внушение через повторение.
Первое очень легко охарактеризовать в широком смысле, но очень трудно различить в деталях. Единственный способ избежать его – научиться распознавать язык ребенка и формулировать вопросы на этом же языке. Поэтому необходимо в начале каждого нового опроса вызывать детей на разговор с единственной целью – составить такой лексикон, который избегает любого внушения. Без этого невозможно предсказать возможное воздействие того или иного внешне безобидного высказывания. Например, слова «идти», «шагать», «двигаться» никоим образом не являются для ребенка синонимами. Солнце идет вперед, но не движется и т. д. Если мы по неосторожности используем определенное слово, неожиданное для ребенка, то рискуем спровоцировать чистым внушением анимистические или антропоморфические реакции, которые затем примем за спонтанные.
Внушения путем настойчивого повторения избежать еще труднее, потому что сам факт продолжения разговора после первой реакции ребенка подталкивает его упорствовать в выбранном пути. К тому же любой серийно организованный опросник вызывает настойчивое повторение. Спросить, например, ребенка, живые ли рыба, птица, солнце, луна, облака, ветер и т. д., – это подтолкнуть его к тому, что он скажет «да» на все просто по инерции. В таком случае реакции естественным образом «внушены», а не «спровоцированы» в том смысле, в каком мы понимаем этот термин.
Однако внушенное убеждение вовсе не представляет интереса для психолога. Если спровоцированное убеждение вскрывает мыслительные привычки, предшествовавшие опросу, хотя и систематизированные под его влиянием, то внушаемое убеждение вскрывает лишь степень внушаемости ребенка, никак не связанную с его представлением о мире.
Хотелось бы так же строго исключить фабуляцию. Но тема вымысла – одна из самых деликатных при клиническом исследовании детей. При опросе детей, особенно до 7–8-летнего возраста, часто случается, что, сохраняя внешнюю серьезность и открытость, они воспринимают поставленный вопрос как развлечение и придумывают ответ просто потому, что так им нравится. Ответ в данном случае не провоцируется, поскольку он совершенно свободен и даже непредсказуем, и тем не менее его нельзя отнести к внушенным убеждениям по той простой причине, что он не является убеждением. Ребенок просто играет, и если ему и случается верить в то, что он говорит, то по инерции и так же, как он верит в свои игры: просто потому, что хочет верить. Однако определить точный смысл этой фабуляции – дело очень тонкое. Возможны три решения. Первое – уподобить фабуляцию тому, что у нормальных взрослых называется «пускать пыль в глаза». Ребенок, возможно, сочиняет, чтобы подшутить над психологом и, главное, отделаться от вопроса, который ему неинтересен и надоел. Такая трактовка, безусловно, верна в большинстве случаев – впрочем, довольно редких, – которые мы наблюдаем у детей после 8 лет. Но до 7–8 лет она объясняет не все, – отсюда и два других решения.