Валькирии. Женщины в мире викингов
Text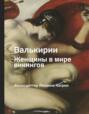


Go to audiobook
- Size: 320 pp. 14 illustrations
- Genre: popular history
В эпоху викингов период детства не был целостным и однородным. Вполне вероятно, что с раннего детства девочки уже занимались разного рода работой, не характерной для мальчиков. Да, некоторые признаки того, что к девочкам относились чуть иначе, существуют, но в целом законы не обращали существенного внимания на половые различия детей. Во многих сагах живописуются проявления любви и заботы к детям обоих полов и, судя по археологическим находкам, родственники с одинаковым усердием оборудовали захоронения как для мальчиков, так и для девочек. При этом по мере того, как девочки становились старше, их жизнь в гораздо большей степени начинала определяться полом и репродуктивной способностью. На них смотрели как на будущих жен, матерей, домохозяек или как на торговок и ремесленниц, если в их семьях были такие традиции. Чаще всего их не рассматривали в качестве воительниц, поэтесс, юристов или общественных лидеров. Их попросту не готовили к таким ролям, но это не исключало того, что девушки могли сами выбрать для себя один из этих жизненных путей. В следующей главе мы сравним, какой же выбор они делали для себя в реальности и в воображаемом мире.
Глава 2. Девушки-подростки

Наши представления о романтике вызвали бы у викингов лишь улыбку. Судя по сагам, уже в подростковом возрасте девочки готовились распрощаться с миром детства и перейти к новому этапу жизни, замужеству. Но о любовном томлении или свиданиях речи тоже не шло. Скандинавские законы и эпос рисуют перед нами суровый патриархальный мир, в котором отцы, деды, братья, а иногда и матери с бабушками выдавали своих дочерей и сестер замуж, совершенно не учитывая отношение невесты к будущему мужу и не спрашивая ее согласия. Вымышленные героини часто предстают перед нами именно в этот поворотный момент, между детством и зрелостью, но у самих девушек возможность решать, что же делать со своей жизнью дальше, была очень мало. Обручение и свадьба часто кажутся событиями внезапными, поспешными и лишенными любой сентиментальности. Этим процессом скорее двигал расчет, а не любовь. Даже великая родоначальница Унн «Многомудрая» лишена каких бы то ни было протофеминистских мотивов, хотя ее восхваляют за мужество и лидерские качества, проявленные в ходе опасного вывода своих соплеменников из раздираемой войной Шотландии. В «Саге о людях из Лососьей долины» мельком сообщается о том, что во время плавания в Исландию через Оркнейские и Фарерские острова Унн выдает замуж двух своих маленьких внучек, по-видимому, не придавая этому большого значения. По прибытии в Исландию она подыскивает мужей и остальным. Получается, что Олов и Гро вынуждены строить свое счастье на новых землях, смиряясь с тем, что больше никогда не увидят своих родных, в то время как Торгерд, Торбьерг и Оск, по крайней мере, остались в Исландии. В саге подчеркивается, что все четыре девушки произвели на свет великих потомков[81]. По сюжету отдельных легенд и саг женщины безмолвно принимают навязанный им брак, а иногда их просто заставляют выходить замуж за тех, кто им противен.
Но, несмотря на модель покорности, которую скандинавский эпос предлагал девочкам-подросткам, их порой могли представлять бунтарками и воительницами. В этом образе девушки беспрепятственно путешествуют по суше и воде, преследуя мужчин, которые им нравятся, и даже возглавляя отряды викингов. Хотя такого рода независимое поведение и было, скорее всего, редким исключением, закоренелыми деспотами в отношении женщин викингов назвать тоже сложно. Брак по расчету – лишь одна грань, иллюстрирующая положение молодых женщин в эпоху викингов, их ролей и устремлений. О реальном существовании «дев щита» мы можем только предполагать, но есть доказательства того, что отдельные девушки становились заметными в других областях, считавшихся чисто мужскими, например, в позии. Чтобы сломать подобные гендерные стереотипы, требовалась настоящая отвага, а это значит, что поэты-мужчины были готовы признать девушку одной из своих только в том случае, если она демонстрировала настоящий талант. Примеры таких бунтарок, восставших против социальных норм, встречаются только в литературе. Но, скорее всего, викинги прекрасно понимали важность баланса между сохранением традиций и свободой воли. Жизнь диктовала свои условия. Ведь порой взрослой женщине приходилось брать на себя ответственность за выживание целого рода, а это значит, что ограничивать ее подростковое развитие буквально во всем было бы неправильно.
Помолвка
Пример бунтарского духа демонстрирует нам Астрид, героиня старейшей «Саги об Олаве Святом». Ей удалось по собственной воле заполучить в мужья конунга. Астрид – внебрачная дочь конунга шведов Олава, сына Эйрика. В саге описано ее путешествие в Норвегию, куда она едет свататься к Олаву, сыну Харальда (будущему Олаву Святому или «Толстому»)[82]. Сам норвежский конунг мечтал жениться на Ингибьерг, сестре Астрид. Об этом уже была предварительная договоренность в рамках мирного соглашения, но отец девушек был человеком крайне вспыльчивым и неожиданно забрал свое слово обратно. Мы можем только предполагать, как сильно разозлился Олав, который тоже не отличался кротостью нрава. Разумеется, он должен был как-то ответить на такое оскорбление. Кроме того, отмена помолвки, которая влекла за собой и разрыв мирного соглашения, могла создать угрозу войны между Швецией и Норвегией. Кризис накалялся, все замерли в ожидании реакции Олава.
Неудивительно, что в этих обстоятельствах Астрид решает не полагаться на отца, а берет свою судьбу в собственные руки. Понимая, что надо действовать быстро, она спешит к норвежским землям, чтобы предложить себя конунгу в обмен на сестру. Мы легко можем представить, как она скачет на ухоженном коне в развевающихся на ветру нарядных одеждах. Но вот о том, что она чувствует, рассказчик умалчивает. Возможно, она была напугана или же испытывала смесь нетерпения и уверенности в своем замысле. Потенциальных плюсов в ее положении было больше, чем минусов. В случае успеха она не только становилась женой конунга, но и дарила мир двум народам. Вряд ли ее отец осмелился напасть на Норвегию, если бы на троне сидела его дочь. Да, Астрид была знатной дамой, ее сопровождали слуги, но чтобы свататься к мужчине, да еще и конунгу, требовалась настоящая отвага. Рассказчик подчеркивает решительный и напористый характер девушки, но даже он противоречит всем скандинавским представлениям о помолвке, о которых мы знаем или только догадываемся. Это заставляет восхищаться поступком Астрид еще сильнее.
О том, что произошло по ее прибытии в Норвегию, авторы пишут по-разному. В более поздней версии саги Астрид использует приемы христианской риторики, чтобы убедить Олава жениться на ней, тем самым предотвратив войну между народами и ненужное кровопролитие. В других версиях ее персонаж больше похож на волевых героинь скандинавского эпоса. В раннем тексте «Легендарной саги» Астрид взывает к чести Олава и говорит о том, что, женившись на ней, он сможет унизить ее отца. Она также намекает на то, что если он этого не сделает и оставит нанесенное оскорбление без ответа, то его доброе имя пострадает[83]. Конунг принимает эти аргументы и соглашается на брак, а Астрид выходит из ситуации безоговорочным победителем: она не только с успехом выполнила роль миротворца, но и обеспечила себе положение, о котором не могла и мечтать, учитывая ее происхождение. Неизвестно, имел ли место этот сюжет на самом деле, но в «Круге Земном» Снорри Стурлусона он не упоминается – автор цикла утверждает, что заслуга в заключении помолвки целиком принадлежит шведскому конунгу. Другие авторы соглашаются признать правдивыми лишь отдельные детали рассказа.
Но Астрид была дочерью конунга, а не обычным подростком эпохи викингов. Если семья могла позволить себе приданое, то девушка, скорее всего, просто выходила замуж за того, кого выбирали ее родители, а представительницы более бедных семей с ранних лет начинали работать, имея при этом довольно мало шансов на женитьбу. В «Саге о Ньяле» описаны детали помолвки и замужества одной девушки. 14-летняя Торгерд присутствует на свадьбе своей матери Халльгерд, которая уже в третий раз выходит замуж, на этот раз – за Гуннара, самого завидного холостяка Исландии. На пиру, который был заметным событием, учитывая статус новобрачных, дядя жениха, почтенный Траин начинает бесстыдно глазеть на юную Торгерд, что приводит в ужас его жену Торхильд, которая обвиняет его в развратном поведении и бранится последними словами. Мы можем предполагать, что их брак уже трещал по швам, так как Траин реагирует на замечание жены молниеносно и вполне однозначно: он прогоняет ее и тут же просит руки Торгерд у ее деда – Хёскульда. Тот сначала колеблется, но, когда лучший друг жениха подтверждает, что Траин обладает завидным влиянием и состоянием, сразу соглашается. О чувствах Торгерд в саге не говорится ни слова, равно как и о том, что по этому поводу думает ее мать. Зато впоследствии мы узнаем, что девушка стала «домовитой хозяйкой»[84]. Это неожиданное сватовство преподносится рассказчиком как редкостная удача как для девушки, так и для ее семьи, а о его последствиях история умалчивает.
Как бы сильно мы ни сочувствовали этой девушке, которая выступает своего рода разменной монетой в сделке между родным дедом и только что разведенным пожилым женихом, но сама ситуация, похоже, адекватно отражает отношение к институту брака, преобладавшее в скандинавском обществе. Именно как сделка между мужчинами он и воспринимался: женщина, а точнее, ее тело вместе с его репродуктивными способностями и приданым обменивались на социальный, политический или материальный капитал (выкуп) жениха. Подобного рода соглашения формировали важные взаимные обязательства между отдельными группами, поэтому сугубо частным делом между двумя людьми брак никак не являлся; он скорее касался не самих молодоженов, а их родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, а также детей от предыдущих браков, если они были. Во многих других вопросах, таких как права наследования и собственности или выбор места жительства, у скандинавских женщин был голос, но не в отношении того, кто станет их спутником жизни[85]. Роль этого института была настолько важна, что взрослые просто не могли отдать решение на откуп молодым людям, движимым любовью или страсть. Как в сагах, так и в реальности, потенциальные женихи должны сначала пообщаться с законным опекуном девушки, часто – в сопровождении собственных отцов или дядей. Причиной для отказа могло служить неподходящее происхождение или излишняя неотесанность. Если соглашение достигалось, то дальше предстояло договариваться об объемах имущественного взноса, который предстояло сделать каждой из сторон, наряду с другими формальностями, такими как дата свадьбы и жилье для молодоженов. Женщина, как правила, об этих договоренностях узнавала последней[86]. На этом этапе невесту могли спросить, что она думает о своем избраннике, но та, что-то пробормотав для проформы, чаще всего перекладывала окончательное решение обратно на опекуна, которому, разумеется, было виднее.
Женщина могла отказаться от замужества, только если ее отец уже умер, а сама она была вдовой. В противном случае она не имела права нарушать достигнутого между опекуном и женихом соглашения[87]. Учитывая степень материального неравенства между девушкой и ее старшими родственниками, для большинства невест подобный отказ грозилт ужасными последствиями и был попросту незаконным. В «Краткой песни о Сигурде» Атли грозит своей сестре Брюнхильд, что откажется делить с ней причитающееся наследство, если она откажется от брака. Эта сцена дает общее представление о нравах эпохи[88]. Даже у благородных девушек руки были практически связаны, если их опекуны решали довести сделку до конца. Возможно, они могли чуть затянуть торг и выпросить для себя чуть более выгодные условия, но не более того. В «Саге о Ньяле» Хильдигунн отказывается выходить замуж за Хёскульда, пока у него не будет собственного города в подчинении. Аналогичным образом ведет себя Астрид, сестра конунга Олава, сына Трюггви (не та Астрид, о которой шла речь в одном из предыдущих примеров). Она отказывается от замужества до тех пор, пока ее брат не даст ее будущему мужу почетное звание, о котором она просит[89]. Конунгу такой торг явно не по душе: он велит поймать принадлежавшего Астрид сокола, ощипать его и послать сестре в качестве устрашающего дара, чтобы доказать ей, кто в семье главный. Аргумент оказывается действенным: Астрид смиренно подчиняется воле брата, а тот впоследствии тоже идет на уступку и присваивает ее мужу требуемый чин.
В этом контексте вполне ясную мораль обретает миф о том, как бог Фрейр сватался к своей будущей жене Герд, изложенный в поэме «Поездка Скирнира» (Skírnismál). Однажды Фрейр, без спроса занявший высокий трон Одина, обозревал с него землю йотунов (великанов). Увидев прекрасную девушку, он подозвал к себе слугу Скирнира и отправил его свататься к ней. Слуге он обещает лошадь и меч в качестве вознаграждения, если поездка увенчается успехом. Скиннир предлагает Герд одиннадцать золотых (предположительно, молодильных) яблок и кольцо, способное преумножать богатство, в обмен на ее согласие выйти замуж за Фрейра. Девушка отказывается, уверяя посланника, что в отцовском доме есть все, что ей может понадобиться. Тогда Скиннир прибегает к угрозам, обещая обезглавить отца девушки и поработить ее волю «жезлом укрощенья», который также нашлет на нее «черную похоть». Результатом колдовства станет обращение Герд в чудище, над которым все будут издеваться. Он обещает ей самые ужасные муки, которые только можно вообразить: ее заставят пить козлиную мочу, затем над ней надругается ужасный великан и в конце концов ее просто обезглавят[90]. После таких угроз Герд соглашается встретиться в Фрейром, который с нетерпением считает часы до появления невесты.
Поэма и вправду производит гнетущее впечатление, ведь, несмотря на прогресс, многие из описанных в ней тактик звучат знакомо даже сегодня. Угрозы Скирнира крепнут одна за другой, в то время как решимость Герд буквально тает на глазах. В нескольких строках он грозится лишить девушку всего, что ей дорого: достоинства и уважения, социального статуса, свободы воли, здравого рассудка и возможности распоряжаться своим собственным телом[91]. Некоторые из угроз, описанные в поэме, почти буквально повторяются в виде реальных проклятий, которые можно прочитать среди резных рун на жерди, найденной в норвежском Бергене. Помимо беспрестанного беспокойства и недосыпания в качестве проклятия звучит пожелание «страдать от неуемной похоти волчицы», перекликающееся со словами Скирнира[92]. Хотя сама жердь датирована XIV веком, можно предположить, что подобная практика уходит своими корнями в глубокую древность[93]. Обстоятельства появления этих проклятий нам не ясны, но сам факт их существования, как и фрагмент из поэмы, подтверждает характер зависимости положения женщин в эпоху патриархата[94]. Степень безропотности, с которой девушка, подобная Герд, должна была выслушивать подобную ругань, не оставляет в этом никакого сомнения. В случае сватовства все прекрасно понимали негативные последствия отказа и любого другого проявления свободной воли.
Еще одним источником проблем могла стать ситуация, когда невеста считала своего жениха недостойным себя. В «Первой песни о Хельги, убийце Хундинга» валькирия Сигрун называет мужчину, за которого ее обещал выдать отец, «кошачьим отродьем», тем самым ставя под сомнение его отвагу и честь. Она подстрекает более свирепого воина Хельги вызвать жениха на поединок[95]. Сначала брат Сигурн приходит в ярость, когда узнает, что она отвергла жениха, но, поскольку Хельги – действительно настоящий герой и выдающийся воин, желание сестры взять его в мужья кажутся ему оправданными: он гораздо лучше подходит валькирии. В отдельных сагах встречаются примеры, когда девушка меняет свое мнение об избраннике, если ей предоставляется шанс узнать его получше. В «Саге о людях из Лососьей долины» Торгерд, дочь знаменитого героя Эгиля, сына Скаллагрима, отказывается выходить замуж за Олава, прозванного «Павлином», так как он сын простой служанки Мелькорки. Отец девушки уговаривает ее провести с ним хотя бы несколько часов, в результате чего Торгерд соглашается на брак[96]. Эта сага датирована XIII веком, поэтому сама сцена могла появиться в результате популяризации доктрины обоюдного согласия, которую духовенство начало продвигать еще в XII веке. Но в более ранних литературных источниках также встречаются похожие примеры, так что в древности скандинавы вполне могли позволять девушкам участвовать в обсуждении и подготовке брака, пусть и в незначительной степени, но лишь бы он был успешен[97].
Последствия принуждения женщин к браку могли иметь негативное влияние на атмосферу в семье. Некоторые авторы описывают такой опыт как потенциально травмирующий и способный вызвать разлад между родителями и ребенком. В «Саге о Ньяле» первым женихом еще юной Халльгерд становится Торвальд, сын Освивра, а инициатором помолвки выступает отец девушки, Хёскульд. Торвальд – обеспеченный мужчина с отличной родословной, но гордячка Халльгерд считает, что он ей не ровня, так как сама она – наследница легендарных героев. Складывается впечатление, что это событие (помолвка с Торвальдом – землевладельцем, никогда не покидавшем родных краев) стало для девушки лишь поводом, чтобы обрушить на отца весь гнев, который она копила годами. Она бросает ему такие слова: «Вот доказательство того, о чем я уже давно догадывалась. Ты любишь меня вовсе не так сильно, как говоришь, раз не посчитал нужным пригласить меня на сговор»[98]. Отец со злостью советует ей вернуться с небес на землю, ведь Торвальд – лучшая партия из всех, какие она заслуживает. В его глазах это она уронила себя перед женихом. Эти слова кажутся неискренними. Можно даже предположить, что он подспудно обвиняет дочь в том, что она не проявляла таких амбиций раньше. Вскоре после свадьбы Торвальд демонстрирует жене свой нрав: когда та обвиняет его в прижимистости, он бьет ее по лицу. В результате опекун девушки Тьостольв попросту убивает Торвальда, а Халльгерд возвращается в родной дом. Хёскульд признает, что был неправ, и что дочь имела право сомневаться в успешности этого брака. Этот эпизод согласуется распространенным в скандинавской культуре представлением о том, что для успешного брака жених и невеста должны быть примерно равны как по социальному статусу, так и по своему нраву, а родители, игнорирующие эту рекомендацию, делают только хуже – как самим себе, так и своим детям.
Беззащитность и честь
В письменных источниках много говорится о сексуальной беззащитности девушек. Лишь немногие из них владеют боевыми искусствами и могут, подобно девам щита дать отпор нападающим. Залогом их чести служит непорочность, оберегать которую до дня свадьбы – прямая задача отца или мужчины-опекуна. Если верить мифам, в скандинавской культуре преобладали характерные для патриархального общества двойные стандарты в отношении секса: Один всегда на высоте, даже несмотря на его многочисленные романы с женщинами-великанами, в то время как отношение к женской сексуальной активности вне равного брака, очевидно, негативное (в «Песни о Трюме», к примеру, Фрейя боится осуждения). Завязкой сюжета служит пропажа молота Тора, который похитил ужасный йотун Трюм, требующий Фрейю себе в жены в качестве выкупа (см. предисловие). Тор, как и остальные боги, намерен принять условия шантажиста, в то время как Фрейя категорически отвергает эту возможность. Она говорит Тору, что «прослывет распутной», если согласится на поездку в страну великанов (Йотунхейм)[99]. Это пример того, что подобные обвинения – сегодня их назвали бы слатшеймингом – были одним из рычагов давления на всех женщин, включая богинь: чтобы избежать остракизма и угроз репутации, женщинам приходилось смирять свой нрав и тщательно контролировать свое поведение. Доказательством этому служит и рассказ об обращении Исландии в христианство на рубеже столетий, примерно в 999 или 1000 году. Во время обсуждения этой перспективы один из ораторов, выступавший за принятие христианства, завершает свою облаченную в рифму речь против язычников словами о том, что «Фрейя – потаскуха»[100]. Неизвестно, звучал ли этот стих публично, но исландский священнослужитель и историк Ари Торгильссон (1067–1148), цитирующий эти строки в «Книге об исландцах», полагал, что Фрейя была довольно важной фигурой в пантеоне скандинавских богов, что не защитило ее от подобной клеветы. Ее тревога в «Песне о Трюме» – это вполне объяснимый страх женщины, боящейся именно таких обвинений, даже если они были заслуженными.
В первой главе мы уже обращались к трагической истории уплывшей в Гренландию Хельги, описанной в «Саге о Барде, асе Снежной горы». Сначала она становится наложницей (или, возможно, сексуальной рабыней) Скегги, а после того как он ее бросает, девушку ждут новые неприятности. В саге упоминается о том, что Хельгу пытался изнасиловать норвежец Хравн – он забирается к ней в постель, но девушке удается от него отбиться. Правда, после этого случая Хельга буквально не может найти себе места, слоняясь по всей Исландии и периодически живя в горах с троллями[101]. Этот текст необычен своим вниманием к психологическим последствиям травмирующего опыты Хельги, но далеко не уникален. Похожий, хотя и гораздо более короткий, рассказ о молодой женщине, сходящей с ума после сексуального насилия, встречается в «Книге о занятии земли» (Landnámabók) – источнике XII века о первых поселенцах Исландии[102]. Однако большинство случаев сексуальных домогательств подаются как примеры, служащие угрозой чести семьи, в то время как чувствам самих женщин уделяется мало внимания. Это подтверждает предположение о том, что многие мужчины рассматривали женщин как собственность – свою или чужую, – которая может быть испорчена. При попытке изнасилования на карту ставится репутация семьи, чем часто и пользовались агрессоры, рассчитывавшие в первую очередь поквитаться с противником, а не получить сексуальное наслаждение. В этом отношение Скегги – исключение. Он прививает Хельге чувство зависимости от него. В результате после расставания она переживает личностный кризис.
Честь мужчины зависела от отсутствия нежелательных контактов между молодыми женщинами в его семье и чужаками. Чаще всего в качестве потенциальной угрозы источники описывают праздных юношей, случайно забредающих в соседние земли. Они флиртуют с девушками, но не намерены жениться, а это вполне может обернуться трагедией для всей семьи[103]. Когда до заглавного героя «Саги о Гисли» (Gisli Sursson’s Saga) доходят слухи о том, что какой-то юноша пытается соблазнить его сестру, он попросту его убивает[104]. В «Саге о скальде Кормаке» (Kormáks saga) ситуация несколько сложнее: не будучи таким же решительным мужчиной, как Гисли, отец девушки, с которой заигрывает Кормак, пытается выбить из юноши предложение руки и сердца, на что тот никак не реагирует. Несмотря на то, что Стейнгерд отвечала Кормаку взаимностью, в назначенный час он не приходит на свадьбу. После этого отец девушки решает срочно выдать ее замуж за другого, объясняя это заботой о ее добром имени. На самом деле он просто боится, что не сможет контролировать непредсказуемого и импульсивного Кормака. Отныне это будет заботой мужа Стейнгерд[105].
Сексуальная агрессия могла принимать и исключительно вербальную форму, порой находя выражение в стихах. В «Саге о названых братьях» (Fóstbræðra saga) скальд Тормод – один из двух главных героев – сочиняет любовную вису, которую он посвящает одной девушке, чем вызывает сильную обеспокоенность ее матери. Как и непрошеные визиты, такие стихи не всегда считались выражением искренних намерений. Напротив, они могли бросить тень на честь девушки и ее опекуна. Дело в том, что в любовных висах скальды часто не стеснялись в выражениях, описывая отношения между мужчинами и женщинами без прикрас[106].
Чтобы оказать влияние на женщину, мужчины порой не гнушались и приворотной магией. В «Саге об Эгиле» молодой человек пытается соблазнить соседскую девушку, вырезав руны на деревянной жерди и подложив ее в постель избранницы. Но так как руны были вырезаны неумело, девушка заболевает. Спасти ее удается лишь проезжавшему мимо Эгилю, который просто ломает жердь[107]. Исходя из описания хвори, можно предположить, что она была вызвана не столько колдовством, сколько угрозой сексуального насилия, пусть и завуалированного. Сам Эгиль в предосудительных поступках уличен не был, а вот его бог-покровитель Один не упускал случая похвастаться тем, что не раз и вполне успешно совращал девушек при помощи магии[108]. В «Деяниях данов» (Gesta Danorum) – датируемой 1200 годом хронике датского летописца Саксона Грамматика – упоминается миф, по сюжету которого Один вырезает заклинания на куске коры, которым он затем касается дочери короля русинов Ринд (в исландских источниках – Риндр). Согласно пророчеству, ей было суждено родить ему сына[109]. В результате Ринд впадает в безумие и оказывается прикованной к постели (ситуация, напоминающая угрозы Скирнира). Под видом целительницы Один убеждает отца девушки в том, что ему под силу избавить ее от хвори, если он привяжет ее к кровати, но верить ему, разумеется, нельзя. Оказавшись в покоях Ринд, он насилует ее, пока отец безмолвно наблюдает за происходящим. В этой сцене вызвать недоумение может многое от того, почему для насилия над девушкой Один выбрал обличье знахарки, до бездействия отца. В результате на свет появляется Вали – могущественный бог, повзрослевший всего за один день, движимый желанием отомстить за смерть своего брата Бальдра. Для Одина это двойная победа: он удовлетворил свою похоть и получил сына, которому суждено сыграть важную роль в событиях, описанных в пророчестве о Рагнарёке (гибели богов). Отцу Ринд остается лишь доживать свои дни в покаянии и терзаться мыслями о пережитом бесчестье[110].
Ужасное изнасилование Ринд – еще один пример того, как тела и души женщин становятся всего лишь промежуточной мишенью для мужчин, стремящихся к достижению своих целей. Саксон Грамматик не был феминистом, но обращение Одина с Ринд при попустительстве отца представляется ему неблаговидным поступком. Можно считать это проявлением христианского сострадания, но в его описании Ринд, без сомнения, изображена жертвой насилия. До этого, также скрываясь за чужими личинами, Один неоднократно пытался то поцеловать Ринд, то вызвать ее расположение дорогими подарками, но каждый раз она давала ему решительный отпор. В ее отношении Грамматик использует прилагательное, которое можно перевести как «постоянная» (peruicax). Воля Ринд оказывается сломана лишь под натиском магии, действие которой оказывает на нее буквально наркотический эффект[111]. Очевидно, что девушка осознает угрозу с самого начала и всеми силами старается защитить свою честь, уступая агрессии лишь в самом конце. Возможно, ее характеристика у Грамматика вдохновлена образом святых мучениц. Как бы то ни было, Одином движет похоть и желание получить сына, Ринд для него – просто объект достижения этих целей. Вопроса о чувствах Ринд и о ее личных границах перед Одином не стоит.
Для саг и мифов сцены, в которых мужчины обманом или с помощью колдовства берут верх над женщинами, – далеко не редкость. Но существуют и вполне реальные бахвальства сексуальными подвигами, вырезанные на дереве или камне, датируемые эрой викингов и эпохой Средневековья. Среди них можно встретить такие перлы: «Тора, я легко могу соблазнить любую женщину» или «Смидр имел Вигдис из Веретенного края»[112]. Такое поведение было частью реальности. Викинги нередко пользовались сексом как инструментом подчинения женщин, причем некоторые мужчины не гнушались даже самыми жестокими и бесчестными методами.
Притяжение полов
Мужское поведение в отношении женщин не всегда было таким агрессивным и безнравственным, как может показаться, судя по предыдущим примерам. Поэты искали расположения женщин, адресуя им стихи, в которых они хвастались боевыми подвигами на суше и на воде, а иногда даже вниманием других особ женского пола. Исландский скальд Тьодольв Арнорсон был сыном простого земледельца, а умер бок о бок с конунгом Харольдом Суровым в битве при Стамфорд-Бридже в 1066 году. Он является автором стихотворения, посвященного знатной даме, в котором он с гордостью описывает впечатляющие суда норвежского конунга и людей, которые на них плывут:
«Взгляни, моя госпожа, я видел ладью,
Спешащую из реки в океан;
Взгляни, похожий на дракона борт
Этого славного судна уже далек от берега.
<…>
Прекрасные женщины взором его провожают,
Пока их взор может достичь дракона.
Юный конунг стоит за штурвалом,
Он правит новой ладьей,
Которая плывет на запад по Нидэльве.
Весла гребцов ныряют в море;
Надсмотрщики умеет хлестать,
А гребцы мастерски вздымают весла;
Женщина стоит и дивится,
Она считает мастерство чудом.
Гребля продолжается, моя госпожа»[113].
В своем стихотворении Тьодольв Арнорсон рисует образ ладьи, спущенной на воду с берегов норвежской реки почти тысячу лет назад. Вероятнее всего, нос судна был вырезан в форме драконьей головы. Мы можем представить себе и честолюбивого молодого конунга, стоящего у руля и с одобрением смотрящего на свою храбрую команду гребцов (рисунок 3). На берегу стояли провожающие, которые хлопали в ладоши и слали конунгу добрые напутствия в его плавании. По крайней мере, скальд упоминает «прекрасных женщин», которые провожают взором «славное судно». Он надеется, что это описание произведет впечатление на даму, но упоминание о восхищении других женщин выдают в нем некоторую неуверенность.
Даже самые доблестные конунги старались выглядеть еще более мужественно в глазах девушек, которые им нравились. В «Круге Земном» Снорри Стурлусон пишет о Харальде Прекрасноволосом, конунге IX века, который объединил разрозненные норвежские земли, просто чтобы произвести впечатление на прекрасную, но высокомерную Гиду. Сначала она сравнивает Харальда с более могущественными правителями Дании и Швеции, тем самым раззадоривая его амбиции. В итоге он клянется не стричь волосы, пока не станет безраздельно властвовать над всей Норвегией[114]. Поэтам не была присуща излишняя скромность. Напротив, они как будто всеми силами стремятся к одобрению. У одного из скальдов есть строки, в которых он горделиво рассказывает даме сердца о том, с каким мужеством он и его приятели выпрыгивали с тонущего судна[115]. Он даже выражает сожаление, что этого никто не видел. Ярл Регнвальд ненадолго задерживает свое внимание на описании самой дамы и ее роскошных золотистых локонов, но лишь затем, чтобы вскоре сосредоточиться на собственной доблести, заявляя, что он «обагрил кровью когти хищного орла»[116]. Как мы видим, одобрение и восхищение со стороны женщин имело для викингов большое значение. Оставаясь незамеченной, их мужественность как бы теряла в цене, а признание, наоборот, побуждало на новые свершения.
