Валькирии. Женщины в мире викингов
Text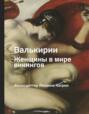


Go to audiobook
- Size: 320 pp. 14 illustrations
- Genre: popular history
Женщины в эпоху викингов
Жизнь в эпоху викингов могла казаться женщинам вполне захватывающей. Начиная с последних десятилетий VIII века, следующие лет триста или около того были временем коренных изменений в Скандинавии и Северной Европе. Влияние технологических достижений, масштабных войн и географических открытий, а также заметных перемещений людских потоков, товаров, идей и ценностей, происходивших в мире без четко очерченных границ, ощутили на себе все без исключения. В этот период власть, то и дело консолидируясь, постоянно переходила из рук в руки. В то время как судьба отдельных земель и королевств сплеталась воедино, постепенное наступление христианства навсегда меняло скандинавский мир[19]. Вероятно, кому-то эти процессы могли показаться опасными, но они также несли с собой бесконечные возможности для тех, кто был готов ими воспользоваться.
Само слово «викинг» не ассоциировалось исключительно с грабежами и набегами. Скорее всего, изначально это было вполне нейтральное существительное, описывающее людей, склонных к постоянным перемещениям (тогда это слово не использовалось как глагол, как, например, в современном английском), а также к торговле, путешествиям и освоению новых земель[20]. По этой проичине вполне оправдано его использование для людей обоих полов, которые участвовали если и не во всех из перечисленных занятий, то в большинстве из них. Тяга к путешествиям обуревала не только мужчин: женщины тоже часто выступают в роли переселенцев, причем как с мужьями, так и в одиночку. На заре эпохи викингов отдельными сообществами и племенами руководили вожди (ярлы), а более крупными поселениями – короли (конунги), жизнь которых существенно отличалась от быта простых людей. Усовершенствованная конструкция классической ладьи позволила викингам путешествовать на большие расстояния по Северному и Балтийскому морям, а также по водам Атлантики и Средиземноморья, торгуя, совершая набеги и обустраивая новые поселения по мере возможности. Приток новых богатств, сосредоточенных в руках скандинавских ярлов способствовал консолидации территорий. И женщины были неотъемлемой частью этих изменений. Они переселялись в крупные торговые поселения, такие как Рибе и Хедебю (Дания), Бирка и Сигтуна (Швеция), Каупанг (Норвегия), Йорк и Линкольн (Англия) или Дублин (Ирландия). Они сопровождали мужчин в набегах и путешествиях по всей Северной Европе, покупали меха, шкуры и моржовый жир у саамов далеко на севере в Арктике, плавали вдоль побережья Польши и вниз по русским рекам, где скандинавы возможно стали первыми правителями Древней Руси. Кроме того, викинги открывали новые земли и на Западе, которые до этого не были знакомы европейцам, обосновавшись в Исландии и Гренландии. Хоть судьба поселений на территории Северной Америке и была недолгой, мы знаем о том, что женщины там тоже присутствовали.
Несмотря на все эти изменения, образ жизни скандинавов оставался преимущественно сельским, а фундаментальная социальная структура состояла из домашних хозяйств. Люди жили в традиционных «длинных домах», архитектуру и стилистику которых викинги привносили с собой повсюду, где бы они ни поселялись[21]. Будь то в Скандинавии или в колониях викингов, женщины часто отвечали за ведение хозяйства на пару с мужем или в одиночку (если мужчины уезжали или умирали), тем самым беря на себя важную роль в жизни как своего рода, так и всей общины в целом. Но это не означает, что их дни были однообразны и скучны. С ростом спроса на продукты и товары (особенно на ткани) они могли воспользоваться новыми возможностями, чтобы выходить за рамки собственного хозяйства, налаживая деловые и торговые связи с другими людьми на рынках или сезонных собраниях. Благодаря своей смелости и находчивости многие женщины-викинги могли упрочить как свое материальное положение, так и общественный статус, порой добиваясь даже некоторого политического влияния, действуя либо через мужей, либо самостоятельно. Нам известны примеры того, как женщины, имея авторитет и харизму, становились советниками правителей или даже брали власть в свои руки,
Пол человека является фундаментальной категорией, которая помогала выстраивать структуру общества на протяжении всей истории, но она намного сложнее простой бинарной модели «мужского» и «женского» начал. Одним из факторов, составляющую гендерную идентичность (особенно в отношении женщин), является возраст[22]. Женщины воспринимались (так часто происходит и сегодня) по-разному в зависимости от того, замужем они или нет, способны ли они к деторождению. В то время как утрата мужа могла как подарить долгожданную свободу, так и поставить под угрозу жизнь вдовы. Литературные источники и анализ захоронений свидетельствуют о том, что порой пожилые женщины удостаивались больших почестей, хоть иногда их и считали колдуньями, причем одно другому не всегда противоречило. Согласно древнескандинавским законам, как замужние женщины, так и вдовы обладали достаточной степенью свободы и относительной безопасностью. Предусмотрительность в отношении детей также говорит о том, что они рассматривались как ценные члены общества. А вот девочки-подростки были существенно ущемлены в правах: в большинстве случаев, касавшихся замужества, они не имели права голоса, а все решения принимали старшие родственники, исходя из собственных интересов. На протяжении книги мы будем подробно обсуждать каждый из этих этапов жизни, чтобы обнажить весь многогранный характер опыта, которым обладали женщины той эпохи.
Социальный статус – еще один важный фактор, под влиянием которого у разных социальных групп, вероятно, доминировали разные гендерные модели. Отдельным женщинам иногда удавалось стать авторитетными и властными фигурами (чаще всего – благодаря своему происхождению или выгодному замужеству), но в общем и целом даже они уступали в правах находящимся у власти мужчинам. Еще сильнее их жизнь отличалась от жизни простых земледельцев, не говоря уже о слугах и рабах, которые, скорее всего, были вынуждены влачить довольно жалкое существование. В рамках такого классового разделения места для всеобщей женской солидарности практически не оставалось. Вне зависимости от возраста и сословия гораздо лучше жилось состоятельным женщинам: наличие движимого имущества или земли во многом определяло, сможет ли она выйти замуж, содержать себя и свою семью. Происхождение и этническая принадлежность также играли свою роль. В те времена ни мужчины, ни женщины, скорее всего, в повседневной жизни не думали о себе как о скандинавах. При этом вполне вероятно, что мысли об этом посещали их во время торговли или заключения смешанных браков с представителями других этнических групп, включая выходцев с Британских островов или саамов, кочевого финно-угорского народа, жившего в эпоху викингов намного южнее Скандинавского полуострова. Изотопный и другие методы анализа показывают, что в Скандинавии наблюдался приток переселенцев, особенно в (прото-)городские поселения: к примеру, в эпоху поздних викингов люди, родившиеся в Швеции, составляли лишь половину населения Сигтуна[23]. В других краях и в смешанных поселениях одежда и язык викингов заметно отличали их от других народов. Далее в книге я буду затрагивать эти и другие аспекты по мере необходимости. Сейчас достаточно сказать, что идентичность женщин-викингов была сложной и неоднородной, развиваясь на протяжении всей жизни отдельной личности, меняясь с течением времени и появлением новых обстоятельств.
Рукописи, захоронения и камни
Немногие письменные источники, созданные самими скандинавами, дошли до наших дней. Преимущественно это довольно краткие надписи на рунических камнях, которыми усеяны живописные пейзажи Швеции и Дании, но заметно реже встречающихся в Норвегии и на Британских островах. Эти резные письмена хранят имена и подробности родственных отношений между людьми, жившими тысячу лет назад. Интерпретируя руны так или иначе, мы можем приблизиться к пониманию того, что викинги думали о себе и своем окружении. Очень часто надписи сопровождают изображения – следы перехода от язычества к христианству. Рунические камни также позволяют нам чуть глубже заглянуть в судьбы женщин, которые адаптировались к этим переменам. Важными источниками информации о жизни викингов служат и современные им европейские тексты, написанные либо торговцами и миссионерами, посещавшими Скандинавию, либо жертвами набегов на континент и Британские острова. Отдельные топонимы дополняют собой этот увлекательный пазл, свидетельствуя о путях распространения языческих культов или доказывая существование поселений викингов за пределами Скандинавии. Камни на острове Готланд и у побережья Швеции, а также гобелены, резные изделия, металлические предметы и крошечные амулеты из золотой фольги – все они украшены изображениями героев и мифических сцен, а их анализ позволяет нам лучше понять представления викингов о смерти и загробной жизни. Кроме того, судя по ним, мы узнаем, какие наряды и прически носили женщины в те далекие времена.
Важным источником наших знаний об эпохе викингов, конечно же, служат и захоронения. Погребальные приношения и прочие находки позволяют предположить, что женщины в ту эпоху имели разные идентичности. Они не были исключительно «хранительницами очага», которые готовили и ухаживали за своими родными, хотя это и входило в круг их обязанностей, в связи с чем их роль часто неточно (и загадочно) описывали как «пассивную». Многие женщины выполняли те же задачи, что и мужчины (и наоборот): они исследовали мир, управляли землями или текстильными мастерскими, работали и торговали. Хотя у нас нет однозначных доказательств существования единовластных правительниц, отдельные наиболее богатые захоронения позволяют предположить, что некоторые женщины успешно занимались политикой и общественными делами. Археология – это обширная область знания, в которой используются разные подходы от исследования находок в лабораториях до обращения к теоретическим основам гуманитарных и социальных наук. Хотя человеческие кости довольно плохо сохраняются в земле, их изотопный и углеродный анализ может многое рассказать о питании людей, а также о том, жили ли они в том же месте, где были захоронены (довольно часто это было совсем не так). Плохое состояние костей может также свидетельствовать о врожденных дефектах, плохом состоянии здоровья или физических травмах, а форма таза и черепа человека может указывать на биологический пол. Изучение архитектуры и материальной культуры, того, как норвежцы организовали свое жизненное пространство, предметы, которые они использовали в своей повседневной работе или брали с собой в могилу, и даже то, что они считали мусором, – все это помогает нам воссоздавать картину их повседневной жизни, разрушать устоявшиеся стереотипы и узнавать, как на самом деле жили женщины, во что верили, как к ним относились окружающие.
В совокупности все эти источники способны многое рассказать нам о викингах, но они не могут отражать все те верования, традиции и ценности, упоминания о которых мы встречаем в законах и литературных произведениях, написанных их потомками. Хотя с течением времени они были во многом изменены и адаптированы, некоторые первоначальные фрагменты этих текстов и трактатов относятся к эпохе викингов. Они требуют к себе особого подхода: литературоведы и историки до сих пор ломают головы над тем, как именно средневековые писцы перерабатывали имевшиеся у них материалы. Мы знаем, что одни из описанных в сагах событий, скорее всего, не происходили вовсе, а другие были сильно приукрашены в зависимости от взглядов и убеждений тех, кто переписывал и составлял тексты. Рассказчики часто брали за основу отдельные сюжеты из мифов и легенд, но и их нередко дополняли выдуманными диалогами и персонажами, меняя детали. Очень распространенным литературным приемом было использование пророчеств и предсказаний для нагнетания атмосферы загадочности[24]. Так что саги во многом являются продуктом своего времени, к тому же их написание с учетом дороговизны материалов было уделом лишь немногих избранных. Авторами саг, бесспорно, могли быть только очень грамотные и начитанные люди. Ученые мужи и писцы, исповедующие христианство, несомненно, испытывали уважение к традициям, но на их текстах сказывались и нормы современной им грамматики, риторические приемы и образы европейской литературы, включая средневековые романсы. Образование и убеждения авторов влияли на то, как и что они писали, заставляя менять текст в соответствии с собственными взглядами, а также со вкусами своего покровителя или аудитории. Некоторые были озабочены сохранением правдоподобия, в то время как другие щедро использовали фольклорные и сверхъестественные мотивы вплоть до фантазийных элементов. Да, саги порой написаны довольно сухим языком и не раскрывают внутренний мир персонажей глубоко, а их кажущаяся объективность обманчива. Но очарование этих текстов сохраняется до сих пор, благодаря ярким женским персонажам, о которых пойдет речь на страницах предлагаемой книги.
Хотя саги и поэмы, из которых мы черпаем свои сведения о скандинавской культуре, во многом сформированы литературной традицией той эпохи, они все же пересказывают истории, уходящие своими корнями в далекую древность. Мы знаем об этом из подтверждающих свидетельств, особенно из сюжетов, сохранившихся в древнеанглийских и средневековых немецких поэмах, которые наследуют той же германской повествовательной традиции. Рунические надписи эпохи викингов – еще один важный вид свидетельств. Например, в эддической поэме XIII века упоминается легендарный персонаж Тидрек, имя которого мы также встречаем на руническом камне Рёк (около 800 г.) в провинции Эстерготланд в Швеции. Таким образом, исландские авторы, писавшие спустя 150 или более лет после окончания эпохи викингов, использовали в своих текстах сюжеты и персонажей, которые являются частью обширной и древней традиции. Это говорит об их непреходящей актуальности, о способности сказать что-то важное про структуру и характер общества (как древнескандинавского, так и средневекового).
Образ мышления людей, выраженный в скандинавских сагах и поэзии, был продуктом общества без государственной иерархии и исполнительной власти: вплоть до 1262 года Исландия была регионом с теми же социальными структурами и методами разрешения конфликтов, что и в эпоху викингов. Как мы увидим дальше, главной «ячейкой общества» в то время была семья, а ее важнейшим активом – честь, которая отстаивалась не только в открытом бою, но и методами усобной вражды и кровной мести. Таким образом, хоть саги и являются литературными произведениями, построенным в соответствии с повествовательными канонами эпохи, это не лишает их жизненности и правдоподобия – качеств, благодаря которым рассказчики обращали внимание читателей на актуальные проблемы и вызывали сильный эмоциональный отклик. Кроме того, правдивость отдельных элементов в сагах можно доказать и другими способами. Унн «Многомудрая» или Гудрид Торбьярнардоттир были бесстрашными первопроходцами, которые осваивали новые земли на западе, обосновывались в Исландии, Гренландии и даже Северной Америке. Это примеры ярких литературных персонажей, но их передвижения подкрепляются археологическими находками. Даже если этих двух конкретных женщин никогда не существовало, наверняка были те, кто на них походил.
Другими словами, литературные тексты представляют собой непростые источники для работы, но их не следует отбрасывать как чистый художественный вымысел, не заслуживающий нашего внимания. При условии, что мы распознаем, какие элементы саг являются повторяющимися литературными мотивами, а какие могут отражать далекую реальность, письменные источники свидетельствуют о самобытности мировоззрения и образа жизни викингов. У них был несентиментальный, прагматический образ мышления, который во многих случаях может показаться безжалостным по отношению к человеческой жизни, как у валькирий, которые не испытывают сочувствия к воинам и конунгам, неся им смерть. Тот факт, что валькирии и Фрейя – одни из главных женских персонажей в скандинавской мифологической культуре, является следствием того, какой огромный вклад женщины вносили в жизнь общества эпохи викингов благодаря своему труду и мудрости.
Глава 1. Младенчество и детство
«Около Сванхильд
Сидели рабыни,
Дочь мне была
Детей всех дороже;
Ярко сияла
Сванхильд в палате,
Как солнечный луч
Сияет и блещет!»[25]

Эти пронзительные слова, в которых сквозит материнская любовь, произносит Гудрун Гьюкадоттир – женщина, которая на протяжении догого времени была вынуждена переживать одну трагедию за другой. Она принадлежала к знатному роду. Собственная мать навязала ей ужасное замужество, Гудрун теряет трех братьев, двух мужей, дочь и четырех сыновей. Жестокие обстоятельства этих потерь составляют основу вошедших в «Королевский кодекс» эддических «Песен о Гудрун» и прозаической «Саги о Вёльсунгах» (см. предисловие). Но Гудрун не была лишь жертвой событий, некоторые из этих смертей лежат на ее совести. В ней мы видим образ детоубийцы.
Подробности того, как Гудрун Гьюкадоттир пришла к убийству своих детей, складываются в непростую историю: не будучи изначально человеком добрым и мягким, она меняется под воздействием постоянных распрей и убийств, составлявших непременный атрибут мира, в котором она жила. Первопричина этих изменений уходит своими корнями в далекое прошлое, они – результат жадности и предательства других людей, а не ее собственных. Атли, второй муж Гудрун, хотел заполучить золото ее братьев, поэтому заманил их в ловушку и убил. Сами братья до того убили первого мужа Гудрун – победителя дракона Сигурда – опять же из-за золота. Но даже при таких обстоятельствах смерть братьев от рук Атли является для Гудрун тяжелым ударом, который она не может ему простить. Она решается на самый ужасный вариант мести из всех возможных и убивает двух сыновей, которых она родила от него. Один поэт описывает, как мальчики бросаются в объятия матери, когда она подзывает их: сыновья боятся, они чувствуют, что что-то не так, пытаются сопротивляться, но при этом не плачут, когда мать перерезает им горло. Смешивая их кровь с медом, который она подает Атли вместе с приготовленным мясом его сыновей, она тем самым превращает его в каннибала. После этой роковой трапезы Атли начинает беспокоиться за сыновей и спрашивает, куда они ушли, но поправить уже ничего нельзя. Торжествующая Гудрун хвастается перед мужем рассказом о своей мести и тем, как она обращалась с телами сыновей:
«Вышла Гудрун,
Чтоб Атли встретить
С кубком в руках
Золотым, как пристало;
“Конунг, прими
В палатах твоих
От Гудрун зверенышей,
В сумрак ушедших!”
<…>
“С медом ты съел
Сердца сыновей —
Кровавое мясо,
Мечи раздающий!
Перевари теперь
Трупную пищу,
Что съедена с пивом,
И после извергни!”»[26].
В этих строках чувствуется отвращение Гудрун Гьюкадоттир, наблюдающей за тем, с какой жадностью и грубостью Атли вгрызается в мясо. Хотя, это чувство может проистекать и из понимания того, что это она превратила мужа в каннибала. Покончив с местью за братьев, она умерщвляет Атли, заколов его, а затем поджигает палаты, тем самым положив конец его правлению и всему роду.
Спустя годы, мы снова встречаемся с Гудрун во время третьего замужества и очередной утраты: ее юная дочь Сванхильд, выданная за пожилого ревнивца, несправедливо обвинена в супружеской неверности и казнена своим мужем. Даже эта потеря оставляет Гудрун непреклонной: она посылает двух оставшихся сыновей – Хамдира и Серли – отомстить за сестру. При этом все трое прекрасно понимают, что сыновья не вернутся домой живыми. Как и в предыдущем случае, Хамдир и Серли сопротивляются, пытаются переубедить мать, умоляют ее, но их слова тщетны. Даже перспектива потерять оставшихся в живых детей не способна побороть стальной решимости Гудрун. Месть для нее важнее, чем жизнь детей.
Такая бескомпромиссность, при которой собственная плоть и кровь приносится в жертву честолюбию, может показаться чем-то странным, отталкивающим и даже ненормальным многим современным читателям. Возникает закономерный вопрос, не относились ли викинги к детям как к ресурсу, считая их всего лишь пешками, которыми можно пожертвовать в игре с местью. Другие тексты тоже говорят о жестком и черством отношении матерей к детям. В «Саге о людях из Лососьей долины» рассказывается о женщине, обиженной на своего бывшего возлюбленного[27]. Застав его ранним утром врасплох, забавляющимся с маленькой дочерью, она запросто оставляет ребенка и уходит прочь. В средневековых законах содержатся косвенные, но вполне правдоподобные упоминания случаев детоубийства. Немного преувеличенным кажется рассказ одного испанского путешественника – в X веке он посетил город викингов Хедебю – о том, что его жители бросали в море детей, которых не могли прокормить[28]. Подобные примеры создают впечатление, что для викингов младенцы и дети были не источником радости, а нелюбимыми созданиями, от которых можно легко избавиться, бросить или убить.
Викинги действительно обладали репутацией жестоких людей, но она сложилась в результате набегов на другие земли, когда насилие совершалось над чужаками, а не над кровными родственниками. Неужели они и вправду были настолько свирепыми, чтобы бросать собственных детей на произвол судьбы или убивать их самыми жестокими способам, какие только можно вообразить, – перерезав горло, утопив или отправив на верную гибель в бою? Неужели викинги не любили своих детей? Коротко можно ответить, что, конечно же, любили. И хотя их представления о нормах воспитания радикально отличались от современных, большинство викингов хорошо относились к своим детям, заботились об их физическом и эмоциональном благополучии как могли Героический эпос сложно воспринимать как достоверный источник для восстановления исторических событий. Кроме того, надо понимать, что саги не оправдывают и не идеализируют решение принести детей в жертву ради чести семьи или других высоких принципов. Напротив, заглавная героиня эддической поэмы «Подстрекательство Гудрун» (Guðrúnarhvöt) решительно выбирает для своих сыновей Хамдира и Сёрли доспехи и радостно смеется, отправляя их мстить за сестру, но после их отъезда плачет[29]. Мы не знаем, слезы ли это раскаяния, или Гудрун осознает, что впредь ей предстоит жить с неотступной мыслью о том, что она послала сыновей на смерть. Поэма дает понять, что женщина предвидит трагические последствия своего выбора. Скандинавский эпос свидетельствует о том, что викинги были готовы пойти на ужасные жертвы, когда речь шла о вопросах чести. В «Подстрекательстве Гудрун» превосходно передаются чувства внутреннего смятения и раскаяния, которые, вероятно, испытывали люди, столкнувшиеся с выбором между честью и любовью к своим детям.
Кроме того, история Гудрун Гьюкадоттир позволяет рассмотреть гендерные стереотипы и ценности, связанные с образом дочери. Гудрун настаивает на том, чтобы Сванхильд была отомщена: ее убийство она считала преступлением против всего рода, равноценным убийству мужа или брата. Представления о чести заставляют ее искать возмездия, даже если оно может повлечь за собой смерть или заклание других детей. Гибель Сванхильд она ощущает не только как утрату в плане социального положения (его можно измерять и в численности дочерей на выданье), но и на уровне эмоций. Несмотря на довольно жестокие моральные принципы, которых придерживается Гудрун, и на все ужасы совершенного ей и пережитого кровопролития, она вполне способна испытывать глубокие чувства в отношении своего ребенка. Рассказчик «Подстрекательства Гудрун» вкладывает в уста матери простые, но пронзительные слова, приведенные в начале главы. В них она сравнивает дочь с ярким солнечным лучом. Затем осиротевшая Гудрун вспоминает о том, с какой любовью она украшала дочь перед замужеством, о драгоценных золоченых нарядах, в которые она ее одела. Оплакивая Сванхильд, она горюет о том, что белокурые волосы девушки были втоптаны в грязь конскими копытами. При этом она называет смерть дочерь самой ужасной трагедией, выпавшей на ее долю. Эддические поэмы славятся описаниями жестокостей, но их авторы вполне могли адекватно выразить чувства материнской любви и горечи утраты.
Хотя девушек, с которыми обходились так же жестоко, как со Сванхильд, было немного, но они часто умирали преждевременно. Их юные тела просто не выдерживали тяжелых условий жизни в те суровые времена, будь то антисанитария или другие угрозы здоровью. Раскопки захоронений показывают, что скорбящие родственники уделяли много внимания погребению своих дочерей, с нежностью облачая их в лучшие одежды и оставляя им богатые подношения перед тем, как отправить в последний путь. Огромная любовь к детям и жгучее горе утраты были, по всей видимости, хорошо известны большинству родителей той эпохи.
