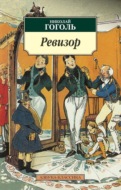Read the book: «Герой нашего времени»
© В. М. Маркович (наследник), вступительная статья, 2003
© И. С. Чистова, комментарии, 2003
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2011
Издательство Азбука®
Загадки лермонтовского романа
В 1840 году Михаил Лермонтов, уже известный в ту пору поэт, опубликовал роман, странный во многих отношениях. Странное впечатление производил его герой, сразу приковавший к себе внимание читателей. «Необъятные силы» Печорина (так звали героя) проявлялись в деятельности ничтожной и пустой (главным образом в любовных интрижках и недобрых шутках над приятелями). Но это почему-то не лишало его ореола исключительности. Точно так же творимое им зло не лишало его обаяния, доходящего до гипнотической власти над душами людей. Впрочем, и его собственная душевная жизнь была полна труднообъяснимых (т. е. опять-таки странных) противоречий. Печорин способен на добрые чувства и благородные поступки, он может любить, испытывать жалость и сострадание, может уверовать в счастье и устремиться к нему. Но в других ситуациях он может испытывать зависть, злобу, вызванную тем, что задето его самолюбие, может быть равнодушным, жестоким, мстительным, чуть ли не мелочным. А в конечном итоге получается так, что ни те ни другие мотивы не имеют в жизни Печорина решающего значения. Увлечение и надежда не мешают разлюбить Бэлу, жалость и сострадание не препятствуют жестокому разрыву с княжной Мери, порыв, казалось бы свидетельствующий о великодушной готовности к прощению («откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все»), не исключает возможности через минуту убить Грушницкого, причем убить без колебаний. То же самое можно сказать и о мотивах противоположных: например, при всей очевидности злобных чувств, бушующих в Печорине во время дуэли с Грушницким, не менее очевидно то, что Печорин убивает вчерашнего приятеля отнюдь не в порыве злобы. Почему так получается, остается неясным. И при всем том этот странный человек назван «героем нашего времени» – еще один повод для недоуменных вопросов.
Странным было и положение главного субъекта повествования в структуре рассказа о герое. В первом издании романа повествователь мог отождествляться с подлинным его создателем: начальной фразе («Я ехал на перекладных из Тифлиса») предшествовали только заглавие романа и заглавие его первой части, а также подзаголовок «Сочинение М. Лермонтова», с которым эта фраза непосредственно соотносилась. Во втором издании (1841) появилось специальное авторское «Предисловие». Оно отделило реального автора (открыто рекомендовавшегося творцом портрета, «составленного из пороков всего нашего поколения») от условной фигуры «путешествующего офицера», для которого Печорин как бы действительно существующий конкретный человек. Но осязаемая связь между условным повествователем и подлинным творцом романа сохранилась и в этом варианте: стиль авторского «Предисловия» к роману неотличимо дублируется стилем «Предисловия» к «Журналу» Печорина, которое принадлежит «путешествующему офицеру». Стилистика двух «Предисловий» настолько однородна, что в непосредственном читательском восприятии оба они могут звучать как тексты одного автора. А стиль «Тамани», первой части печоринского «Журнала», в свою очередь, часто неотличим от стиля «основного» повествователя. Читатель, например, может заметить сходство приемов описания девушки-контрабандистки в «Тамани» с манерой описания Печорина в рассказе «Максим Максимыч». Порой (особенно в пейзажных интродукциях) читатель сможет забыть о том, что перед ним не авторский рассказ. В иные моменты (более всего в точках переходов от описаний к действию) Печорин напомнит о себе, и мы заметим, что рассказ ведет он. Но отрезки, производящие тот или иной эффект, сменяют друг друга столь быстро и непринужденно, что получается своеобразная интерференция набегающих друг на друга впечатлений. Нечто подобное возникает и в «Княжне Мери», тоже составляющей часть «Журнала», и даже в «Фаталисте», где монолог Печорина о «людях премудрых» дублирует стиль размышлений «путешествующего офицера», звучавших за пределами печоринского дневника. Так образуется сложная система «сообщающихся» субъектных сфер, в которой реальный автор, повествователь и вымышленный герой одновременно разграничены и нераздельны, а читатель, пытающийся найти надежные ориентиры для оценки изображаемого, оказывается в трудном положении.
Странным выглядело вообще все построение романа. В нем не было привычного для читателей сплошного, цельного, хронологически последовательного повествования. «Герой нашего времени» состоял из пяти обособленных повестей и рассказов, связанных между собой только главным действующим лицом. К тому же полная история жизни Печорина из этих фрагментов не складывается: они так и остаются отдельными эпизодами, выхваченными из ряда других как будто бы случайно. Да и «естественный» порядок их расположения нарушен: в «Журнале» Печорина рассказывается о событиях более ранних, чем те, которые описаны в частях, предшествующих «Журналу».
Если восстановить хронологическую последовательность эпизодов, образующих части «Героя нашего времени», то она окажется примерно следующей. Печорин за какую-то историю выслан из Петербурга на Кавказ. По дороге к месту новой службы происходит его случайное столкновение с контрабандистами («Тамань»). Герой участвует в военных действиях, после чего ему дают отпуск для лечения минеральными водами в Пятигорске и Кисловодске, уже отсюда за дуэль с Грушницким его отправляют в отдаленную крепость под начальство Максима Максимыча («Княжна Мери»). Во время пребывания там Печорин отлучается в казачью станицу, где заключается его страшное пари с Вуличем («Фаталист»). За этим следуют похищение и гибель Бэлы («Бэла»). Из крепости Печорина переводят в Грузию, затем он возвращается в Петербург. Через несколько лет, проезжая через Владикавказ по дороге в Персию, герой встречается с Максимом Максимычем и «путешествующим офицером» («Максим Максимыч»). На обратном пути из Персии Печорин умирает («Предисловие к «Журналу» Печорина»). Читатель может сам подсчитать, как часто нарушается хронология «реальных» событий в композиции лермонтовского повествования.
Поразмыслив, читатель, несомненно, обнаружит в этих нарушениях определенную целесообразность. Точнее, определенную логику приближения к истине. Сначала Печорин входит в кругозор читателя через посредство наивно-простодушного рассказа Максима Максимыча. Затем он становится объектом прямых наблюдений гораздо более проницательного «путешествующего офицера». Развертывается его характеристика, углубленно-аналитическая, но все же ограниченная возможностями внешней точки зрения. И лишь после этого наступает черед психологической интроспекции: в «Журнале» Печорина душевная жизнь героя раскрывается изнутри. Так создается иллюзия объективного, не зависящего от авторской воли существования героя. И другая иллюзия – реального процесса постижения человека другим человеком.
Архитектоника романа не только строит объективный образ, но и воплощает, казалось бы, вполне определенную концепцию судьбы Печорина: важнейшим событиям истории героя предшествует сообщение о его ранней смерти. «Все метания героя, все проявления его энергии наперед обречены, – констатировала Е. Н. Михайлова, известная в свое время исследовательница прозы Лермонтова, – у них нет развития, нет надежд: они приведут лишь к заранее поставленной точке (вернее, многоточию) – пустоте, бессмыслице гибели»1. Концепция как будто бы ясна, но не случайно «заранее поставленная точка» заменяется многоточием. Характеристика сюжетного действия оказывается двойственной: оно «еще до своего начала упирается в тупик и одновременно обрывается, не получая завершения»2.
Действительно, наряду с незавершенностью композиционной (выразившейся в пунктирности фабулы и «перевернутом» порядке повествования) в романе обнаруживается и незавершенность внутренняя, глубинно-смысловая. Концовкой романа является не сообщение о смерти Печорина (читатель может об этом позабыть, знакомясь с увлекательными рассказами о похождениях героя в «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисте»). Роль концовки играет диалог, в ходе которого обсуждается вопрос, так и не получающий определенного решения.
Печорин обращается к Максиму Максимычу, чтобы узнать его мнение о предопределенности человеческой жизни. Момент этот мог бы стать переломным. Ведь до сих пор вопрос о предопределении (очень существенный для объяснения истории героя) был предметом размышлений скептика Печорина и поэтому неизбежно оставался открытым. Теперь тот же вопрос выносится на суд простого сознания. Кажется, на него будет дан однозначный ответ, и весь роман обретет законченность и ясность. Но простое сознание в романе Лермонтова по-своему столь же далеко от определенного вывода, как и самый изощренный скептицизм. Максим Максимыч сначала объясняет исход пари, предложенного Вуличем, обыкновенной случайностью: «…эти азиатские курки часто осекаются». А затем, без всякого логического перехода, дает фаталистическое истолкование ситуации: «Впрочем, видно, так уж у него на роду было написано». «Ключевой» вопрос как бы повисает в воздухе. И получается, что внутренняя динамика романа выводит к неразрешенной загадке.
* * *
Стремление к незавершенности пронизывает в «Герое нашего времени» все уровни текста. И способ осуществления этого стремления достаточно ясен. Здесь одновременно действуют несколько различных механизмов смыслообразования, каждый из которых обязан своим происхождением какой-то хорошо известной традиции (или новой, еще только оформляющейся, но уже привлекшей к себе внимание тенденции). Однако совмещаются эти механизмы таким образом, что действие каждого из них не доводится до предусмотренного соответствующей традицией (или тенденцией) логического конца. И в результате получается нечто парадоксальное, ничему известному не равное, а потому и неразрешимо загадочное.
В романе заметны, например, признаки движения к реализму. Прежде всего – интерес к социально-исторической обусловленности поведения и судьбы человека (само заглавие «Герой нашего времени» и демонстрирует этот интерес). Другим признаком того же рода является разработка аналитического психологизма. Психология Печорина раскрывается в разных измерениях и с разных точек зрения – интроспекцией (исповедальной рефлексией прежде всего), описаниями, объективным смыслом сюжетных ситуаций, реакциями других лиц, композиционной соотнесенностью печоринского характера с иными. Многообразие способов психологической характеристики придает образу героя объемность, закрепляя его объективацию.
Однако и социальная детерминированность характера, и психологическое объяснение поступков или побуждений героя развертываются в ощутимых пределах. Герой показан вне своей обычной социальной сферы, где его поведение было бы безусловно типичным («водяное общество» Пятигорска – не петербургский «большой свет»). Классовые черты Печорина не акцентируются: сословный аристократизм порой неуловимо сливается с духовной элитарностью. Столкновения, обусловленные сословно-классовыми противоречиями (такова «плебейская» враждебность драгунского капитана к петербургскому денди), заслоняются конфликтами чисто психологическими: Грушницкий ненавидит Печорина не за то, что тот аристократ. Сама детерминированность характера героя воспитанием и воздействием среды все время остается несколько проблематичной, потому что все мотивировки подобного рода вводятся субъективными декларациями Печорина и звучат в таких ситуациях, когда вопрос об их отношении к истине не может быть решен однозначно3. То же самое можно сказать и об исповедальной рефлексии, оформленной в характерной для 1810–1830 годов аналитической манере: она проникает в глубину душевной жизни героя, но проникает не так далеко, как эта манера предполагает.
Показательным примером может служить запись, комментирующая переживания Печорина во время его первой встречи с княжной Мери. Приятель Печорина Грушницкий восхищается княжной. Печорин же в ответ демонстрирует холодное и почти циничное равнодушие, хотя на самом деле взволнован не меньше Грушницкого.
«Я лгал; но мне хотелось его побесить». Так начинает свою работу рефлексия героя. Первое объяснение, которое он находит для своего поступка, выдержано в духе романтического шаблона: «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя».
Затем появляется и второе объяснение, явно осложняющее первое и тем самым преодолевающее его банальность: «Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка по моему сердцу; это чувство – было зависть; я говорю смело „зависть“, потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно».
Рядом с чувством, возвышающим героя в глазах романтически настроенных читателей, обнаруживается чувство вполне прозаическое и заурядное (ссылка на общий закон, определяющий реакцию целой категории людей, это дополнительно оттеняет). Появляется задача для психологического анализа, который мог бы выяснить взаимную связь двух различных, но каким-то образом совместившихся переживаний. Рефлектирующий герой предшествующей и современной Лермонтову французской субъективно-аналитической прозы, герой популярных тогда Констана или Мюссе, постарался бы уловить диалектику их переплетения и внутреннего взаимоперехода. Но герой Лермонтова только фиксирует их – сначала одно, потом другое – без малейших попыток установить какую-нибудь зависимость друг от друга, различить первичное и вторичное или, по крайней мере, главное и второстепенное. Рефлексия не идет дальше регистрации чувств, удостоверяя ее надежность ссылкой на уже известные общие законы (данного характера или человеческой психики вообще). А это значит, что рефлексия так и не переходит в психологический анализ.
* * *
Действие механизма психологических объяснений приостанавливается по-разному. В некоторых ситуациях они могут просто отсутствовать или внезапно прекратиться, хотя ситуации таковы, что читатель нуждается в объяснениях.
Одна из таких ситуаций возникает в конце рассказа о дуэли Печорина с Грушницким. До определенного момента Печорин, как обычно, фиксирует по отдельности все различные чувства, которые он испытывает. Вот характеристика его душевного состояния после того, как Грушницкий воспользовался правом первого выстрела и ждет продолжения, ничем не рискуя, потому что его секунданты намеренно не зарядили печоринский пистолет: «Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку…»
Но затем ситуация резко изменяется: в Грушницком заговорила совесть, Грушницкий не хочет продолжать нечестную игру. Чувства Печорина теперь уже никак не могут остаться прежними, а у читателя не может не возникнуть потребность в новых психологических объяснениях. Но их нет и не будет до самого конца эпизода: Печорин только воспроизведет в записи свои слова и действия, хотя простого рассказа о событиях явно недостаточно для понимания сложного и, по-видимому, противоречивого психологического содержания ситуации. Напряженное читательское внимание неизбежно устремляется в другом направлении. Оставленное без всяких объяснений течение событий может быть воспринято как нечто фатальное, – видимо, именно этот эффект и нужен автору в данном случае.
Впрочем, не только в данном случае. Психологические объяснения отсутствуют или прекращаются всегда, когда описываются события, имеющие «судьбоносное» значение в истории героя (смерть Бэлы, момент разрыва с Мери и т. д.). Все такие события как бы возвышаются над уровнем психологии и могут предстать как следствия таинственных сверхличных причин. Тем самым обозначен предел компетенции объясняющего психологизма, появляется свободное смысловое пространство, открытое для мотивировок иного порядка.
Тот же эффект может возникнуть иначе. Как уже было отмечено выше, наблюдательным, фиксирующим объяснениям в романе Лермонтова сопутствуют ссылки на общие законы человеческой психики. Эти ссылки – необходимый элемент объяснений, ограниченных рамками регистрирующего наблюдения. Именно опора на законы, известные каждому читателю по собственному опыту, дает повествующему возможность продвинуться за границу очевидного и легко угадываемого: при этом условии даже глубинной психологической интроспекции обеспечено читательское доверие. Такой принцип неоднократно используется в «Журнале» Печорина, но иногда он здесь внезапно и необъяснимо не «срабатывает».
«С тех пор как мы знаем друг друга, – говорит Печорину Вера, – ты ничего мне не дал, кроме страданий». И в то же время не без удивления сознает, что она никогда не могла его забыть. «Может быть, – мысленно отвечает ей Печорин, – ты оттого-то именно меня любила: радости забываются, а печали – никогда!..» Закон, о котором ведет речь герой, явно универсальный, логика его понятна. Тем удивительнее признание самого Печорина, прозвучавшее немного раньше: «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки… Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего». Выходит, что в отношении самого Печорина всеобщий закон человеческой природы почему-то не действует.
Другая странность того же рода обнаруживается в «Фаталисте». Рассуждая о слабостях современного поколения, Печорин особо выделяет пагубное воздействие постоянных сомнений: переходя «от сомнения к сомнению», люди теряют способность к действию, силу воли, активность стремлений. Опять вырисовывается универсальный закон человеческой природы и опять оказывается, что на Печорина он почему-то не распространяется. «Я люблю сомневаться во всем», – замечает он несколько позже, но затем неожиданно продолжает: «Это расположение ума не мешает решительности характера…» Перед читателем опять нечто таинственное и, может быть, роковое, опять появляется свободное смысловое пространство, открытое для непредсказуемых мотивировок и недоуменных вопросов.
* * *
Правда, в одной из самых глубоких исповедей, доверенных «Журналу», Печорин как будто бы прямо указывает на единую и вполне понятную первооснову всех своих действий и стремлений: «…я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает… Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость». Складывается как будто бы всеобъемлющее социально-психологическое объяснение: печоринскую «ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути», легко возвести к взаимодействию двух четко выделенных причин, одна из которых – неспособность любить, другая – подавленное и принявшее иную форму честолюбие. Такое объяснение легко связывалось с популярными «идеями века» и, в частности, с фурьеристской теорией «возвращения страстей», утверждавшей, что естественные стремления человека, подавляемые «неправильным» общественным устройством, все-таки прорываются в жизнь, но реализуются в извращенной форме4. Намек на «обстоятельства», которыми подавлено печоринское честолюбие, легко конкретизировался в читательском восприятии, соотносившем судьбу героя с общественно-политической атмосферой современности. Ведь и в самом деле шла эпоха подавления активной мысли, независимых стремлений, всякой личностной инициативы. В таком контексте Печорин как раз и представал героем своего времени. Прежде всего – воплощением порожденного временем стремления к деятельной и осмысленной жизни. И вместе с тем – жертвой исторически обусловленной невозможности это стремление осуществить.
Казалось бы, все проясняется. Однако содержание, поднятое на поверхность рефлексией героя, и здесь перерастает рамки социально объяснимой психологии. Представление о подавляющих печоринское честолюбие обстоятельствах явно не удерживается в каких-либо локальных границах. Развивая мысль о счастье – «насыщенной гордости», – Печорин так определяет условия удовлетворения своей главной потребности: «Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви». Герой претендует на абсолютное совершенство и всемогущество, на абсолютное превосходство над всеми людьми. И при всем том – на всеобщую беспредельную любовь, на возможность обрести бесконечные источники любви в себе самом. В сущности, это претензия на Божественный ранг, стремление поставить себя на «место Божье». Грандиозность подспудного смысла этой претензии неизбежно укрупняет и противоположный полюс: круг «обстоятельств», препятствующих ее осуществлению, тоже приобретает грандиозную масштабность, оказываясь равным всей совокупности условий земного бытия.
Претензия эта не может быть воспринята просто как форма самосознания героя – тем более что самому Печорину не открывается «мистериальная» значительность переживаемого: он выговаривает больше, чем хочет сказать. Важнее необычайно высокая реальная цена печоринского самоутверждения, его смертельные ставки, неотступно следующее за ним ощущение призрачности любых его осуществившихся триумфов. «Подавленное честолюбие» обнаруживает какую-то сверхжитейскую («экзистенциальную», говоря языком XX столетия) серьезность. Сквозь намеком обозначенные черты конкретной общественно-исторической ситуации проступают контуры ситуации вневременной и надмирной. Речь идет об извечном соперническом стремлении человека сравняться с Богом.
Неспособность «безумствовать под влиянием страсти» тоже обнаруживает – в глубинной перспективе – нечто неизмеримо большее, чем психологически объяснимое пресыщение и охлаждение. «…Я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть…» Таково для Печорина непременное условие любви. «…Один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить… Мы расстались врагами…» В конце концов жажда власти предстает формой, облекающей жажду свободы. Сводящий любую связь между людьми к отношениям господства и подчинения, Печорин выбирает между двумя полюсами дилеммы: один всегда раб, другой – господин, а третьего не дано. И есть лишь одна возможность не быть рабом – положение господина, «власть непобедимая».
Наступает момент, когда эта возможность становится ценнее самой возможности любить. И вот уже Печорину достаточно только быть любимым. Но и в этой потребности герой с презрением обнаруживает скрытую зависимость от «другого»: чувства раба все-таки нужны господину. Это и вызывает ироническую усмешку – «жалкая привычка сердца». Не случайно высшей формой самоутверждения становится для Печорина игра чужими чувствами и жизнями. Только игра означает для него полную независимость от «других»: ведь даже господство над их душами не связано при этом с настоящей потребностью в их чувствах. Важны не столько сами «радости и страдания других», сколько собственная способность вызывать их, «не имея на то никакого положительного права», ничего не принимая всерьез, оставаясь равнодушным и потому свободным. «Мне все послушно, я же ничему» – эти пушкинские слова, может быть, наиболее точно выражают принцип, который стремится осуществить Печорин.
И опять трагическая серьезность утверждающей себя душевной потребности (прежде всего – та фатальная неуклонность, с какой она нарастает в душе) приоткрывает ее «экзистенциальную» природу. Сходное ощущение вызывает вездесущность этой потребности, которая выясняется по мере того, как в самых различных проявлениях психологии героя обнаруживается одно и то же глубинное содержание. Исповедальные записи «Журнала» позволяют заметить, что Печорин стремится отделить себя от любого овладевшего им переживания, от любого уже совершенного поступка, от любой ситуации, в которую он попал, и что он каждый раз создает эту необходимую ему внутреннюю дистанцию – иронией, анализом, переменой настроения и т. п. Эта установка дает о себе знать не только во внутреннем отмежевании от всех непосредственных порывов, но и в рассуждениях самых отвлеченных, наконец, в постоянном «несовпадении» с азартно осуществляемыми собственными интригами и экспериментами. Для Печорина неприемлема любая форма полного слияния с переживаемым или происходящим, и в этом строптивом нежелании отдаться чему бы то ни было сквозит все то же внутреннее сопротивление всякой зависимости от мира и людей. В сущности, это еще один порыв, выражающий «межмирность» человека, его потребность вырваться из плена жизни.
За взаимодействием собственно психологических мотивов и их социально-исторических предпосылок вновь и вновь ощущается диалектика «мистериального» противоречия. С одной стороны – действительно «ненасытная» жадность, самой своей неутолимостью наводящая на мысль о скрытом в ней метафизическом содержании. С другой – такие же проблески метафизического смысла в постоянном стремлении возвыситься над всем окружающим и над всем происходящим в собственной душе. Для Печорина оказывается невыносимой любая ситуация, когда за пределами его существования обнаруживается что-то исполненное цельной и непосредственной жизненной силы, к чему он непричастен. С этим герой примириться не может, немедленно вторгаясь в чужую жизнь, пытаясь так или иначе подчинить ее себе и тем самым присвоить, «поглотить». Но в то же время всякую причастность и вовлеченность Печорин ощущает как плен и тяготится им и рвется из этого плена. И всякий раз вырывается, отделяя себя от любых своих переживаний, действий, положений. Но вырывается дорогой ценой: каждый раз что-то важное и нужное теряет для него всякое значение. И так – до тех пор, пока не остается ничего ценного, пока наконец Печорин не приходит к тому, что ему вообще уже ничего не нужно. И тогда он умирает. Самый факт смерти героя на обратном пути из Персии выглядит финалом трагически неизбежного движения, одновременно опустошающего и освобождающего: «…Мне осталось одно средство: путешествовать, – говорит Печорин Максиму Максимычу. – Как только будет можно, отправлюсь… авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощию бурь и дурных дорог». Умирает он именно так, как предсказал, – на дороге, умирает не потому, что состарился или заболел, а потому, что «истощилось» последнее утешение, потому, что его мыслью обесценена единственная уцелевшая ценность. Смерть как бы венчает постоянную устремленность героя к метафизической свободе, к выходу из любых зависимостей и связей.
The free sample has ended.