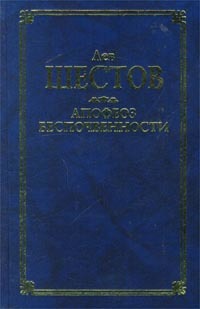Кант, отыскавший синтетические суждения а priori в разуме теоретическом, обеспечил практическому разуму категорические императивы, вполне удовлетворяющие все нужды воспеваемого Киргегардом «этического». Только по недоразумению (может быть, и не вполне неумышленному) Киргегард, который хорошо знал Канта, мог жаловаться, что философия устранила этическое. Наоборот, нигде этическому не оказывали такого разумного и почетного приема, как в областях, на которые простиралась власть умозрительной философии. Об этом свидетельствует даже «имморалист» Ницше: стоит, говорит он, этическому только кивнуть головой, и оно переманит на свою сторону самого «свободного» мыслителя. И тут еще раз нужно подчеркнуть: очарование этического держится единственно и исключительно его связью с Необходимостью. Когда и поскольку Киргегард испытывал, что молодость к нему никогда не вернется, что сам Бог может простить, может забыть грехи, но не может сделать однажды бывшее не бывшим – а, как мы видели, такое состояние не раз им овладевало, – он забывал и Авраама, и Иова, и бедного юношу, полюбившего царскую дочь, и без оглядки бежал обратно к Сократу и перетолковывал Св. Писание таким образом, чтоб оно не оскорбляло разума и совести мудрейшего из людей.
Тут и скрывается величайший и последний соблазн, который Киргегард чувствовал всегда и с которым он всегда отчаянно боролся, но который преодолеть до конца ему никогда не удавалось, который не удалось преодолеть ни одному смертному и который, по всем видимостям, смертным своими силами преодолеть не дано: мы не можем отречься от плодов дерева добра и зла. Иначе говоря: наш разум и наша мораль эмансипировались от Бога. Бог все сотворил, но мораль и разум были до всего, до Бога, были всегда. Они не сотворены – они – предвечны.
Оттого всегда попытки экзистенциальной философии имели тенденцию сбиваться к тому, чему учил, по Платону, Сократ: μέγιστον αγαθòν τω ανθρώπω εκάστης ημέρας περι αρετην λόγους ποιεισθαι («Высшее благо для человека каждодневно беседовать с добродетелью»). Когда религиозное соединяется с этическим, оно в нем растворяется без остатка: дерево познания высасывает все соки из дерева жизни. Экзистенциальная философия, видевшая свою задачу в борьбе, хотя и безумной, «за возможность», превращается в назидание, оно же, по существу своему, сводится к готовности примириться с теми ограниченными возможностями, которые находятся в распоряжении «разумного» и «этического». Человек не смеет или не имеет сил мыслить в категориях, в которых он живет, и принужден жить в тех категориях, в которых он мыслит. И притом даже не подозревает, что в этом – его величайшее падение, что здесь – первородный грех. Он весь во власти внушенного ему змеем eritis sicut dei. Это, надо думать, и имел в виду Киргегард, когда он говорил о себе, что не может сделать последнего движения веры.
Для религиозного человека его «личное бессмертие» дороже самой громкой славы в потомстве, для него те дары, которые он получает от Творца, ценнее всех похвал и отличий, которыми нас прельщает «этическое». Все, что рассказывает нам Киргегард и в книгах своих, и в дневниках, – свидетельствует, что он упования свои связывает не с возможностями, открываемыми разумом (он их презрительно называет вероятностями), и не с наградами, сулимыми этикой (он их называет ложными утешениями). Отсюда его ненависть к разуму и его пламенное прославление Абсурда. Немного можно указать во всемирной литературе писателей, которые так страстно и безудержно рвались к вере, как Киргегард.
XV. Порабощенная воля
Кто задумался бы, выбирать ли доверие к Богу или не выбирать? Но мой выбор не свободен. Я едва чувствую свою свободу, ибо я весь во власти Необходимости. Я не выбираю пути к Богу, ибо у меня нет выбора.Киргегард
«Не от меня моя суровость». Понемногу нам стало выясняться, откуда она. «Взгляните на поле сражения» – самый ожесточенный враг не расправляется так беспощадно с побежденными, как этическое. Но не следует забывать, что «этическое», хотя оно тщательно бережет эту тайну от посторонних глаз, не само выдумало свои каменные «ты должен», а приняло их готовыми от своего господина – Необходимости. Кант учил «ты должен, стало быть, – ты можешь»: он выводил этическое из свободы, умопостигаемой, правда, но все-таки свободы. Более пристальное внимание обнаруживает, однако, другое. Приходится сказать, «ты не можешь, стало быть ты должен». Источником моральных императивов является не свобода, а Необходимость. Суровость, конечно, не от Киргегарда – но и не от этического. Если этическое не дает себе в этом ясного отчета, то лишь потому, что оно хочет быть автономным, самозаконным, хочет быть высшим, последним, ни от кого законов не приемлющим началом, наряду с разумом, который тоже и по тем же причинам скрывает от всех свою вассальную зависимость от Необходимости. Тут только обнаруживается, почему Киргегард так настойчиво требовал, чтоб рыцарь веры прошел через стадию покорности, и, вместе с тем, почему он в грехе видел обморок свободы и притом одновременно устанавливал как понятие, противоположное греху, не добродетель, а свободу. Он, правда, ссылался при этом на «диалектику», но мы будем ближе к нему, если предоставим диалектику грекам и Гегелю, а у Киргегарда станем искать других источников его прозрений.
В дневниках своих он неоднократно повторяет, что никогда не назовет настоящим именем то, что выбросило его за границы нормального существования, и строго запрещает своим будущим биографам допытываться об этом и даже предупреждает, что он принял все меры, чтоб сбить с толку слишком любопытных людей. Обычно биографы и толкователи считают своей обязанностью покориться столь определенно выраженной воле его и не стараются проникнуть в его тайну. Но оставшееся от Киргегарда литературное наследство – и книги его, и дневники – повелительно требуют от нас другого: он говорил, что хочет унести тайну в могилу, но сделал все, чтоб она осталась на земле. «Если бы у меня была вера – мне не пришлось бы уйти от Регины» и «повторение», которое «должно ему вернуть способность быть мужем», – одних этих заявлений более чем достаточно, чтоб восстановить конкретный факт, о котором он запретил нам допытываться. Он отрекся от веры, чтоб обрести знание: повторил то, что сделал наш праотец, – и в результате получилось то, чего меньше всего можно было ждать, – бессилие. Знание оказалось даром, подобным тому, которое выпросил себе у богов мифический Мидас: все обращалось в золото, но все умирало или превращалось в прекрасный призрак, в тень, в подобие реальности, как обратилась для него в тень или призрак Регина Ольсен. Оттого-то Киргегард все свои размышления связывал с первородным грехом, и оттого грех в его экзистенциальной философии получает такое центральное значение и так неразрывно связан с верой. Только вера может проложить человеку путь к дереву жизни – но, чтоб обрести веру, нужно потерять разум.
Еще раз напомню – так как это чрезвычайно важно для уяснения задачи, поставляемой себе экзистенциальной философией, – то, что Киргегард нам говорит о грехе, о страхе и о свободе. «Страх есть обморок свободы», – пишет он в книге «Что такое страх». И тут же прибавляет: «Психологически говоря, грехопадение всегда происходит в обморочном состоянии». И в дневнике мы читаем почти буквально то же: «Страх обессиливает человека, и первый грех происходит в обморочном состоянии». И к этим последним словам Киргегард делает такое вступление: «Много говорили о существе первородного греха – и все же главную категорию просмотрели: страх. В этом его настоящее определение. Страх есть посторонняя, чуждая власть, овладевающая индивидуумом: вырваться из ее власти он не может, потому что боится: чего мы боимся, того мы желаем вместе с тем»
Я думаю, что едва ли кому-нибудь даже из самых глубоких религиозных мыслителей удалось ближе подойти к проблеме грехопадения. Разве что Ницше: только Ницше, отвернувшийся от христианства, принужден был говорить не о грехопадении, а просто о падении человека. Но ницшевский decadence по существу ничем от киргегардовского первородного греха не отличается.
XVI. Бог – есть любовь
Бог есть любовь… Ты и отдаленно себе не представляешь, как Он страдает. Он ведь знает, сколь тяжело и мучительно тебе. Но изменить тут Он не может ничего, потому что иначе Он сам должен был бы стать чем-то другим, а не любовью. Киргегард
Мы исчерпали смысл и значение «экзистенциальной философии», какой она представляется нам в проповедях и назидательных речах Киргегарда, стараясь проникнуть в ее истинный смысл и значение. Нам выяснилось, что в ней нашла себе выражение – в непрямой форме – самая мучительная, но вместе с тем, я б сказал, самая заветная и подлинная мысль Киргегарда: подражание Сократу неизбежно вело языческих мудрецов к фаларийскому быку, подражание Христу – тех, у кого библейское откровение преломлялось через эллинскую истину, вело к тихому отчаянию. И те, и другие принимали только то «блаженство», которое создавалось их руками. Там, где даже на глаз самого проницательного человека жило тишайшее смущение, неожиданно обнаружилось superbe diabolique. И теперь нам становится понятным, почему Киргегард утверждает, что начало экзистенциальной философии есть отчаяние, и почему он требовал, чтоб рыцарь веры прошел предварительно через покорность, и что, собственно, под рыцарем покорности – он разумел.
Сам Киргегард сказал нам, что вера начинается там, где для разума все возможности кончаются. Но люди не хотят думать об этом, они не хотят даже взглянуть в ту сторону, где загорается зловещее, по их неизвестно откуда пришедшему убеждению, пламя огня веры, которому суждено испепелить разум. Мы видели, что столь мало похожие во всем остальном Бонавентура и Гегель в этом сходятся: оба они полагают свои упованья – один на религию, другой на философию с разумом. Иное у Киргегарда: он всем своим существом чувствует, что разум, по самой природе своей, стремится обезоружить веру, высосать из нее все жизненные соки. Он убедился, что вера начинается там, где разум перестает служить человеку. Правда, он знает, что люди отказываются идти в те области, где разум уже не может руководить ими: обыденность не выносит того, что ей рассказывают безумие и смерть. Но именно потому Киргегард зовет от умозрительной философии к экзистенциальной, словно загоняет наше мышление именно туда, куда оно менее всего склонно идти. Недостаточно говорить, что мудрец будет блаженным в фаларийском быке, – нужно всю жизнь так устроить, чтоб таким блаженством исчерпывалось ее содержание. Мы помним, что Киргегард отстранял от себя не только Гегеля и умозрительную философию, но отгораживался и от мистиков; и вряд ли мы ошибемся, если скажем, что от мистиков его больше всего отталкивало как раз то, что делает их столь привлекательными для большинства – даже современных культурных людей: их земное, доступное уже здесь, на земле, человеку блаженство.
И бессмертие, и блаженство, и вечность не смывают воспоминаний о позоре пережитого им в конечном существовании и еще меньше могут заменить ему те радости, которых он был лишен. Словно он повторяет демона Лермонтова: «Я позавидовал невольно неполной радости людской». Она, эта неполная радость, лучше, чем бессмертие, чем вечность, чем райское блаженство, – которое нам уготовляет этическое. Еще немного, и он скажет: лучше быть поденщиком на земле, чем царем в мире теней. Единственно, что его может успокоить, это уверенность, что этическое и «там» сохранит свою власть.
Киргегард упрекает Гегеля: «Некоторые находили у Гегеля бессмертие, я не нашел у него этого» . Но если, как он в другом месте той же книги пишет: «бессмертие и вечная жизнь только в этическом» , – то упрек Киргегарда несправедлив. Гегель, в этом смысле, не отстал от Спинозы, которым, впрочем, и вообще его философия насквозь пропитана; и он всегда размышляет sub specie æternitatis. И наверное не отказался бы подписаться под знаменитыми словами голландского отшельника: sentimus experimurque nos æternos esse.