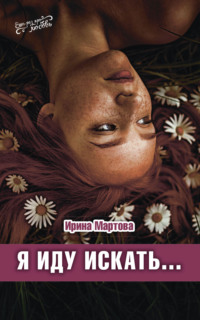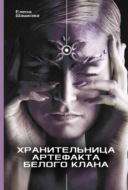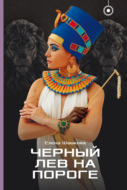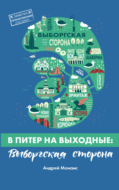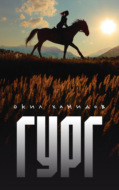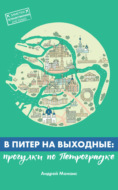Read the book: «Я иду искать…», page 4
Глава 6
Во второй половине сентября осень резко вспомнила о своих обязанностях. Спохватилась, заторопилась и кинулась изо всех сил наверстывать упущенное.
Все вокруг нахмурилось, потемнело. Небо вдруг пошло рваными, словно старая холстина, серыми облаками. Утренний туман уже не таял, а повисал густыми клочьями в низинах. Пришла пора мелких колючих дождей, которые лили целыми сутками и быстро превращали яркую летнюю зелень в поникшую, желтеющую массу.
Промокшие улицы наполнились разноцветными зонтами, слегка разбавляющими тусклую осеннюю картинку.
Московская осень, монотонная, сырая и поспешная, как ни странно, принесла с собой глубокое умиротворение, грустное очарование и странную безмятежность, которые, всему наперекор, подарили жителям необъяснимую гармонию настроения, погоды и робких, еще невнятных, надежд.
Московская осень – это всегда предчувствие грядущих перемен. Ведь мы вечно что-то себе придумываем, на что-то надеемся и чего-то ждем то в преддверии «бабьего» лета, то в ожидании первых морозов, то в неизбежном приближении нового года.
Дождливым утром четырнадцатого сентября первая группа медиков отправилась на диспансеризацию в Тверскую область. Как и планировалось, в составе объединенной команды находились терапевт, кардиолог, врач УЗИ, офтальмолог и отоларинголог.
Ехали долго, нудно и тряско.
До Твери дорога катилась ровной и широкой полосой, а как только съехали с областной трассы и очутились в отдаленных районах, дорога превратилась в скачки с препятствиями.
Маруся и представить не могла, что где-то, в трех-четырех часах от столицы, еще есть такие глухие места, где брошенные дома смотрят на мир заколоченными окнами, где нет дорог, школ и магазинов, а вместо асфальта – жирное месиво, чавкающее и чмокающее под ногами.
Глядя за окно, она вспомнила, как отец, смеясь, говорил, что за МКАДом жизни нет, и удивленно качала головой, понимая истинность этой шутки.
Маленький автобус, ныряющий из лужи в лужу, сердито покачивался, грозя перевернуться. Маруся испуганно держалась за поручень.
– Хорошо, что сапоги резиновые с собой взяли, а то бы точно утонули здесь.
Брат Зинки, неунывающий офтальмолог Михаил, усмехнулся:
– А что, друзья мои? Здесь, наверное, жить хорошо. Ни пробок тебе, ни загазованности воздуха, ни вечно недовольных лиц коллег, а?
– И еще есть, Мишенька, – кардиолог, красавица Аревик Георгиевна, пожала плечами, – много других, но сомнительных плюсов: и туалет на улице, и вместо отопления – печка, которую надо топить каждый день, и ближайший сосед за километр. Нравится тебе такое житье-бытье?
– Ну, ты, моя армянская красавица, сгущаешь краски.
– Нет, это я еще не коснулась главного, чтобы тебя не пугать, – Аревик Георгиевна рассмеялась. – Умываться тоже надо на улице, а купаться – раз в неделю из тазика.
Все врачи притихли, думая об аномалиях и чудачествах жизни.
Русская деревня – это нечто удивительное и вечное. Уходят люди, бросают дома, покидают насиженные места, а она живет. Все равно живет! Стареют жители, вымирают целыми улицами, проклинают и предают анафеме, забывают и сжигают, бегут в города их наследники и потомки, а деревня как стояла, так и стоит. Смотрит на мир забитыми крест-накрест окнами, вытоптанными подворьями, облезлыми стенами, разобранными крышами, а держится! Не исчезает! И живет. Все равно живет!
Этот феномен трудно объяснить, но после долгого и мучительного угасания, упадка и вырождения, после принудительного истребления и неизбежного стирания традиций русская деревня каждый раз возрождается, воскресает и оживает. И тянет к себе, зовет, возвращает исконных жителей, привлекает потомков и наследников, тревожит душу, будоражит и снится по ночам тем, кто давно покинул родные места.
Маленький автобус все ехал и ехал по проселкам, минуя леса, косогоры и буераки. Выехали врачи в шесть утра, надеясь за несколько часов провести осмотр жителей двух деревень, но дорога оказалась не слишком комфортной, поэтому добрались они до обозначенного пункта только к двенадцати дня. Завидев первые дома, показавшиеся из-за крутого поворота, врач ультразвуковой диагностики окинула взглядом притихших врачей.
– Ну, чего приуныли? Устали?
– Ой, Надежда Николаевна, не то слово, – усмехнулась Маруся. – Дорога кажется нескончаемой! Когда уже, наконец, мы доедем?
– Мне кажется, мы почти на месте, – улыбнулась Надежда Николаевна. – Смотри, Машенька, на косогоре деревенька уже видна.
– Бедные, – сочувственно вздохнула Аревик Георгиевна. – Как они здесь живут? Сколько здесь домов?
– Деревенька-то и впрямь совсем захудалая, – хмыкнул Михаил, глядя в окно. – Где же мы принимать пациентов станем? Прямо здесь, в нашем автобусе?
– Домов здесь всего двадцать, и это, кстати, еще не самая маленькая деревня, – отозвалась Надежда Николаевна. – Просто дома разбросаны далеко друг от друга, подворья расположены в отдалении от дороги, вот и кажется, что она крошечная. А принимать будем в здании бывшей библиотеки, оно сейчас пустует. Нам его подготовили, вымыли, протопили. Там тепло и чисто.
– Так здесь была библиотека? – Маруся искренне удивилась. – Почему же она теперь не работает?
– Людей осталось немного, ее и перенесли в соседнее село.
Автобус остановился возле одноэтажного здания с шиферной крышей, небольшие окошки без штор смотрели на мир мрачно и обреченно.
– Прямо скажем, не царские покои, – Михаил громко фыркнул. – Ну, да делать нечего…
– Перестань, Михаил Иванович, нагонять страху, – врач-лор, седой и медлительный Семен Сергеевич, решительно пошел к дверям замершего автобуса. – Выгружайтесь, коллеги. Пора и нам чуть-чуть поработать.
– Не чуть-чуть, а по полной программе, – нахмурилась Надежда Николаевна. – Не ради праздника мы ехали в такую глушь.
Группу врачей встретила местная фельдшер Галина, которая помогла им войти в здание, разместиться и, суетясь, указала на дверь, ведущую в узкий коридор со стульями.
– Наши-то уже прослышали про ваш приезд. С самого утра сидят. Все, кто на ногах держится, сами пришли. Даже старухи наши приползли. Готовьтесь, сейчас начнут жаловаться. Только держитесь.
С помощью Галины все разместились, разложили инструменты, поставили узи-аппарат в отдельную комнату, включили полный свет и быстренько проветрили.
– Ну, все, начинаем, – дала отмашку Надежда Николаевна.
Следующие три часа они работали не покладая рук. Местные жители, пришедшие целыми семьями, терпеливо ждали своей очереди, подходили к врачам боязливо, потом, разговорившись, начинали дотошно выспрашивать и подробно рассказывать о своих болячках. Приезжим врачам пришлось несладко: старожилы, особенно старушки, так донимали докторов расспросами, так въедливо пытали их, так красочно изображали свои болезни, что у Маруси, которая, как терапевт, первой осматривала местных, голова пошла кругом.
Наконец, часа через три Маруся обернулась к фельдшеру:
– Галина, много там еще? Нам ведь надо еще в другую деревню ехать. По плану у нас сегодня два поселения.
– Здесь уже все. Но ведь у нас есть и неходячие больные, к ним придется домой ехать. Лежачие больные в осмотре больше всех нуждаются.
– Домой? – озадаченно присвистнул Михаил. – И много таких в этой деревне?
– И что? Нам всем надо ехать? – жалобно охнула Аревик.
– Нет, нет. Думаю, осмотра терапевта будет достаточно, – Галина кивнула на горячий чайник. – Чайку попейте пока. Передохните. А мы с Марией Павловной съездим.
– Это не совсем удобно, – озабоченно обернулась Надежда Николаевна. – Что ж мы отдыхать будем, а Маша работать? Она ведь тоже устала. Я с вами поеду.
– Ой, да что вы, Надежда Николаевна, – торопливо отмахнулась Маруся. – Отдыхайте. Я быстренько всех посмотрю, и поедем дальше. Думаю, это нас не задержит. Чайку мне оставьте, пить хочется!
Галина оказалась права. Маруся побывала с ней в двух домах, посмотрела лежачих больных, один из которых давно мучился ревматоидным артритом, а вторая, полная седая женщина, недавно перенесла инсульт.
Мария Павловна внимательно осмотрела их, расспросила, обновила назначения, и уже через час их крошечный автобус двинулся дальше, торопясь на помощь жителям второй деревни.
Неровная дорога делала крутые повороты, ныряла то на просеку, то в ельник.
Большой густой лес встретил их сумраком, настороженной тишиной и странной пустынностью. Казалось, он замер то ли в преддверии наступающей ночи, то ли в ожидании грядущих заморозков. Не слышалось пения птиц, уснул ветер, поникли кусты, не ухали филины.
Был только шестой час, но в сентябре в большом лесу это время уже кажется глухим, темным и мистическим.
Маленький автобус старательно нырял по ухабам лесной дороги, цеплялся за раскидистые ветви вековых елей, лохматил и взбивал колесами уже опавшие пожелтевшие листья, лежащие золотым ковром под деревьями.
– Боже, какой неприятный лес, – Аревик Георгиевна передернула плечами. – Ощущение, будто мы затерялись где-то в неведомом царстве.
– О, вижу, ты сказки любишь, – рассмеялся Михаил. – Но не волнуйся, это обычный сентябрьский лес. Нелюдимый, неприветливый и угрюмый.
– А мне всегда казалось, – удивленно прильнула к окну Надежда Николаевна, – что осенний лес очень красив, как на левитановской картине, помните? Наполнен яркими красками, солнцем и светом, а здесь все по-иному! Вообще в лесу много парадоксов! Вот скажите на милость, почему лес, который утром в любое время года радует и притягивает, ночью пугает? Что меняется? Сам лес или наше его восприятие?
Медлительный лор-врач Семен Сергеевич удивленно оглянулся на коллегу.
– О, да ты философ! А стихи, случайно, не пишешь, Наденька?
Уставшие врачи дружно рассмеялись, оживленно зашевелились:
– Галина, а куда мы едем-то?
– А деревня эта в лесу располагается? Что-то мы все дальше и дальше в чащу забираемся…
Галина, отработавшая здесь фельдшером не один десяток лет, заторопилась успокоить приезжих:
– Не волнуйтесь. Во-первых, мы едем не в деревню, а в село, причем довольно большое и очень красивое. Знаете, чем село от деревни отличается? Если в поселении есть храм или крошечная церквушка – это село. Не тревожьтесь, здесь мы не заблудимся и не потеряемся. Вот сейчас вынырнем на опушку, и там, за лесом, село и располагается. Оно в окружении леса стоит, словно естественной подковой наглухо закрыто.
– А подкова-то, к счастью, говорят, – подала голос Маруся. – Наверное, все люди здесь счастливые?
– Об этом точно не знаю, – усмехнулась Галина. – Но слышала, что во время войны в этом селе партизаны прятались, и никто их сыскать не мог.
– А большое село – это сколько домов? В той деревне, где мы с утра были, двадцать дворов. А здесь?
– Здесь дворов семьдесят, а может, и поболее. Но их не так просто увидеть: некоторые подворья в лесу стоят, некоторые за озером. За старыми фермами часть дворов устроилась. Здесь во времена советской власти фермы колхозные располагались, а за озером мельница и маслобойка.
– Здесь и озеро есть? – Маруся округлила глаза.
– А как же, – гордо усмехнулась Галина. – Места здесь заповедные, сокровенные. Даже колхоз, который когда-то фермы построил, не разрушил эту красоту. А как перестали колхозы существовать, так сюда никакая промышленность не проникла. И слава богу! Здесь нет никаких производств, потому воздух такой, что им лечиться можно!
– Вот тебе раз, – развела руками Аревик. – А зачем же мы сюда притащились, если тут воздухом лечиться можно?
За шутками и разговорами они и не заметили, как доехали. Выбрались из автобуса и ахнули! Перед ними по косогору располагалось село, дома которого убегали вдаль… Повсюду, куда хватало глаз, стеной стоял осенний лес, поражая своей первозданной красотой.
– Боже мой, – Надежда Николаевна изумленно покачала головой. – Точно как у Пушкина! Очей очарованье. Как называется-то село?
– Сретенка. – Галина указала на небольшое дом, стоящий поодаль. – Вот здесь будем работать. Это местная амбулатория.
– Амбулатория? Ничего себе, – присвистнул Михаил. – В смысле – фельдшерский пункт?
– Ну, да. Местные говорят – амбулатория, а я не спорю. Пусть называют как хотят. Давайте поторопимся, время не ждет.
Вечерело.
Сентябрьское солнце катилось к закату. Последние лучи его еще не коснулись земли, но уже чувствовались их усталость, утомленность и изнуренность. Казалось, они ждут не дождутся той минуты, когда можно будет спокойно отдохнуть от тяжких дневных забот.
Всему в этом мире есть своя мера. Всему свое время.
Время цветения и умирания. Забвения и узнавания. Время работы и отдыха. Время молитвы и прощания.
Всему свое время. И только у любви нет времени, нет сроков и нет обязательств…
Глава 7
Местные жители заполнили амбулаторию еще до приезда врачей, и, сидя на стульях, оживленно беседовали друг с другом.
– Ты смотри, – усмехнулся Михаил, – они так активно общаются, будто не виделись целый год.
– А что ж тут удивительного? – Галина охладила его пыл. – Люди здесь далеко не каждый день видятся. Некоторые дома за версту друг от друга стоят, другие разбросаны по лесу. А заозерные дворы еще дальше. У каждого хозяйство, свои заботы, проблемы. Те, кто живет по соседству, конечно, общаются, а те, кто далеко, могут и по полгода не видеться. Это ж село, здесь бездельников нет. Люди делом занимаются, выживают, кто как может. Хлеб растят, ферму восстанавливают, пчел разводят. Здесь знаете какой мед!
– А где же дети учатся? – Аревик Георгиевна посмотрела на Галину. – Дети-то, вообще, здесь есть?
– А как же. Есть, конечно, и теперь уже довольно много. Правда, школа только начальная, а десятилетка в Каменке. Школьный автобус из Каменки заезжает за учениками каждый день. До села-то недалеко, всего километров пять, раньше ребята и пешком туда ходили, но сейчас школьный автобус исправно работает. Здесь и учителя многие живут, они тоже ездят на работу в Каменскую школу.
– Каменка – это, я так понимаю, соседнее село?
– Да. Каменка там, – Галина махнула рукой куда-то вправо. – Слева Малиновка, а это – Сретенка.
– Это не в честь праздника христианского Сретенья? – Маруся заинтересованно обернулась.
– Точно не знаю. Деревне-то уже лет триста, – Галина пожала плечами. – Здесь до революции поместье дворянское было. Места тут интересные, полные загадок, тайн и мистических совпадений.
– Так, ребята, разговаривать, конечно, хорошо, но пора за дело браться, – Надежда Николаевна глянула на часы. – Время не ждет.
Работа закипела.
Несмотря на то, в селе дворов было много, жителей пришло гораздо меньше, чем в первой небольшой деревне.
– Дело к вечеру, ночь вот-вот подступит, – Галина и этому нашла объяснение. – Потому люди и не хотят идти. Может, мы разделимся? Часть останется здесь, а часть поедет по тем дворам, где лежачие больные, старики и дети маленькие. Сделаем, как в прошлой деревне? Хочется побольше людей охватить.
– Да ведь нам диспансеризацию нужно всем жителям провести. А какие ж дополнительные методы обследования в домах? – Михаил скептически хмыкнул. – Это только Мария Павловна, как терапевт, может их осмотреть. Но как быть с узи-обследованием? С лор-врачом или кардиологом? Где кардиограмму им сделать?
– Тогда не знаю, что делать. Дело это добровольное, конечно, но не оставаться же вам здесь на еще один день.
– Ой, я не могу, – Аревик Георгиевна расстроенно опустилась на стул. – У меня мама дома с ребенком, а завтра мне на работу в клинику.
– Ну, тогда и рассуждать нечего, – Маруся решительно подхватила свой медицинский саквояж. – Тем, кто не пришел, навязываться не будем – взрослые люди должны сами ответственность нести за свои поступки, принуждать к диспансеризации никого не станем. А вот к лежачим больным надо съездить. Сделаем так. Мы с Галиной поедем на нашем автобусе, а вы здесь принимайте жителей. Они вон, кстати, еще подходят. Целыми семьями идут. Насчет прививок тоже можно договориться: оставим вакцину, а Галина их привьет позже, она же фельдшер.
Солнце уже скрылось за горизонтом. Закат поспешно набирал обороты. Небо, еще недавно чистое, почти прозрачное, тут же стало многослойным, многоцветным. Здесь искусными сполохами перемешались розовый, золотой и желтый. Поплыли, словно хлопья, серые облака, которые то растягивались в полосу, то сбивались в бесформенные кучи.
Бурная игра красок, тонов и полутонов отражалась в озере, словно в зеркале, и его гладь старательно отсвечивала все закатные цвета. Небесная лазурь постепенно темнела и густела, и казалось, что небо с каждой минутой становится все ниже, мрачнее и печальнее.
Маруся сидела впереди. Очарованная окружающей красотой, она обернулась к Галине.
– Слушайте, я такого давно не видела! Село просто как с лубочной картинки. А люди здесь какие?
– Разные. Как и повсюду. Люди разные и характеры разные. И трудные, и свойские, и несговорчивые, и безразличные. Разношерстные, разновозрастные, но все труженики. Вот лодырей тут точно нет. Здешние люди цену себе знают, но путника всегда накормят. В беде не бросят, но, если нужда случится, за себя всегда сумеют постоять. Злым словом или дурным помыслом не обидят, но любопытных и завистливых не любят. Больше молчат, чем говорят. В общем, как и везде. Нормальные сельские люди.
Маруся, притихнув, задумалась.
Сколько таких деревень и сел еще по России разбросано! Сколько судеб, сколько житейских историй, сколько человеческих жизней… Это только кажется, что в городах сосредоточена вся жизнь людская. А на самом-то деле вот где соль земли русской, вот где суть рода человеческого, сущность наша, не испорченная цивилизацией, не избалованная техническим прогрессом, не развращенная цинизмом и подлостью.
Исконность наша, изначальность, первозданность. Аутентичность в чистом виде, натуральность в лучшем смысле этого слова. Именно такие села и деревни, опустевшие в девяностые годы, и возрождаются нынче, наполняются детскими голосами, развиваются и растут.
Галина и Маруся посетили четыре дома.
Уже совсем стемнело. Воздух, до сих пор серый и прозрачный, быстро наливался чернильной густотой, становился тяжелее и весомее. Прохладный, довольно резкий, пахнущий опавшими слежавшимися листьями, он сильно отдавал горечью и терпкостью наступившей осени.
Маруся, спускаясь по ступенькам крыльца очередного дома, вдохнула полной грудью.
– Господи, здесь даже воздух ароматный! До чего вкусный!
– Нравится? – гордо выпрямилась Галина.
– Угу. Он как клюква из холодильника: пряный, кисло-сладкий, вяжущий и холодный, – Маруся озадаченно оглянулась. – Ой, уже так темно. Много еще домов осталось?
– Два. Ваши врачи, кстати, еще прием не закончили, я звонила только что. Думаю, к одиннадцати отправитесь обратно.
– К одиннадцати? – охнула Маруся. – А ехать-то еще сколько! Да по темноте… Может, и впрямь, лучше нам остаться?
– Ну, про ночевку-то нужно было раньше думать, – заметила обеспокоенно Галина, – чтобы разместить вас у кого-то из местных. А теперь-то уже немного осталось. Уж давайте закончим сегодня, да и поедете с богом.
– Ну, что ж делать. Показывайте тогда, куда дальше ехать.
Когда автобус тронулся, Галина кинула быстрый взгляд на Марусю.
– Сначала к мельнику, но только вы, Мария Павловна, не пугайтесь.
– А чего мне пугаться? Что у них там такое?
– Странный это род. Старинный, со своей историей, тяжкими испытаниями. Из нынешних жителей никто о них толком ничего не знает. Молчуны они, наследники старого мельника, а тот был человеком, говорят, своеобразным. Крутым мужиком с причудами да характером жестким. Никто теперь о нем и не помнит, времени-то много прошло, не одно поколение минуло. Там у них все покрыто тайной. Да сами увидите.
– Я, конечно, не из пугливых, но все-таки страшновато, – опасливо поежилась Маруся. – И много их там?
– Уже нет. Род был большой, дружный. Дед, внук того самого первого мельника, уже и сам едва ноги передвигает, наверное, за восемьдесят ему. Хотя точно не знаю. Есть еще нынешний молодой хозяин, то ли внук этого деда, то ли сын его родного брата – их даже не поймешь, – Галина отмахнулась. – В общем, дело в чем? Дед-то больной, лежит все больше, ходит с трудом, а молодой хозяин дома все на себе тащит, уж очень рукастый, умелый, работящий! Да еще и дочь один воспитывает. Девочке лет пять. Живут очень замкнуто. Скрытно, обособленно. Затворники настоящие. Знакомств не водят, гостей не привечают. Почти ни с кем не общаются. Хранят свои тайны и предания. Кстати, в селе этом малышей до сих пор старым мельником пугают, хотя уж больше века его нет на этом свете. Людей давно нет, а легенды живут.
– Господи, нашли, кем пугать, – Маруся озадаченно нахмурилась. – Так мы кого из них смотреть будем? Старика? Или молодого мельника?
– Старика. Он не совсем лежачий больной, но ходить далеко не может. Ноги болят. Старость, что тут скажешь? Но, в любом случае, посмотрим всех, кто изъявит желание, хорошо?
– Конечно, – Маруся кивнула на дорогу. – Постойте, а мы опять в глубь леса сворачиваем? Зачем?
– А как иначе? Мельница-то не в селе, а на хуторе находится. Это в трех километрах от села, – Галина заспешила. – Раз уж есть время, расскажу вам о них. Раньше, еще до революции, сюда пшеницу да рожь возили со всей округи. Мельник богатым слыл человеком, с крутым характером да твердыми принципами, честно работал, хоть денег не считал. Но никого не обижал, нищих подкармливал, и все держал в своих руках. Да ведь коммунисты, когда пришли, не разбирались, всех гребли под одну гребенку. Их первыми раскулачили, отправили всю семью куда-то в Сибирь, дом разграбили, мельницу колхозу передали. Хутор захирел, сараи да чуланы истлели, пришли в запустение, двор зарос. В общем, все пришло в упадок, а мельница да дом выстояли! Как стояли, так и стоят. Построены на века!
Галина, разговорившись, взглянула на притихшую Марусю:
– А в начале девяностых, когда Союз рухнул, и колхозы приказали долго жить, вернулся сюда мужик с мальчонкой. Бородатый, огромный, страшнючий… Тот самый внук старого мельника, которому теперь уже за восемьдесят, вернулся в родное гнездо, приехал на заброшенный хутор, вернул все законно и стал там жить. Работал день и ночь, помощи не просил, себя не жалел, поднимал хозяйство. А тем временем и мальчишка вырос, окреп, возмужал и пришел ему на смену, стал молодым хозяином.
Дорога вилась среди высоких елок, сосен и других деревьев. Ветви стегали по окнам, цеплялись за крышу и пугали путников хрустом веток. Было темно, хоть глаз выколи. И только неяркие фары автобуса освещали узкую проселочную дорогу, выхватывая из темноты то кривой ствол ели, то срубленный пенек, то темную, сплошь поросшую травой, обочину.
Остановились неожиданно. Автобус затормозил у высокого частокола, за которым высился срубленный из огромных бревен дом, больше похожий на старинный терем: с лестницей на высокое крыльцо, с резными ставнями, со вторым этажом. Что-то еще разглядеть в темноте было трудно, но и этого зрелища хватило, чтобы Маруся ошарашенно замерла.
– Вот, это да! Прямо как в сказке. Только уж больно зловеще!
Галина молча указала ей на ступеньки, ведущие на крыльцо, и пошла вперед. Маруся, боясь отстать, заторопилась следом.
На стук так долго никто не откликался, что Маруся, наклонившись к самому уху Галины, зашептала:
– Галя, может, пойдем восвояси? Жутко как-то.
– Не бойтесь. Я здесь часто бываю. Девочке прививки делала, деду уколы. Постучите еще. Надо же старика посмотреть.
– Так, может быть, сами войдем?
– Да как-то неловко. А если они спят?
– Так что же делать?
Маруся беспокойно оглянулась по сторонам, а Галина, не отвечая, заколотила в дверь кулаком.
– Добрый вечер! – раздался за их спиной глухой, довольно низкий мужской голос. – Вы к нам?
Испуганно вздрогнув, Маруся резко обернулась, а Галина, схватившись за грудь, укоризненно глянула на мужчину.
– Что ж вы так подкрадываетесь? Зачем людей пугаете? У меня чуть сердце не выскочило. Тут, в вашей глухомани, и без того с ума сойдешь от страха.
– Добрым людям здесь нечего бояться. И диких зверей тут не водится, – стоящий у крыльца незнакомец метнул удивленный взгляд на Галину. – А вы к нам в гости или как?
– К вам, но не в гости. Врачи из Москвы диспансеризацию проводят. Вы не пришли в амбулаторию, вот мы и объезжаем дома, где есть лежачие больные, – Галина, не оборачиваясь, указала на Марусю. – Познакомьтесь, это Мария Павловна, врач-терапевт, а это, – она хмуро кивнула на мужчину, – молодой хозяин мельницы и хутора, Савва Игнатьевич. – Ну, войти-то можно? Или так и будем на крыльце стоять? – Галина, не скрывая раздражения, указала на дверь.
– Так входите. Дверь не заперта, – усмехнувшись, махнул рукой Савва. – Могли бы уже давно войти.
Галина запальчиво передернула плечами и, досадливо сморщившись, шагнула в дом. Вслед за фельдшером Маруся тоже торопливо перешагнула порог старого дома и удивленно замерла. Несмотря на его очень почтенный возраст, внутри дом выглядел совершенно обычно, современно. Так, на взгляд Маруси, могли выглядеть все нынешние дома, сложенные из бревен.
Она с любопытством огляделась. Высокий потолок, небеленые бревенчатые стены, небольшие оконца с внутренними ставнями, деревянный, выскобленный добела и чисто вымытый пол, огромная русская печь в изразцах. Здесь все дышало чистотой, свежестью и опрятностью.
– Нравится? – услышала она сбоку и, спохватившись, оглянулась.
Чуть сбоку стоял хозяин. Теперь, при домашнем освещении он не казался ей таким уж страшилой, каким почудился в темном дворе. Высокий, широкоплечий, с большой, светлой окладистой бородой, совсем скрывающей нижнюю часть лица. Чуть прищурившись, мужчина, больше похожий на лесоруба или на путешественника, внимательно и очень дружелюбно смотрел на нее, дожидаясь ответа.
Маруся заспешила:
– Да, нравится. Очень! Настоящий сказочный терем. Не хватает только принцессы.
– Почему же? И принцесса есть. Вон, смотрите!
Савва, улыбнувшись, указал на маленькую девочку, которая торопливо бежала к ним по лестнице, перескакивая через ступеньки. Малышка, радостно визжа, кинулась к отцу, и тот, подхватив ее, ласково прижал к себе и звонко поцеловал в макушку.
– Ну, как ты тут?
Девочка, не отвечая отцу, пытливо оглядела гостей. Серьезно взмахнула ресницами и, застеснявшись, спрятала лицо у отца на груди. Мужчина погладил ее по спине и опустил на пол.
– Ну, принцесса, поздоровайся с гостями.
– Здравствуйте, – девочка поправила платьице, пригладила волосы и застенчиво шагнула к Марусе.
Маруся присела перед ней на корточки и ласково кивнула.
– Здравствуй. Я – Мария Павловна. Маруся. А тебя как зовут?
– Луша.
– Луша? Это Лукерья? – Маруся озадаченно обернулась к отцу.
– Да, – Савва невозмутимо кивнул, не заметив ее удивления. – Лукерья. Так звали мою прабабку.
– Мария Павловна, ну, что же, – Галина, стоя рядом, нахмурилась. – Время идет. У нас еще один дом, давайте начнем.
– Да, пожалуйста, – Савва поспешно указал на дверь в углу. – Руки можно там помыть.
Вымыв руки, Маруся прошла в небольшую комнату в конце коридора, где лежал дед Саввы.
– Ой, что за времена настали, – закряхтел старик, увидев ее. – Докторша сама домой приходит. Неужели и я дожил до таких счастливых времен?
Дед Тихон Егорыч, которому в прошлом году исполнилось восемьдесят, почти не ходил. Болели суставы, изъеденные ревматизмом, поднималось давление и одолевала обычная старческая слабость. Единственным его развлечением оставалась маленькая Луша, которая с утра до ночи пела ему песни и рассказывала сказки.
Марусе дед Тихон понравился. Было в нем что-то мощное, естественное, что не поддается годам и не теряется с возрастом.
Старик не стонал, не причитал, не жаловался на свои хвори, а, напротив, слушал ее спокойно, посмеивался над старческими болячками и приглашал Марусю приехать еще раз в гости. Осмотрев его, Маруся похвалила деда за терпение, изменила ему терапию и предложила все-таки сделать кардиограмму.
– Тихон Егорыч, надо сделать это исследование. Обязательно. Возраст у вас уже такой, что нельзя рисковать. Я бы еще назначила вам и другое обследование, но для этого вам лучше обратиться с стационар.
– Ну, уж нет, милая. Позволишь ли мне так тебя называть?
– Конечно, называйте, как вам хочется. Да только обследоваться все равно надо.
– Поздно мне обследоваться. Помирать пора.
– Ну, это вы еще успеете, – Маруся обернулась к Савве. – Вашему дедушке надо принимать правильные лекарства и желательно сделать кардиограмму.
– В нашей глухомани нет больницы, а в Тверь везти его нельзя, это очень далеко, – удрученно отозвался.
– Можно доктора из районного центра пригласить, там хорошая больница, – нетерпеливо встряла в разговор Галина. – Зачем же в Тверь сразу?
– Вот это правильно, – отозвалась Маруся. – Но мне самой хотелось бы увидеть результат обследования.
– Мария Павловна, но ведь вы из Москвы не поедете за столько верст в Сретенку, чтобы кардиограмму прочитать?
– Да уж, неблизкое расстояние, – вздохнула Маруся.
– Не печалься, детка, – дед Тихон ласково похлопал ее по руке. – Не думай обо мне. Если суждено еще пожить, то и без твоей кардиограммы поживу. А когда время умирать настанет, то и кардиограмма твоя не спасет. Не думай обо мне, у молодости много своих забот.
Маруся, понимая, что сейчас все равно ничего нельзя придумать, заспешила:
– Ладно, Тихон Егорыч. Я подумаю об этом позже. Обязательно. Савва Игнатьевич, у вас ведь есть телефон?
– Ну, конечно, – усмехнулся Савва. – Сегодня, наверное, на земле можно по пальцам пересчитать людей, у которых нет телефона. У меня есть. А что?
– Запишите мне ваш номер. Если я договорюсь с обследованием на дому, то позвоню вам.
Мужчина бросил на нее удивленный взгляд, но, не сказав ни слова, написал на листочке свой номер.
– Звоните. За деда вам спасибо.
– Пока не за что.
Долгий день перетекал в ночь.
Савва, проводив нежданных гостей, занялся привычными домашними делами. Покормил деда и дочь, вымыл посуду, уложил Лушу спать, принес деду лекарство, а потом, глянув на часы, подошел к окну и задумался.
Долго смотрел в темноту подкравшейся ночи, прислушивался к ее тишине…
И вдруг поймал себя на том, что улыбается.
Радоваться, вроде, было нечему, но на душе отчего-то воцарилось такое редкое спокойствие, когда хочется просто остановиться, замереть и бездумно глядеть вдаль, отрешенно и безучастно наблюдая за целым миром.