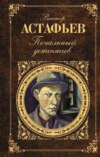Read the book: «Импровизатор»
По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет, – и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнозвучных метров, вырывались из уст его, как фантасмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма. Этого мало: в одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные; он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каждое было прекрасно в своем роде: одно производило восторг, другое трогало до слез, третье морило со смеху; а между тем он, казалось, совсем не занимался своею работою, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихии поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности.
Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей; они страдали за импровизатора; но художник был спокоен и холоден, – в нем не заметно было ни малейшей усталости, но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкою смотрел он на слезы, на смех, им производимые; один из всех присутствующих не плакал, не смеялся; один не верил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма.
Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностию Гарпагона2 принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще от роду не видал столько монеты и был вне себя от радости.
Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана3. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизнь явилась ему, но хладный остов нужды неподвижною улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, не осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворения, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если б для каждого из них Киприяно не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни, – редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и зарождалась, то яснела медленно и долго терялась в тумане; уже после трудов неимоверных достигала она до какого-то неясного образа; здесь начиналась новая работа: выражение отлетало от поэта за мириады миров; он не находил слов, а если и находил, то они не клеились; метр не гнулся; привязчивое местоимение хваталось за каждое слово; долговязый глагол путался между именами; проклятая рифма пряталась между несозвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных полос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия! Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесел; но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреоборимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к тому всю раздражительность поэта, его природную наклонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми, наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа! Он не мог ни переводить, ни работать на срок или по заказу; и между тем, как его собратия собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство, – он еще не мог решиться приняться за работу. Книгопродавцы перестали ему заказывать; ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно расхватывали заимодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом.
В том городе жил доктор, по имени Сегелиель. Лет тридцать назад его многие знали за довольно сведущего чело века; но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных каменьев, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу. С удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены; напротив, он казался моложе, здоровее и свежее прежнего; также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, в Сегелиеле не было ничего необыкновенного: он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами; носил просторное, но щегольское платье принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка; он давал молодым людям денег взаймы, не требуя отдачи; держал славного повара, чудесные вина, любил сидеть долго за обедом, ложиться рано и вставать поздно. Словом, оп жил в самой аристократической, роскошной праздности. Между том он не оставлял и своего врачебного искусства, хотя принимался за него нехотя, как человек, который не любил беспокоить себя; но когда принимался, то делал чудеса; какая бы ни была болезнь, смертельная ли рана, последнее ли судорожное движение, – доктор Сегелиель даже не пойдет взглянуть на больного: спросит об нем слова два у родных, как бы для проформы, вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному – и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал престранных условий, как, например: изъявить ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения; сделать какой-нибудь отвратительный поступок; бросить значительную сумму денег в море; разломать свой дом, оставить свою родину и проч.; носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой… о которой не сохранило известия целомудренное предание. Эти слухи расхоложали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою; к тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно; та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное, или просто не понравился ему. От всего этого у доктора Сегелиеля набралось множество врагов: иные стали доискиваться об источнике его неимоверного богатства; медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами; большая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил наконец полицию потребовать доктора Сегелиеля к допросу. В доме его сделан был строжайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сегелиель согласился на все, без всякого сопротивления, и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва удостаивал их взгляда и только что изредка с презрением улыбался.