Read the book: «Год Горгиппии», page 4
– Я знаю. – Ксанфа глубоко дышит и все силы вкладывает в следующие свои слова: – Так ты сделаешь меня чемпионкой или все легенды о тебе – ложь, Ираид, сын Перикла, величайший чемпион Союза?
Как неприятно эти слова звучат в царском исполнении.
– Да, – говорю я бездумно. – Конечно смогу. Пошли, – а у самого ноги еле идут от хищно напавшей неуверенности. Меня нелегко подловить на таком, ибо я всегда разыгрываю перед трудностями роль отважного дурака. – Сначала перекусим. – «Потому что мне нужно присесть», молча сглатываю усталое признание.
Ксанфа возмущённо охает от резкой перемены моих намерений. Я не хочу считать, сколько у нас осталось возможностей потренироваться до Олимпиады, но взгляд невольно падает на Лазареву мозаику, которая совсем скоро будет завершена. Он замечает меня во дворе и откидывается назад на своих строительных ремнях-креплениях, чтобы, уперевшись ногами в стену, помахать освободившейся рукой.
Я киваю, молча хватаю Ксанфу под локоть и, насколько мне позволяет нога, тяну её в трапезную. «За едой решаются войны», – говорила моя сердобольная мать-кухарка, чья собственная мать – моя бабушка – разделывала и жарила для глав будущего Союза барана с виноградом, которого съели в знак дружбы народов. Говорят, до объединения в Союз республики сильно бранились между собой. Синды нападали на боспорцев через пролив, те отвечали стрелами с башен своих крепостей; аварцы никого не пускали к своим горным рекам – сильно не хватало чистой воды кое-как уцелевших источников (а сохранять их до сих пор могут только аварцы); а скифы без разрешения проникали в дома ко всем, к кому могли. Что до Колхиды – Лазарь говорит, что им и без Союза хорошо жилось и в него их втянули силой – ради стали и камня для домов. Благо, из содружества пользы и правда больше, чем из вражды. Только вот не было бы Союза – не было бы необходимости тренировать боспорку к Олимпиаде, в которой ей ни за что не взять ветви первенства. Люди всю жизнь изучают искусство атлетики, тренируются, состязаются друг с другом. Нельзя нагнать подобный опыт в короткий срок.
– Бодрящее питье, – я наклоняюсь к каменной арке для выдачи еды и едва не зеваю приятной девушке в лицо. – Два бодрящих питья.
– Обычное или с виноградным соком? – уточняет она, используя каменные счёты для моих пожеланий.
– С виноградным соком и… – я поглядываю на Ксанфу. Она непонимающе жмёт плечами. Напитки в республиках сильно разнятся. – Второе обычное. Это – к двум трапезам. Одна учительская, другая студенческая.
– Монетами или вычет из жалованья?
– Мы на особых условиях, – я намекаю на свою выслугу лет, именитость и всё такое. Ну и на отсутствие ноги, которое мне помогает бесплатно пользоваться услугами извоза и питания.
Приёмщица немного подозрительно меня оглядывает, а после упирается взглядом в Ксанфу и удивлённо моргает. Неужели она узнала не меня, а царевну? Девушки тут же радостно здороваются друг с другом на боспорском языке. И тут же на меня льётся сильный и звонкий незнакомый трёп, который я даже при всём желании разгадать не смогу. Этот барьер меня обижает.
Трапезная устроена таким образом, чтобы все студенты и учителя сидели за общим длинным столом. Здесь глухой прохладный камень и системы охлаждения работают на износ – всё ради тех, кто ест днём и готовит ночью. Я беру опахало из специального ящика и с небольшим усилием сажусь на скамью спиной к столу.
Оказавшись перед столом и скамьёй, Ксанфа застывает вместе с едой. Она явно испытывает трудности с пониманием, как можно учиться и есть в таком положении; я бывал на приёме в её царстве, там пищу принимают лёжа в каменных ракушках. Занятно, но у меня было несварение после того вечера. Что ж, она ещё нашу еду не пробовала.
Институт не про богатство и праздность, и трапезы здесь скудны на разнообразие, но главная задача еды – быть сытной. Я замечаю, как Ксанфа легко удерживает оба подноса и не роняет и капли бодрящих напитков из стаканов – настолько её руки пластичны и изящны.
– Занятный талант, – задумчиво произношу я.
– Я умею лавировать с фруктовыми подносами по комнате, имитируя танец с кем-то, – ибо обычно я одна в такие моменты, – делится она, усаживаясь рядом и с некоторым стеснением перебрасывая ноги через скамью, спрятав голые колени под столом. Я смотрю на её тело критически, но стараюсь не осуждать. Сильный материал, если будет податливым – то форму из него можно слепить любую.
Ей неловко под моим пристальным взглядом. Я отворачиваюсь, стараясь соблюдать нормы приличия. А затем отламываю кусок лепёшки голыми руками, чтобы подать ей пример и показать, как справиться с нашим обедом.
– Главное в спорте – иметь достаточно сил на него, а силы надо брать из полезной еды, это лженаука питания постановила. Лепёшки и мёд надо исключить, а вот бобовая похлёбка – самое оно. Будет и мышечная красота, и здоровье. – Я стараюсь говорить твёрдо, но сам не верю, что бобы вкуснее лепёшки. Будь моя воля, я бы предложил ей другую, вкусную еду. Но я такой избегаю, иначе придётся освобождать перегруженный желудок. – Так что ешь.
– Я такое не хочу, – она морщит нос, наблюдая, с какими звуками я поглощаю похлёбку из красной фасоли. Синдика сознательно отказалась от мяса – его запасы негде хранить, какой глубокий погреб ни копай. Иногда аварцы спускают нам что-то свежезарезанное – или ещё живое, если речь идёт о жертвоприношении Богам, – и тогда на празднествах горят костры для жарки. Прочее же испортится и загниёт меньше чем за ночь. Лично я почти каждый день ем бобы и лелею сладкие мысли о редкой, выловленной с утёсов колхидской рыбе (какие талантливые там добытчики!), которой меня угощает Лазарь. Теперь она ему не нужна, ещё в детстве переел – тогда её было много.
– Еда – главный залог выживания, а не роскошь. Не поешь сейчас – после тренировок будешь в полуобмороке и опять не запомнишь, где и как спала.
Она резко от меня отодвигается и пихает за собой поднос. Пьёт прохладный бодрящий напиток и ест, но так лениво и медленно, что редкие гости трапезной (те, у кого перерывы начинаются раньше или позже обычного) смотрят на неё с недоверием и тревогой: не заболела ли? Капля напитка стекает по её подбородку, и она подхватывает её пальцами и тянет их в рот – облизать. Парень в углу давится, шокированно охают и девушки, и я легко бью Ксанфу по руке.
– Давай-ка без своих царских замашек соблазнительницы.
– А что такое? – она стремительно краснеет. У меня её вид не вызывает никакого вожделения, но вот студенты помоложе падки на такие представления. – Я впервые за два дня чувствую себя уместно. В Боспоре есть надо красиво, иначе тебя посчитают расточителем. Но это… ужасно на вкус.
Я недовольно поджимаю губы. В чём толк Союза, если люди в нём продолжают жить будто бы в разных мирах? Быстро доедаю свой обед, чтобы действительно не быть расточителем, и требую от неё того же самого.
– Я твой Путеводный, а значит, на время – Бог и отец. Моя задача – тренировать твои навыки и обучить искусству атлетики. В чём ты хороша?
– Ни в чём, – вызывающе отвечает она.
– Отлично! – Я энергично стучу кулаком по столу. Обожаю бодрящий напиток за это чувство – сердце рвётся из груди, а потому и время кругом ускоряется. – Значит, не придётся тебя переучивать. Знаешь ли ты, что атлетов к Олимпиаде готовят с детства?
– Знаю.
– Помнишь ли ты, что я стал чемпионом Олимпиады четыре раза подряд и потому знаю толк в том, как её выигрывать?
– Помню, – она устало прикрывает глаза, когда говорит это.
– Осознаёшь ли ты, что быть избранницей Солнца – тяжкий долг, который будет сопровождать тебя всю жизнь? – Я, превозмогая боль, подскакиваю на ноги, чуть пошатнувшись в её сторону. Иногда я забываю, что уже не так подвижен, как в юности.
– Осознаю… – она смотрит на меня и скользит взглядом ниже пояса. Лучше бы я предстал перед ней обнажённым, чем видеть выражение её лица, когда глаза Ксанфы останавливаются на уровне сочленения здоровой плоти и подмены, ничем не похожей на здоровую ногу. От стыда я чуть не падаю. Её голос слегка дрожит, заканчивая фразу: – И тоже готова многим пожертвовать ради своего царства.
Её ободряющая улыбка запомнится мне надолго. «Постараюсь её не подвести», – обещаю себе я. Не ради золота или Атхенайи. А ради будущего поколения. Я же учитель. Вроде как это мой долг.
– Так примешь ли ты, царевна Александрийская, каждое слово и каждый приказ? Клянёшься ли ты выполнять мои указания и тренироваться до грани?
Ксанфа поднимается тоже, возвращаясь взглядом к моим глазам. Она так близко, я неосознанно чувствую силу её души и тела. Если понадобится, я сам подниму её выше, к самому Солнцу, чтобы она доказала Ему, что наследница, а не самозванка.
– Клянусь.
Мы ритуально жмём друг другу предплечья и допиваем напитки из бокалов друг друга, чтобы доказать свою верность.
– Что ж, – я шумно выдыхаю. – Тебе придётся попотеть.
Она страдальчески стонет.
Глава четвёртая
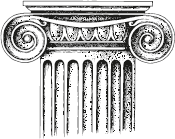
КСАНФА
Институт лженауки и искусств, стадион «Горгиппия»
Ираид ждёт, когда я скажу: «Больше не могу». Он изматывает меня, но я знаю: это испытание, которое нужно пройти. Хочет сторожить меня ночами и с первыми лучами солнца выгонять из постели? Пожалуйста, пусть пытается и дальше. По его словам, я «неподъёмная» – думаю, и весом, и характером. Мы так и грызёмся, только я – в упоре лёжа, а он – в ожидании моей ошибки.
– На рельефах ты поприятнее… – кряхчу, чувствуя, как мышцы живота наливаются болью. Они совсем неразвиты, и в планке я выдерживаю всего пятьдесят ударов сердца. Однако неделю назад, когда мы начинали, я не могла осилить и пяти.
– У тебя есть мои рельефы? – удивлённо отзывается он. Объёмные дощечки на продажу фанатам лепят с натуры и распространяют по всему Союзу. У меня (был) только один кумир (теперь он мой мучитель), но подобные штучки есть и с актрисами театра, и с музыкантами, и даже с литераторами и учёными… только вот на рельефах Ираид весьма красив, оттого количество его рельефов феноменальное. Весь Союз наслаждается его достоинствами, и только мне достались его недостатки.
– У всех есть твои рельефы, – выдыхаю я из последних сил и падаю грудью в песок стадиона. Волосы липнут к спине, выбиваясь из слабого пучка на затылке. Я плохо ухаживаю за собой – не умею собирать причёски и путаюсь, какие масла для лица, а какие для тела. Меня всегда обхаживали чужие руки. Ираид вынуждает меня дурно пахнуть, грубить и уставать. Это совсем не то, ради чего я была рождена.
Это пятый подход, и тренер ждёт от меня шестого – но мои силы иссякли. Еле поджимаю ноги под себя и тяжело дышу, усаживаясь на обманчиво мягком песке для тренировок. Я беру в руки чашу, которую подготовил мне Ираид заранее, и пью воду большими глотками. А из остатка орошаю лицо. У меня не укоренились привычки местных атлетов: они мажут плечи охлаждающими кремами, защищают белёсыми мазями щёки и спину и, крепко жмурясь, распыляют себе в лицо особую воду; Ираид постоянно предлагает мне свой набор – и каждый раз я напоминаю ему, что мне нет нужды беречь кожу.
– Ну и чего сидим отдыхаем?
Я гляжу на него разочарованно, не в силах поверить, что он так беспричинно жесток со мной. Вместо ответа валюсь на спину и подставляю своё лицо Солнцу.
– Отец мой… – мой голос звучит совсем уж горько, – сожги его лучом своим.
– Ха! – Ираид поднимает руку и ждёт удара, но ничего не происходит, к моему глубокому сожалению. – Никакая ты не солнечная дочь! – И продолжает ворчливо: – Вообще-то обидно. Я же с любовью, на благо твоё…
Моё благо… улыбаюсь. Лицо печёт, я прикрываю глаза и умиротворённо считаю пятнышки под веками. До встречи с Ираидом я не знала, что у меня есть мышцы, – но теперь чувствую каждую из них и то, как они ноют.
– Завтра же отбуду в Боспорское царство, закроюсь в покоях и никогда больше не выйду оттуда, – грожу так, словно задумалась об этом впервые.
Он молчит, я не слышу ни одного слова издёвки в ответ. Не хочу проверять – жив он или погиб от горя, почти потеряв свою лучшую ученицу. Не чувствую себя единой со своим телом, словно я – лёгкая душа, а оно – бренная, грузная темница для неё: мы совершенно разные сущности. Ираид всё пытается доказать мне, что совершенство тела – не главное, важна его сила, а силу эту я вкладываю собственной волей. Но будь я стройна – как мои сокурсницы в коротких хитонах, делающие разминку неподалёку, – учёба здесь давалась бы мне легче. Я смотрю на них без зависти, всего лишь наблюдаю за ловкостью их стана и выносливостью в дисциплинах. Иногда нужно просто признать, что ты не так хороша, как другие.
– Ну слава Солнцу, думал, ты уже никогда мне этого не скажешь.
Хорошая провокация, но я остаюсь в своём положении, разверзнутая перед небом. Проходит сотня ударов сердца, вторая, третья. Кое-как поднимаюсь на локтях и оглядываю себя: грязная форма, содранные колени, пальцы в синяках. Мне стыдно, что все видят меня такой. Липкое чувство, будто буквально каждый взгляд обращён ко мне, не исчезает. Словно другим больше нечего делать.
– Это и есть атлетика? – сокрушённо уточняю я.
– Это? – он указывает на мои кровоточащие местами раны и ушибы. – Это мы разминаемся. Скоро буду вручную складывать на нормативы.
Приступ тошноты я даже не имитирую, мне и правда дурно от всего этого.
– Вставай.
– Не могу.
– Можешь.
И я правда послушно возвращаюсь в позицию. Не знаю, что в Ираиде такого, – голос его спокоен, лицо мне уже несимпатично, а личность и вовсе неприятна. Но когда он уверенно говорит со мной, я делаю что сказано. Он, желая показать пример, принимает упор лёжа на подмостке из дерева.
– Во-первых, нужна твёрдая нормальная поверхность.
Ну и почему раньше не сказал? Я забираюсь к нему на подмосток – между сидячими скамьями и атлетической ямой для прыжков, в которой и валялась до этого. Он снял подмену, чтобы показать мне, как нужно, и его умения до того хороши, что и с одной ногой он делает упражнения идеально.
– Во-вторых, опускайся сначала на колени, затем делай упор на руки, не выкручивая запястья… распределяй вес неспешно. И не задерживай дыхание, это самое важное в упражнениях.
Я слушаю каждое слово и действительно легко переношу вес, а вот дыхание невольно задерживаю. Ираид начинает громко вдыхать и выдыхать. И я повторяю за ним, напряжённо зажмурившись.
– …После этого отставь назад сначала одну ногу, затем вторую. Подобная позиция поможет тебе чувствовать себя, и тело будет легко подчиняться в других упражнениях. Просто доверься мне. Простоим сто ударов сердца и отдыхаем до завтра. Это будет наше общее достижение.
Ираид настолько умелый и сильный, что удерживается на одной руке и по-отечески треплет меня по макушке, а после убирает волосы со лба. Он держится в стойке легко и еле заметно шевелит губами, считает каждый удар своего сердца – ритм, с детства знакомый каждому, – про себя. Мы на самом деле не слышим его, но знаем внутренне, когда тот или иной рубеж проходит. Я совсем не могу сосредоточиться, но он стоит со мной рядом, и я могу подпитываться его силами – Ираид мне позволяет.
– Девяносто девять… Сто… Медленно сгибай локти. Ложись. Умница.
Он горделиво улыбается, и его тёмные кудри сияют ореолом на солнце. Эти волосы словно созданы для того, чтобы туда были вплетены ветви чемпионства, которыми коронуют победителей Игр. У него их, наверное, целая коллекция.
– Я позволю тебе примерить ветвь, – Ираид будто бы читает мои мысли. Вот гад. – За такую-то победу! И обязательно отдохнёшь. Чуть позже. Когда луч изберёт тебя, когда прожжёт на сердце метку избранности.
Ираид говорит так, словно не сомневается во мне. Или не сомневается в себе как в учителе. Пока что мы одинаково плохи в своих предназначениях.
Я бессильна сейчас, но не буду бессильна всегда. После тренировки со мной остаётся чувство, будто я и правда сделала всё, на что способна. И я заметила: преодолев трудность, которая казалась такой недостижимой, я сохранила её в памяти как почти незначительную помеху. Правда, с утра не смогу встать с лежанки и Икта меня задушит.
Возможно, оно и к лучшему.
* * *
После своей первой победы я замечаю, как преображается полис к грядущим событиям. Покрывают золотой поталью крыши и арки, они так сияют, словно ценный металл стекает с неба по велению Солнца. Оранжевое небо подсвечивает усталых украшателей, превративших каждый непримечательный фрагмент в искусство по божьему назначению. Это их долг, и я мысленно благодарю их за путь к Олимпиаде, который они устилают красотой.
Икта говорит, что раньше полис – бог мой, так она ещё и жительница столицы? – был совершенно обычным транзитным пунктом. Здесь строили склады с запасами продовольствия, а жить никто не хотел – слишком жарко и мало места. Полосы для езды на лошадях и ручной тяги здесь очень узкие: всегда приходится оглядываться, чтобы тебя не затоптали. Большинство людей ходят пешком: одни неспешно прогуливаются, другие толкутся, кто-то вжимается в каменные стены и пережидает поток – царит настоящий беспорядок. Я, к своему не-стыду, привыкшая к царскому паланкину, теперь испытываю некоторые сложности, перемещаясь по городу пешком. Особенно когда едва держусь на ногах после тысячи ираидовских «быстрее! чётче! ну же!». После изнуряющей тренировки на стадионе Икта перехватила меня и потащила прочь от Института. Я хнычу, повторяя, что хочу поскорее домой. Хотя домом свою каменную ячейку назвала бы с натяжкой – мне просто хочется убежать от столичной суеты, пусть и в комнату, полную соседок.
Всё во мне меняется, когда недолгая, но извилистая прогулка заводит нас на небольшую покатную площадку7 – здесь никого и много-много подвижных досок. Они небрежно сложены стопкой и скреплены между собой.
– Не знала, что тут тоже так веселятся. Как дома прям!
Обычно подвижные доски – детская или застольная забава. Но я обожала их. По херсонесскому дворцу иногда только так и передвигалась – лениво удерживала себя на двух ногах, пока доска сама тащит меня по бесконечным закрытым коридорам.
– Да на них никто давно не катается, – недовольно ворчит Икта, пока я вытаскиваю одну доску из пачки, одновременно изучая надёжность колёс. Болят ли мои ноги? Да. Откажу ли я себе в удовольствии опробовать синдскую доску? Точно нет. Сама удивляюсь, как до сих пор не пыталась их отыскать. Полосы, по которым мы шли, имеют хорошую основу, но занесены песком, такова природа – но вот нашлось гладкое твёрдое место, где камни сложены таким образом, что на их стыках не запнётся ни нога, ни колесо. То, что нужно для катаний.
Я становлюсь на одну доску и проверяю её на прочность, подпрыгивая на ней. Икта охает и спешит сделать мне замечание (она в своём стиле):
– А если сломаешь? Они принадлежат полису!
Едва сдерживаю смех, который сбил бы моё ровное дыхание. Владеть собой – вот и весь секрет баланса. Я стараюсь не раскачиваться, чтобы не сломать доску. Пробую сначала короткий проезд, а затем и вовсе ловко верчу доску под ногой. Не проходит и тысячи ударов сердца, как Икта просит прекратить ломать никому не нужные доски вечером на пустом катке. Она снова настойчиво повторяет, будто пользоваться ими больше не принято.
– А у нас в Боспоре ещё как принято. Чем же вы занимаетесь тогда кроме бега и прыжков, страна атлетов? – я издевательски щурюсь. Икте повезло быть поджарой от природы, и в искусстве атлетики у неё есть ничем, кроме везения, не оправданная фора. Ей нужно стараться меньше, чем тем, кто ради спорта бросил всего себя на его алтарь.
– Ты уже приличное время живёшь в Синдике, а до сих пор не разбираешься в стоящих развлечениях. Нужно приобщаться! Например, сходить в горные родники, откиснуть. Это даже тебя сделает похожей на синдку.
Мысль показаться обнажённой на людях сильно смущает меня. Я недостаточно хороша, чтобы встать наравне со стройными и подтянутыми студентками. В Институте благо есть изолированные каменные чаши, выложенные непривлекательными мозаиками, но они достаточно малы, и вода в них горячая, потому что хранится в стальных резервуарах. Вода меняется в них очень долго, собирая постоянные очереди из желающих искупаться. Мыться там – необходимость, а вот родники, видимо, хороши и прохладны, ведь перенаправляются из питьевых источников, которые обслуживают аварцы… Икта мечтательно тянет:
– Живая вода – это блаженство. Часть её – солёная и бурлящая, прямиком из моря, а вторая половина – холодная река с горы. Перегородки вкопаны прямо в песок, дно выложено гладкими камнями.
У Икты поразительный гипнотизирующий голос, и я – заворожённая – представляю себя в море, которого боюсь, среди тех, кого стесняюсь. Соскакиваю с доски и сдаюсь – возвращаю её обратно в стопку к остальным, чтобы не позориться своим устаревшим увлечением.
– Звучит как-то… ну… некомфортно.
– Ну, знаешь, это вообще-то удовольствие не из дешёвых. Условия лучшие. Людей совсем немного. Да и чего смущаться, там таких, как ты…
Она хочет, чтобы я за неё заплатила, и почти не скрывает этого – мешок с золотом стоит прямо среди наших вещей в жилой комнате, но никто не крадёт у меня, потому что не принято – или потому что я могу дать монет сама. Да и никто по доброй воле не полезет в открытое море, но, если организовать всё как закрытую вечеринку для избранных и богатых молодых людей, только дурак откажется поплескаться в солёной воде. А потому бояться действительно нечего. И всё же я пожимаю плечами.
– Икта, мне мирские радости не близки; на кону стоят моя честь и грядущее величие. Сходим на родники после того, как я одержу победу в Играх, – мой голос меняется на торжественный, как предпочитает говорить Ираид, когда не похож на дурака.
Пойманная на хитрости, Икта мне ехидно улыбается. Немного снисходительно, и сама холодеет, как родник.
– Ты всё ещё веришь в это? Взрослая же девочка.
Я осознаю, что моя судьба может идти вразрез с чемпионством. Мне выпало держать лавры и победы, и власти. Смотрю на свои руки, избегая пристального недружелюбного взгляда. Может, мои кисти слишком нежные для снарядов, может, я не смогу использовать свои ладони, чтобы держать вес всего тела, но дать Икте в нос кулаком всё же смогу. Смогу? Я еле сдерживаюсь.
– Верю во что? В Солнце? В то, что Он выберет меня, его наследницу и посланницу? В то, что лишь Олимпийские игры объединят наш жадный, хитрый и утративший все нравственные идеалы Союз? – щурюсь, ожидая её реакции, но она молчит. – Да, верю. И тебе советую, красавица.
После достаю из набедренного мешочка золотую монету и бросаю в вырез её хитона награду за сопровождение, которой она так жаждала. Обещаю себе никому не доверять.
– Это за твою притворную дружбу.
Я переменилась, когда Ираид одной лишь своей верой в меня удержал меня в планке столько, сколько требовалось. Сила, может, и в мышцах – в их проработке и тренировке, но сила ещё и внутри меня, в стержне солнечного света, с которым я рождена. Наивно думать, сказала бы я себе, будучи в Боспоре, что ноги моих противников переломаются, лишь бы я смогла их обогнать. Но, возможно, если мой божественный родитель поверит в меня, как верим в него все мы, если признает мою избранность, как признавал прочих своих детей, – тогда и я могу одержать победу. И дело тут не в моём мягком и дряблом теле и даже не в моих талантах. Только в Его священном выборе. Сомневаюсь, что мой предок, первый сын Солнца – кузнец из легенд был так уж искусен, как о нём говорят до сих пор. Мне кажется, что стальные завитки в Колхиде сделает даже слепой мастер, потому что это их родное ремесло. Возможно, мне не обязательно быть самой лучшей. Это меня успокаивает.
ШАМСИЯ
Побережье Гостеприимного моря
Ветер – злой и мстительный брат-защитник изгнанного за пределы земли Моря. Трудно поверить, что когда-то прямо в земле были огромные ямы без грязи, наполненные пресной водой и живностью, – об этом нам говорит наследие старых лет, мне же рассказывал родитель. В Скифии Ветер был со мной всегда – там Он господин, никем не притесняемый. Но часто Он наведывается к брату в гости, и, похоже, на сей раз шёл за нами, и именно я привела Его сюда, и Море зашлось крупными волнами. Теперь Оно яростно бьётся в песок, но меня не так просто напугать.
Когда я подхожу слишком близко, Ветер треплет мои распущенные волосы, хлещет прядями по лицу и спине. Горячий раскалённый воздух не даёт глубоко дышать. И всё же я упрямо бреду по песку, звеня бронзовыми браслетами на щиколотках. Скифия никак не касается моря – с равнины за бесконечными полисами большую воду не увидеть. Но теперь я чувствую тягу к бирюзово-синей глади и представляю, как прикасаюсь к ней, невзирая на опасность.
Родительница осталась в Институте с важными людьми бороться за моё право обучаться не существующему больше искусству родов, но я даже не оглядываюсь на затёртые белые фасады. Мне несимпатична кладка каменного пола – хочу ходить босиком по матушке-Земле; меня душат своды проходов и залов – мечтаю всегда иметь возможность взглянуть на свободное чистое небо.
Волны Моря мутные и бурные – не могу отвести взгляда от каждого наката, как зачарованная. Вся пережитая боль моей малой, скромной жизни сосредоточилась в одной точке – и она, по ощущениям, ждала меня на дне.
Ведь дно под толщей воды – тоже Земля. Везде можно лечь и слушать Её плач, зарываясь пальцами в почву. Земля разнообразна по своему звучанию – это и шуршание песка, и ласка ила, и твердь полей в садах. Земля никогда бы не бросила своих женщин, своих жриц. И всё же Её вынудили.
Горгиппия перед Солнцем как на ладони. В Институте нам сказали: «Мы не руководствуемся только легендами, особенно теми, которые были в ходу двадцать оборотов назад», – но при этом нервно сглотнули. Я сомневаюсь, что они не прислуживают Богам во всём, хоть и стараются показать независимость, мол, служить во славу и подчиняться – вещи разные. Может, это Солнце приказал им отказывать способным к деторождению дочерям Земли – ибо жена посмела от Него отречься, – и синды слушаются, потому что месть Солнца всегда страшна. И очередную вспышку переживут немногие. До меня дошло быстрее, чем до Ша. Она всё ещё там, пытается доказать им законы, в которых выросла сама и которые уже устарели для молодого правительства полисов. Похоже, жрицей Земли, как моя родительница, мне не стать.
«Как прекрасны виноградники, – думала я, глядя на места, мимо которых шёл наш караван. – Как жаль, если они сгорят – как сгорели живые стебли, кормившие предков, задолго до этого. Может, таково предназначение деревьев? Гореть, да и только».
Боги сделали мир простым и понятным, вот что я думаю. Лежу на песке, и постепенно волны настигают меня, пожирая влагой кромку берега. Жарко, вода так близко, что я не могу не предвкушать встречу с ней. Море разобьётся о меня, как об острую зубастую скалу, – ну хоть кому-то я смогу дать отпор. Боль в животе отступила, когда я вытянулась на земле и вслушалась в силу покровителей. Мои волосы смешиваются с песком. Хочу зарыться в него и глубоко вдохнуть хоть что-то кроме раскалённого бриза…
Меня резко поднимают, как тряпичную куклу, с которой мальчики-скифы играют в детстве, – и оттаскивают от берега, почти полностью мокрую. Похоже, Море накрыло меня, и не раз – я задремала в его чертогах от усталости после недели беспрерывного пути в никуда. И вот я в Синдике – кровоточащая и ненужная; и вот он, Институт, – в свете Солнца – несмотря на жару, холодный и неприступный, – и мы с ним оба не оправдали надежд Владыки племени Ветра.
Передо мной хранительница Ниару. Она бьёт меня по щекам и сдержанно спрашивает:
– Ты совсем с ума сошла?
Я не могу проморгаться; солёная вода щиплет глаза, стекает со лба, а яркий свет слепит. Сначала даже не узнаю хранительницу без шлема. Её глаза пронзают меня насквозь, как моё собственное копьё – забившуюся в кусты редкую олениху. В них осуждение.
– Я охотница и дважды ловила олених… – шепчу ей еле слышно, одними губами. Ниару изумлённо поднимает брови, но не переспрашивает о моём откровении.
– В море нет олених.
Меня завораживает её тихий, вкрадчивый и уверенный голос. Она мне говорит: «Перед Морем невозможно устоять – любая бы свалилась», – и сразу же отпускает мои плечи, стоит мне встать на ноги. Плоть – там, где были ладони хранительницы, – ломит, словно я летела с обрыва по камням. Прилипший песок скрипит на зубах, когда я благодарю Ниару. Та просто кивает в ответ.
– Не ожидала найти тебя здесь, – замечает она. И правда: я обещала остаться во внутреннем дворе, но меня начало тошнить от мраморных изгородей. Скифия – по виду безликая, каменистая, жёлтая, неплодородная, а у них в Синдике – безмятежность… Люди учатся, любят, смеются, отдыхают. Это совсем не похоже на мою жизнь.
У них, вот как я считаю, – не «у нас в Союзе», Ниару – скифка, но она слишком давно в Синдике, и мы с ней как день и ночь. И она тоже это чувствует. Мы киваем друг другу, не скрывая напряжения. Она, очевидно, присматривает за мной и шла до самого берега, желая проверить, что я тут делаю.
– Какой срок нам дозволено здесь оставаться?
– Ты можешь остаться до завершения Игр, – она позволяет себе говорить со мной на родном скифском. Так и я не упущу ни единого слова.
Чувствую в словах хранительницы некую благосклонность, но пугаюсь её и делаю шаткий шаг назад. Олимпийские игры – моя тайная мечта, и никто не должен с ходу уметь разгадать её.
– Институт позволит тебе посетить праздник и факультативы. Некоторые ремёсла требуют всего пару месяцев на освоение. Шитьё, например.
Неясно, почему послом наигранного гостеприимства прислали сухую и уставшую Ниару – когда я уходила, она оставалась охранять мою опасную и вооружённую острым умом Ша.
– Синдика может предложить тебе многое. Таким, как мы, здесь доступно не только деторождение, – и она выразительно кивает на мой впалый голодный живот, скрытый под повязками одежды.
– Я стану родительницей и Владыкой своего племени, моя… моя судьба предрешена, – запинаюсь, и Ниару сразу замечает это.
Синдика контролируется мужчинами и женщинами наравне, и разговоры тут ведут длинные, откровенные. Управительница их Института изъяснялась заумно, пытаясь доказать, что «в современном обществе больше не учат деторождению». Ша не устраивает такое мироустройство. Но это был неравный разговор, ровно как у нас с Ниару. И мне совсем не нравится проигрывать Синдике в убеждениях.
– Неужели ты бежала из племени в тягости? Бежала не одна? – спрашиваю я прямо. Откуда-то я чувствую, что так было. Шаманы, клеймившие меня, говорили, будто во мне есть кровь степной орлицы – а потому иногда, если постараюсь, я умею видеть прошлое сквозь чужую кожу. Ниару так убеждает меня остаться, словно это личное.
Скейт-парк в этом мире.
[Закрыть]
