Read the book: «Год Горгиппии», page 2
Тогда я ещё не знала, что сундуки с боспорским золотом и гонцы едут далеко впереди моих лошадей – и к моему прибытию царевна Боспорская, дочь Солнца Ксанфа Александрийская уже будет зачислена в Институт безо всяких испытательных состязаний. Благо я всегда верила и верю: Солнце не оставит меня одну.
Глава вторая
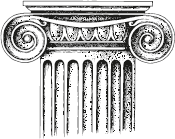
ИРАИД
Институт лженауки и искусств, Синдика, столица Горгиппия
Вот что следует знать о Море: Оно не даёт жизнь, а лишь забирает её. Глотать воду опасно, камни остры, дно ядовито – лучше в воду не соваться, в общем. Море – зловещие мокрые волосы-водоросли, обжигающие доспехи из руин со дна, бирюзовая кожа – не такое уж и красивое, как обычно изображают художники. Скорее, злое и неистовое. И я бы сердился, если бы на моём берегу стоял великолепный храм старшему брату. Алтарей Морю не строят – всё равно Оно их смоет.
С неизведанной стороны суши во́ды ещё более негостеприимны. К нам никто не приплывает, потому что мира за пределами Союза нет. По крайней мере, нет мира живых – так нас учили, и так мы продолжаем учить. Я за пределы не стремлюсь, неплохо устроен и на своём месте. Здесь я знаю все правила и законы.
Пока студенты доделывают свои ореховые доски, втирая в податливую незащищённую древесину масляную пропитку, я подхожу к песочной кромке и сразу получаю путы из водорослей на здоровую ногу. Пахнет неприятно – вода цветёт и гниёт, ведь ею управляет редкостная дрянь. Лью вино в жадные волны, и те довольно впитывают принесённую кровь с лучших лозовых плантаций Боспора.
– Я привёл тебе наивных жертв на растерзание, – неискренне улыбаюсь я, до дна опустошая кувшин с щедрым даром. Позади меня кривятся парни – запретное удовольствие досталось не им, – а девушки хмыкают, разогревая и разминая мышцы. Они благодарны своему учителю за то, что из купальных обмоток не нужно будет вынимать редких морских обитателей и растительность благодаря принесённой жертве. – Пожалуйста, дай нам позаниматься сегодня. Я вернусь с вином ещё раз.
Волна лижет мою ногу из плоти, выражая своё одобрение, и я еле сдерживаю отвращение. Моя принадлежность Солнцу сильно мешает прислуживать наглому мокрому божку. Мы больше не выходим в Море, как это делали предки. Никто не поклоняется этой мутной воде.
Мы пытались – скифы нашли много полезных чертежей в пустошах, а колхидцы вылепили нам прототипы древних стальных плотов. Смельчаки встали на них, ушли по воде и не вернулись; а после отлива (Море иногда отбирает воду почти до горизонта) мы шли пешком туда, где прежде плескались волны, и отыскали их останки совсем недалеко от берега. Море всегда непредсказуемо и упрямо. Я должен научить этих детей держаться на воде вплавь и на досках, чтобы они могли давать отпор жестокой стихии, когда отвергнутый бог будет их топить.
Я почти беспомощен в своём увечье: утопаю в мокром песке тяжёлой подменой и, шатаясь, присаживаюсь (точнее, падаю) на берег, едва успевая бросить под одежды дощечку. Теперь я вижу воду и берег одинаково плохо. Сопровождавшие меня студенты запоздало реагируют на то, что я сажусь, – именно они помогли мне пересекать барханы. Филлиус – староста этого сборища – спешно кланяется мне и всем своим видом стыдится невнимательности. «Филлиус, – говорю ему я каждый раз, когда теряю равновесие за его спиной на песке, – не беси меня – иначе я тебе тоже ногу оторву». Я весьма добр к своим ученикам.
– Путеводный! – одна из девушек подбегает ко мне, её чёрные волосы заплетены в две перевязанные между собой косы: непривычно воинственная причёска для её языковедческого искусства. Путеводными студенты обязаны называть тех, кто учит их как своих последователей. Не для всех присутствующих, впрочем, я столь важная персона. – Позволь мне первой пройти волну.
Я теряюсь, не зная, что ответить. Мне тревожно отпускать второкурсницу на гребень. Море не особо благоволит нам, несмотря на дары: я уже вижу хищные зубы на верхушках волн. Укачает враз.
Скорее всего, сейчас будет непросто стоять на доске. Раньше я сам разбивал гребешок тяжёлой неповоротливой полосы, вставал на доску, а остальные следовали моему примеру.
– Как тебя?
– Бати, мой учитель.
– Хм, Бати, не знаю… волна довольно опасна, и нужно много силы, чтобы удержать доску в толще… – я приподнимаюсь, пытаясь вглядеться в баламутящуюся трассу для пловцов. Хочу встать, но и здоровая нога подводит меня. Врезаюсь в Бати, и она успевает подхватить меня, нерушимая, балансирует и сажает обратно. У неё покрасневшие на солнце жилистые руки и хилые мышцы. Как и все не-синды, она обгорает. Облачение нетипично тёмное: словно она нарезала чей-то наряд и обмоталась им, обнажив руки по локоть и ноги по колено. Смотреть на неё мне неловко, но проявление упрямства очень похвальное.
– Такой силы достаточно? – хмыкает она. Я моргаю, растерянный.
– В-вполне, – голос не слушается меня, но я быстро беру себя в руки. – Колхидка? – У меня слабость к колхидцам. Кто симпатичный – сразу оттуда.
– Аварка, – не перестаёт ошеломлять меня Бати. – Полное имя Патимат.
Вот почему она так бледна! Аварцы здоровее нас всех – они, пусть близки к Солнцу, своим иноверием научились прятаться от него за горными туманами. Похоже, я не узнал её только потому, что весь первый курс она скрывала свою силу под платком.
– И зачем тебе первенство, Патимат?
– Это станет моей заявкой, Путеводный.
– Заявкой на что? – я знаю и, потому что знаю – отворачиваюсь.
– На Олимпийские игры. Я стану атлеткой, продолжив твой путь.
Личные дощечки Ираида, учителя культуры тела и спорта в Институте полиса Горгиппия:
Если бы я знал, что сказать ей в ответ, – то я бы сказал. Но я не знал и не сказал.
Я молча смотрел, как она берёт свою до блеска отполированную доску из реликтовых предгорных деревьев – инвентарь студенты делают себе сами – и мочит ступни в воде, стараясь привыкнуть к ней. Поверхность нашего моря греется на солнце быстрее, чем тает охлаждающее питьё в трапезных. Она не спрашивает у меня разрешения, а идёт к намеченной цели. Другие девушки сторонятся Патимат, парни стыдливо отводят взгляд, стараясь не смотреть на шрамы от розог на её спине – в её родных землях суровое воспитание, которое осуждается в Синдике.
– Ты сделала подношение, как я просил? – Филлиус возникает передо мной словно ниоткуда, но обращается к Бати. Когда они целомудренно соприкасаются лбами, их силуэты перекрывают сжигающее мои глаза солнце. Я стараюсь не слушать, но всё же слышу – и убежать от чужих тайн не могу.
– Стихия мне не близка, как и ваши Боги, – смело заявляет она. – Я хочу доказать всем, на что способна. Мне нет равных в укрощении живого коня, так почему я могу не справиться с мёртвой водой?
На месте Моря я бы её утопил.
Но незаметно для нас всех, упирая доску в волну и умело балансируя на ней, Патимат встала на воду разрушенного храма Моря. Храма того, кто всеми отвергнут.
* * *
Вечером я сидел у деканши в приёмной, вызванный на покаяние. «Нарушение техники безопасности» – моя любимая директива Института, но сегодня моя вина усугубляется национальностью Патимат.
– Атхенайя, душа моя… – я глубоко вздыхаю, падая локтями на её стол. – Нельзя ли вообще убрать это из нашей клятвы?
– Убрать? – она качает головой, недовольная. Серьги её звенят, а бронзовые волосы сияют в закатных лучах. Ночь нежна, прохладна и потому коротка: темнеет в наших краях всего на пару коротких снов. – «Не навреди студенту» – убрать? Может, тогда сразу «донеси свет знания» убрать? Ты клялся, Ираид.
И тут она встаёт, и меня пронзает порыв лечь к подолу её деканского наряда – и скулить там, мямля оправдания.
– Ну, я много в чём клялся…
Дай бог Солнце памяти: это была и клятва сына, и клятва спортсмена, и после – чемпионская, учительская, и меж тем… моя клятва Атхенайе о верном супружестве. Нам было по семнадцать, и значение брака в Синдике с тех пор слегка изменилось, потому что последний супружеский долг она мне отдала, став деканшей факультета искусств в нашем Институте и дав мне тем самым должность учителя. Мы давно ничем не связаны, и всё же я побаиваюсь её до сих пор.
– Ира! – теряя самообладание, она хлопает ладонями по столу, тот неприятно трещит. Моя Атхенайя – искусная строительница полисов, ей любая мраморная колонна по плечу.
– Но всё же хорошо закончилось, – я отстраняюсь, потому что своим всплеском она меня прогнала. – И для меня, и для Бати…
– Патимат исключена из Института, – сокрушённо признаётся Найя, и я узнаю надлом в её голосе. Уж за ученицу-то она боролась. – Союз между Аварским каганатом и… – она кашляет, – остальным нашим миром очень шаток. По их убеждениям, женщины не могут превосходить мужчин.
– Но она не превзошла меня! – фыркаю я с улыбкой и, мне кажется, вижу проблему насквозь. И решение ей найду легко, дайте мне только шанс. – Да, я… – стараюсь не смотреть на израненное операциями бедро, – сейчас не встану на доску с былой лёгкостью, но и борьбы как таковой не было…
– Тебя и правда сложно превзойти, – нежничает бывшая жена, да так неправдоподобно, что мне приходится задержать дыхание, лишь бы не пустить слезу. Я инстинктивно оттягиваю край короткого хитона, но свой недостаток мне не скрыть. – Но дело не в этом. Клянусь тебе Солнцем: я потом и кровью пропихиваю этих девушек в Институт… Некоторые царства просто… мы вырождаемся, культура гибнет, соседи отстраняются от нас. Синдика должна всех объединить. И эта Олимпиада тоже. Но не так резво – с ходу позволять аварской покрытой девушке снять платок и оседлать волну…
– Проще от бессилия винить меня? – я понимающе подвожу итог нашей беседы. Тяну к ней руку, беру ладонь и целую пальцы. Элементарное проявление вежливости, ничто внутри не ёкает. Я встаю сам, хотя Атхенайя и порывается помочь. – Не нужно. Продолжай нести своё важное слово, а я похромал в свои покои.
– Ира, – её голос опять жалостливый. Злит даже. С кем не бывало? Боги ежедневно отнимают у нас что-то: барана, вино, хлеб, конечность. – Я знаю, быть учителем – не твоё призвание. Ты не учился на это и даже не помогал братьям или сёстрам. После тридцати оборотов солнца мы готовимся передавать наследие потомству. Институт – вот наше потомство.
Мы возлегали с Атхенайей многократно и безуспешно. Богиня-матерь Земля сразу отвергла её: я согласился на бездетность, потому что не хотел продолжения рода (хотел остаться единственным в своём). Мои свободные взгляды и атлетические сборы за пределами полисов позволяли жене пробовать и других мужчин на плодородных вечерах. Почти каждая женщина в наше время лишена дара рождения, а редкие счастливицы нарекаются жрицами Земли и уходят в Её чертоги подальше от Солнца и Моря.
Я прищуриваюсь, глядя на Найю: если бы богиня поменяла своё к ней отношение и обильно пролила её кровь на восхождение Луны, бросила бы бывшая жена все свои достижения и богатства развитой жизни, отдалась бы слепому размножению во имя союзного рода? Я не знаю.
Иду я, конечно же, не в покои. Некоторые учителя живут на территории Института, в добротном доме; у нас окна-арки, столбы охлаждения, которыми управляют лжеучёные, общие трапезные и приходящие прислужники для стирки и уборки. Там хорошо, но одиноко и пусто. Я никого, кроме Лазаря, не знаю, а он живёт на верхнем этаже – это отношения на расстоянии. Слишком крутую лестницу мне не преодолеть, отнимает все силы, которые я приберёг на тренировку. На первом этаже только я, норка домоуправителя и служебные ячейки с тряпками – больше никого.
Мои шаги сопровождаются стуком и лязгом раз через раз. Замещение ноги – грузное, громоздкое – очень подходит Ираиду-прошлому, любившему быть в центре внимания, но не мне теперешнему. Солнце ещё не село за море, и я отбрасываю по свободному коридору причудливую тень. Она слегка скачет, словно её породило неведомое чудовище. Мне часто говорили, что я хорош собой, но внутри – урод. Теперь сошлось – мой внешний облик соответствует внутреннему состоянию.
– Эй, атлет! Куда бежишь?
Голос Лазаря эхом разносится от лестницы ко мне. Он стоит на верхней ступени и прижимает к себе свёрнутые эскизы, а плечи его оттягивает незакрытая сумка с виднеющимися пробами глины.
– Трудный день?
– Лишь один из многих.
Я вижу, что он торопится – а когда не торопился? – и переминается с ноги на ногу. Вид у него уставший, но я вслух его не обижаю. Могу предложить ему, стоящему во тьме, выйти ненадолго на свет, в остывающий вечер, пропустить по парочке стаканов горького льда со своим кое-как-до-сих-пор другом. Мне не хватает яркости в жизни, общности, смеха и удовольствия – я скучаю по старому себе.
– Как поживает твоё мурчащее создание? – спрашиваю я его из вежливости.
Я не совсем одобряю пленение живого существа в клетке жилища, но Лазарь, видимо, так справляется с одиночеством, в котором я себе отказываюсь признаваться.
– Муза? Спасибо, что спросил, она растёт. Нужно её покормить, я задержался…
– Да-да! – я поднимаю руки: виноват, не отвлекаю. – Хорошего вечера.
Лазарь вздыхает облегчённо и кивает; а после в пару шагов взбегает наверх через лестничный пролёт, торопясь запереться в своём безопасном уголке. И я следую его примеру, ухожу к себе и только ширму задвигаю нехотя, надеясь, что меня кто-нибудь окликнет.
Я пропускаю ещё один общепринятый день веселья (которым завершается каждый учебный цикл) – и игнорирую радостный шум набережной, а после открываю охладительное окошко в стене, чтобы заглушить тишину мерным капанием воды внутри системы. Вечерний комплекс упражнений даётся мне хорошо, мышцы разогреты яростью и обидой, а кожа умаслена жалостью к себе. Отражающим серебром я пользуюсь, только чтобы управиться с вьющимися волосами по утрам, нижняя же часть – чтобы не видеть тело – мною разбита. Я стараюсь контролировать то, как выгляжу и во что одет, – на ощупь. Не хочу видеть свои мышцы, но каждый вечер отжимаюсь до скрежета и спазма в плечах, лишь бы чувствовать рельеф, даже когда просто поднимаю руку. Пока раздеваюсь и снимаю подмену – уже устаю. Перевожу дух, пью немного воды и уговариваю себя начать. Ужин пропускаю в угоду тренировке, чтобы не испытывать тяжесть.
Если Солнце отнимет у меня и вторую ногу – я научусь ходить на руках. Почти кричу, выпрямляя локти, чтобы удержать корпус на весу. В таком положении я чувствую обе ноги – та, которой нет, горит живым огнём не существующей на самом деле боли, – но, как назло, я ощущаю её слишком хорошо. Такая же боль зачастую будит меня по ночам.
За ширмой слышится шорох, стук о каменную кладку, и тихие шаги спешат прочь – я тут же сбиваюсь с позиции и с грохотом роняю себя на пол. Отодвигаю ширму, чувствуя боль: я едва не вывихнул себе руку, неудачно сверзившись из-за тайного гостя. Нахожу на полу свёрток и сразу сажусь рядом с ним, не в силах больше удерживать вес тела на одной ноге.
Разворачиваю ткань для сохранения тепла и вижу еду в походной миске и записку на ценном кусочке с зарисовкой умелой рукой.
(рисунок кота)
Всё же друг у меня есть. А когда имел две ноги – не было ни одного. Откладываю миску и обещаю себе, что съем это на завтрак. Но знаю, что предпочту ароматной жирной рыбе привычную уже похлёбку, которую давно уговорил себя любить.
ШАМСИЯ
Степные земли, дорога на Горгиппию
– Шама?
– М?
Детское личико появляется из вороха тканей. Я разжалована из защитниц племени – но безопасность каравана неустанно блюду. Глаза слипаются, и я из последних сил опираюсь на лук руками. Руками привычной мне Шамсии-охотницы – а вторая ипостась крепко спит глубоко внутри меня, несмотря на восхождение Луны. Пытаюсь посчитать, когда мне понадобится остановка, чтобы сменить повязки. Я много раз ранилась – моё тело покрыто шрамами наравне с племенными подкожными рисунками, – но впервые кровопролитие было таким неконтролируемым и требовательным. Обычно ткани-бинты с компрессами срастались с корочками ран на теле – и ничего! – а тут стоит чихнуть, и…
– А что такое полис? Ты была в полис? Почему полис – не мы?
Младшая сестра – драгоценность. Скифы очень ценят, когда в племени поголовно рождаются девочки. Неужели и у меня когда-нибудь будет дочка? Я реагирую на эту мысль крайне противоречиво и совсем не радостно.
– Очень много вопросов, Зира. Спи.
Зира – буквально «мучение» по-скифски. Ша она далась очень тяжело, и за крики своей дочери в родах матери Земле должно быть стыдно.
– Но я не хочу спать, – сопротивляется Зира. Может, станет будущей искательницей? Хотя нюх у неё неважный – она ест полынный суп Ма с удовольствием и просит добавки. – Я хочу знать мир.
– Много кто хочет, Зира.
– Шама, мне только ты расскажешь. Сёстры говорят, что ты самая умная. И что ты бывала с Ша в полисе. Только ты бывала!
– Это правда, – я горделиво принимаю лесть. Удивительно, как хитры дети в поисках сказок, спасающих от скуки. – Ведь я тоже находила полезные для полиса вещи, как и Ша. Ты знаешь, почему Скифия – место без земель и царей?
Зира издаёт нечленораздельный звук, желая узнать всё возможное. Заумных книжек, как синды, мы не пишем – всё передаём из уст в уста.
– Благодаря нашей кочевой жизни мы натыкаемся то тут, то там на реликвии и артефакты.
– Рек-вил-к-вии? – она пробует новое слово на языке полисов и тут же смеётся. – Какая глупость!
– Ничего не глупость. Ты же знаешь, что до нас тут жили другие люди? И на землях, по которым едем сейчас, тоже… Мы, может, едем по дорогам предков. А может, и по их разрушенным домам.
– Что такое дом? Какие люди?
– Я не знаю, но они оставили после себя много интересных вещей. А мы ищем эти вещи и отвозим в Синдику, например, – это помогает полисам развиваться. – Я умалчиваю о том, что мы берём и требуем взамен многое, потому что детям рановато знать правду об истреблении и злопамятности. – Там стоит большой Институт – в нём учат и древности, и современности.
– И ты там будешь учиться? И я?
– Что ты! – я неловко смеюсь. – Таким девушкам, как мы, там не место. Мы трудимся на благо своего племени.
– Но если бы нас научили… то наше племя могло бы жить как полис?
Я не нахожу достойного ответа на эту мудрость юного ума. Если бы мир был таким простым и союз – безвозмездным, мы бы не кочевали от кострища к пустоши и обратно.
– Спи и не беси, – и тут же смущённо закидываю хихикающее лицо тканями, запаковывая сестру в кокон.
Хоть Синдика и пытается поддерживать со всеми республиками крайне дружественные отношения, мне всегда казалось, что Союз трещит по швам – слишком мы разные. Я не понимаю полисы ровно так же, как его жители не понимают степей. В полисе дом – строение для сна и жизни в нём, мы же спим под открытым небом, и для нас дом – это люди и племя. Разве спортивные состязания могут объединить нас?
Я снова колю себя правдой. Будь я частью сотен атлетов, бегущих к одной цели, – тоже чувствовала бы духовное единение с ними. Мы бы пили из одной чаши и ели из одной миски, будь у меня шанс.
Мне привычно не тешить себя пустыми мечтами. Таково скифское воспитание: защищаться, питаться подножным кормом и идти дальше, не оглядываясь назад.
– Сбегаешь от нас, мар-ни? – голос Ма расстроенный, хоть он и зовёт меня любимицей на нашем наречии. – Я буду по тебе скучать.
– Я никуда не деваюсь, дорогой мой Ма, – сильно смущаюсь и поджимаю губы, зная, что не могу с ним такое обсуждать. Положение Ма не самое важное для племени, потому что мою родительницу давно интересуют мужья помоложе. У Ма красивые прямые тёмные волосы с сединой и узкие глаза – и мне передались вся его инаковость, сахарная смуглость кожи и медовый голос. Когда-то он был настоящим восточным красавцем.
– Полисы опасны, мар-ни, будь внимательна. Могут говорить другое – но скифам там не рады. Никогда не были рады, особенно в Горгиппии.
– Разве не там ты родился?
– Там, – он вздыхает и отводит свои чёрные глаза. Я знаю, он осторожничает в выборе слов, потому что не хочет меня пугать или путать. Ведь старшие сёстры огрызаются на него, если он даёт совет. Но это же мой Ма – я плоть и кровь от него и поэтому меняю боевую позицию на ракушку-дочь у его коленей. Повозка шатается, гружёные мулы ворчат. – Но я не синд. И даже не скиф…
И не боспорец, и не колхидец, и не «безымянный из пустошей». Ма родился рабом у обнищавших господ, и я это знаю – Ша его буквально выкупила у тех, кому задолжала его семья. Рабы не имеют национальности, это национальности… имеют их как вещи. Ша, конечно, говорит, будто с развитием Союза и рабства больше нет. И всё же мысль о том, что в чуждом полисе меня поджидают мешок и путь до каменоломни, иногда терзает моё нутро.
Дорога в Горгиппию обещает быть бесконечной, и поэтому я позволяю рукам Ма расплести мне косы, а его словам убаюкать. Синдика будет приветлива, если я буду выглядеть хорошо: сначала меня протянут послам как «дар Земли», потом посвятят в жрицы, а после, наверное, там же и оплодотворят… Я не знаю, как это работает. Главное, чтобы я не отвратила их своими рваными сандалиями и обломанными ногтями.
– Это ведь твоя сила, знаешь? – нежно говорит Ма.
– У меня сила в руках – я тягаю тюки в два раза больше меня самой. И в ногах – когда километры бегу без устали. А нутро… нутро слабое, оно ноет и требует. Это не сила.
– Но преимущество же. Ноги-руки у каждого есть. Мало ли кто сильный физически… Ты по-другому сильная.
Я хмыкаю. Не важна сила в руках и ногах? Поди встреться со степной собакой – можно и без головы остаться. А гордиться тем, что я не контролирую, мне противно. Потому я чувствую жажду к спорту: там ты можешь полагаться только на себя и без воли не победишь.
– Ма, а чего надо слушаться – тела или сердца?
Он замирает, явно хмурится и смотрит задумчиво на линию горизонта. Я слушаю наши сердца и то, как ворочаются другие люди в повозке, благо шёпот никому не мешает. Недолго Ма избегает меня, сосредоточенно складывает в мешочек мои нарядные колечки из бронзы, которые завтра закрепит в косах, и молчит. Он не позволит мне ударить в грязь лицом, наверняка и наряд мне новый схлопотал. И всё же я мягко тяну его за рукав, пытаясь ненавязчиво потребовать ответа.
– Я слушаю тело. Мне понятнее позывы, а не ощущения, – наконец отвечает он тихо.
«Это правильно, – говорит мне подсознание. – Так люди выжили. Те, кто только сердца слушался, сгорели в солнечной вспышке. Если чувствуешь, что кожу печёт, – прячься, а не раздумывай, не обманываешь ли ты себя и не стерпеть ли тебе эту жару, лишь бы показаться более выносливым».
– Это низменно, – поясняет он, слыша моё смятение. Когда нервничаю, я пыхчу. – Но наши народы давно не стремятся ввысь. Ты знала, раньше люди летали, как птицы? Они погибли первыми.
Ма ходил на курсы в полисе с самого детства. Он был прилежным учеником и потому так спокоен при любом унижении – внутри него сформирован стержень, не позволяющий запросто упасть от глупого удара.
– У них были крылья? – наивно переспрашиваю я.
– Этого я не знаю, – смеётся он. – Никто не знает. Мы не понимаем языка истлевшей бумаги.
Я представляю себе: молодые люди склоняются над осколками наследия предков. Девушки придерживают струящиеся ткани нарядов, чтобы внимательнее разглядеть находку. Мальчики плетут что-нибудь, занимая руки, пока женщины посвятили себя думам. Все друг с другом беседуют и едят особенно вкусные угощения, может, даже виноград. Ах, как бы мне хотелось попробовать эту диковинную ягоду! Говорят, её нам даровали боги, но люди из Института вот-вот опровергнут этот факт: мол, нет, это досталось нам от предков, как и прочие тысячи чудес. Полис живёт другими ценностями, нежели мы: там во главе суть, а не форма. Так мне кажется, о таком месте я грежу.
– А я хочу знать. И, может, не против поступить в Институт! И участвовать в Олимпийских играх! Я быстрая, смелая, умелая. Почему никто не знает об этом? Пусть узнают!
– Ты уже взрослая, Шамсия…
Разочарованно вздыхаю. Конечно, он будет меня отговаривать: у меня-то теперь совсем другое предназначение. Владыка расписала мою жизнь от родов до родов и уже мысленно вверила мне власть над племенем. Управляться с ним много ума не надо, главное – полагаться на инстинкты и брать опасности нюхом, а уж этому она меня обучила ещё в утробе.
– …и сама распоряжаешься своей жизнью. По крайней мере, так принято в Синдике. А мы направляем тебя именно туда.
КСАНФА
Синдика, столица Горгиппия
Синдика удивительно красивая страна. Конечно, по статусу мне нужно восхищаться только Боспорским царством, однако его наполовину лысые холмы и мысы не пленяют меня так, как золотистые насыпные барханы, которые цветом – словно мои собственные волосы. Я и сама будто вышла из этих песков, родилась из них.
Солнце тоже питает к этим землям особую любовь, оттого раскаляет полис до предела и не даёт Ветру прохода. Моё тело устойчиво, и этой божественной силе меня не обжечь, однако жару я чувствую, как и прочие. Поднимаю свои волосы руками и глубоко выдыхаю, стараясь охладить грудь и снаружи и внутри. Платье, местами мокрое и прилипшее, мешает мне идти за послами широким шагом. Бёдра с внутренней стороны краснеют от трения.
– Как вы тут ещё заживо не сгорели?.. – капризничаю я, и мужчины впереди меня останавливаются. Обернувшись, они застают меня запыхавшейся от быстрой ходьбы по жаре.
– Мы как раз хотели попросить вас, чтобы вы побеседовали со своим Отцом о милости ко всем нам. Уровень плавления скоро расправится не только со льдом, но и с нашими внутренностями, – саркастично отзывается глава полиса. Я не запомнила, как его зовут, но он постоянно использует заумные слова.
– И как боспорский царь вам тут прохладу устроит? – я щурюсь и морщу нос.
Горблюсь, когда Солнце называют моим отцом. Это лишь удобная легенда, не более. Никто из живущих не видел Бога в Его человеческом обличии. Возможно, моя мать-царица просто бредила о своей избранности – а отец принял эти заблуждения на веру.
– Как мы благодарны за такой радушный приём! – тут же рассыпается в лести мой сопроводитель-умаслитель. Он приставлен ко мне для того, чтобы я творила что хотела – а он оправдывал и прикрывал. – Горгиппия прекрасна.
– Правда? – глава полиса счастливо улыбается. – Не верится, что мы всего за полсотни оборотов отстроили здесь пристанище, поистине достойное наших предков. А наша гордость, сердце лженауки и душа искусств, – он указывает на роскошное здание, напоминающее дворцовый союз, – Институт – стоит в его центре.
– Конечно, ведь Боспор молился за ваше благополучие, – я говорю так, как меня учил отец. Собственных заслуг у моего царства, видимо, нет.
– Царевна Александрийская, вы мудры не по годам.
– Прошу вас, просто Ксанфа. И мне семнадцать оборотов солнца, пора бы уже…
Мужчины снисходительно надо мной смеются. Им-то больше сорока – седые бороды и дряблая кожа под хитонами выдают. Это уже вполне себе закат жизни, а вот я – сияю в пике.
Я гляжу на выросший посреди полиса Институт с тоской. Во мне нет тяги к знаниям, я бы предпочла оставаться вне общества – в своих дворцовых покоях. Но если того требует положение, что ж, я послужу на благо нашей шаткой цивилизации и притворюсь настоящей наследницей Солнца.
– Должна предупредить, – вдруг вклинивается в нашу беседу щуплая старая женщина, которая вроде как заведует лжеучёными делами республики. – В Горгиппии действует закон равновесия. Это значит, что ваше присутствие не… – она оглядывает меня с лёгким раздражением, – не тяжелее, чем присутствие любого студента из другой страны независимо от его положения. Вы важны, но не важнее прочих. Вы понимаете, о чём я?
Я нервно сглатываю и поглядываю на своего сопровождающего. Тот явно не находит правильных слов, чтобы поставить синдку на место. Мне хочется вспылить, чтобы мои волосы загорелись как языки пламени Солнца. Говорят, прошлый его наследник, живший давно, и правда был награждён огненной шевелюрой – меня же этим даром обделили. Достались лишь миловидное лицо и статус разбалованной истероидки. Впрочем, тому наследнику не повезло, он родился в кузнях Колхиды в бедной семье, а я ни дня в жизни не знала труда.
– Парфелиус, перестаньте мучить дитя. Отдавайте её уже поскорее мне, я о ней позабочусь.
Ах вот как зовут главу полиса.
– Атхенайя! – радостно приветствует он в ответ женщину, которая стоит в дверях Института. Я беззастенчиво оглядываю её: она в дорогих тканях, и даже цветных – голубые как небо накидки держатся на её локтях. Крепкий стан утянут серебристым стальным корсетом. Сама она атлетично сложена – широкие плечи, узкая талия. Мне представляют её как деканшу факультета искусств.
– А какое искусство я буду изучать? – шёпотом спрашиваю я сопровождающего.
– Атлетику, ваше сиятельство.
– И с каких пор это искусство?
Он возмущённо шикает на меня. Арфа – вот искусство. И арфисты… Атхенайя подстраивается под мой шаг и снисходительно улыбается.
– Атлетика ещё какое искусство, моя дорогая. И, думаю, оно тебе подвластно.
Интересно, она со всеми так мягка – или я особенная? Мои щёки наливаются жаром от ощущения неизвестного мне материнского признания. Удивительно, но Атхенайя совсем не выглядит мокрой от пота и пахнет очень приятно, маслами и травами. Я даже теряю способность отвечать, когда она кивком откидывает свои полусобранные волосы и одним этим жестом дарит мне ощущение, будто я зашла в охлаждающую купель.
Атхенайя берёт меня на экскурсию без мужчин, чтобы познакомить с Институтом.
– Теперь он будет домом для твоего тела и разума, – говорит она. – Альма-матер, если на языке предков. Вот, посмотри, – она обращает моё внимание на стену в просторной трапезной. Там изображён весь Союз в причудливой форме единого закольцованного берега. Почему-то Колхида и Боспорское царство на этом творении смыкаются, однако на деле мы находимся в противоположных частях уцелевшего мира. Атхенайя даёт мне понять – сама она колхидка. И, по её словам, не так уж мы и далеки друг от друга. – Я уже не могу представить, что Союза не существовало. Можешь мне не верить, но я родилась в год его заключения.
Выглядит она моложе, я удивлённо моргаю. Все за рубежом тридцати оборотов, кого я знавала, стары, как их чахлая глава образования.
– Разве не прекрасно, что столько людей объединились ради одной цели? И мирно сосуществуют во имя неё? Кто такие синды без нас, без аварцев, без скифов? И кто мы без них? Просто кусочки земли у моря под солнцем. Ничего примечательного, – Атхенайя пожимает плечами.
– Ты радикальна. И чересчур поэтична, как певцы-попрошайки у дворца моего отца.
– Кто знает, может, я была одной из них? В Горгиппии легко подняться с самых низов до высоты твоего сиятельства, – кажется, она совсем не обижена на меня, и это восхищает. Броня её крепка и прочна. Я даже подумываю продолжить нашу перепалку, но она подаёт мне руку в знак мира. – Эти Олимпийские игры важны для тебя, я знаю. Ты можешь взойти на вершину, но тебе придётся за это побороться. И тебе на помощь придут лучшие учителя.
