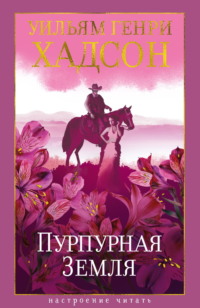Read the book: «Пурпурная Земля», page 5
Я расстелил мои коврики на воле и, укладываясь, обратился сам к себе с монологом. «Вот так и кончается, – говорил я, воззрясь уже начавшими слипаться глазами на созвездие Ориона, – приключение номер два, а если взглянуть попристальней, то можно сказать и номер двадцать два: не все ли равно, сколько их в точности было, если все они кончаются, по сути, одним и тем же – дымом – револьверным дымом – либо поножовщиной, а в итоге я должен в очередной раз отряхнуть прах со своих ног. Может быть, в этот самый миг Пакита, только-только задремавшая, пробудилась вдруг от гулкого крика ночного сторожа под окном, протянула руки, чтобы прикоснуться ко мне, и вздыхает в тоске, найдя мое место по-прежнему пустым. И что я ей скажу? Что мне бы следовало переменить свое имя на Эрнандес или Фернандес, на Блас или Час, или там Сандариага, Коростиага, Мадариага, или жить в ином веке, и вообще – составить какой-то заговор и перевернуть весь нынешний порядок вещей. Что мне еще остается, если этот восточный мир поистине – устричная раковина, и только острым мечом можно раскрыть ее? Оружие, войска, военная подготовка, все это тут не так уж необходимо. Надо только, чтобы кто-то сплотил нескольких выведенных из терпения, неудовлетворенных людей, чтобы сели они по коням и заварили как следует кашу в этой, как сказал бедный мистер Чиллингворт, ветхой, старой жестянке. Я чувствую, что так же, как этот несчастный джентльмен сегодня вечером, почти готов расхныкаться. Но все-таки мое положение не совсем столь же безнадежно, как у него; нет у меня такого звероподобного, багровоносого Бритта, который взгромоздился бы мне на грудь, как ночной кошмар и выдавливал бы из меня жизнь».
Выкрики и пенье бражников раздавались все слабее и реже и уже почти совсем прекратились, когда я провалился в сон, убаюканный одиноким пьяненьким голосом, без конца гудящим заунывно:
– Никуда мы не пойдем – не уйдем мы до утра…
Глава VII
Любовь красавицы
На другое утро спозаранку я покинул Толозу и ехал весь день в юго-западном направлении. Я не торопился, напротив, часто спешивался, чтобы дать моей лошади сделать глоток чистой воды и попробовать зеленой травки. Кроме того, три или четыре раза в течение дня я заезжал в попадавшиеся по дороге усадебные дома, но нигде не услышал ничего, что могло бы меня заинтересовать. Таким манером я проделал миль около тридцати пяти, все время продвигаясь в сторону восточной части области Флорида, лежащей в самом сердце страны. Примерно за час до захода солнца я принял решение дальше в этот день не ехать; и я не мог бы даже мечтать о более приятном месте для отдыха, чем то, что сейчас оказалось прямо передо мной – опрятное ранчо с широким портиком, поддерживаемым деревянными колоннами, стоящее в обрамлении прекрасных старых плакучих ив. Был тихий, солнечный день, вечерело, во всем вокруг – мир и совершенный покой, даже птицы и насекомые молчали либо издавали звуки слабые, еле слышные; и этот скромный домик с его грубо сложенными каменными стенами и соломенной крышей, казалось, полностью гармонировал со своим окружением. Он выглядел, как и должна выглядеть обитель простодушных, ведущих пастушескую жизнь людей, чей мир – единственно им знакомый – поросшая буйными травами пустыня, орошаемая бесчисленными чистейшими ручьями, ограниченная со всех сторон лишь ничем не нарушаемым дальним кругом горизонта, накрытая синим куполом небес, который по ночам весь в звездах, а днем полнится ласковым солнечным сиянием.
На подъезде к дому я был приятно удивлен тем, что навстречу мне не бросилась, заливисто лая, свора лютых псов, жаждущих порвать на куски дерзкого чужака, – а именно такой встречи всегда и ждешь. Единственными видимыми живыми существами были здесь седовласый старик, который сидел, покуривая, посредине портика, и, в нескольких ярдах от него, молодая девушка, стоявшая под ивовым деревом. Но что это была за девушка: смотришь, не можешь насмотреться – а потом будешь хранить ее облик в памяти всю оставшуюся жизнь. Никогда не случалось мне созерцать образ такой законченной, такой полной красоты. Это не была красота того рода, который столь распространен в здешних краях, та красота, что налетает на вас, как внезапный порыв юго-западного ветра, pampero, едва дух не вышибает вам из тела, и так же внезапно исчезает, оставив вас с растрепанными волосами и набитым пылью ртом. Красота эта действовала скорее как весенний ветерок, нежно веющий, чуть касающийся своим дыханьем вашей щеки, наполняющий все ваше существо восхитительным, волшебным ощущением подобно… но нет ничего подобного ни на земле, ни в небесах. Девушка была, наверно, всего лет четырнадцати, с фигуркой стройной и полной грации, и с кожей изумительной белизны, на которой яркое солнце Восточного края не оставило ни пятнышка, ни крапинки. Более совершенных черт лица, думаю, не приходилось мне встречать у представителей рода человеческого, а ее золотисто-русые волосы, заплетенные в две тяжелые косы, свисали у нее за спиной почти до колен. Когда я приблизился, она подняла на меня свои очаровательные, серо-голубые глаза, на губах ее показалась застенчивая улыбка, но она не двинулась и не произнесла ни слова. На ивовой ветке, прямо у нее над головой, сидела пара молодых голубей; это были, как выяснилось, ее домашние птички, они еще не умели летать, и она сама их туда посадила. Птенцы, потихоньку переступая, отошли немного по ветке, она не могла теперь до них дотянуться и, чтобы добраться до них, пыталась нагнуть и притянуть к себе ветку.
Я слез с лошади и подошел к ней.
– Я достаточно высокий, сеньорита, – сказал я, – и, наверно, смогу их достать.
Она с боязливым интересом наблюдала за мной, пока я осторожненько снимал ее птичек с их насеста и передавал их ей в руки. Потом она поцеловала их, очень обрадованная, и с милой застенчивостью пригласила меня войти в дом.
В портике я познакомился с ее дедушкой, седовласым стариком, и нашел в его лице человека, с которым очень легко поладить: он с готовностью соглашался со всем, что бы я ни говорил. В самом деле, не успевал еще я сделать какое-либо замечание, а он уже принимался с пылом выражать свое одобрение. Я встретился там также с матерью девушки, которая была вовсе не похожа на свою прекрасную дочь: у нее были черные волосы, черные глаза и смуглая кожа, как и у большинства испаноамериканских женщин. Я подумал, что, по всей видимости, отец должен быть белокожим и златовласым. Вскоре появился брат девушки, расседлал моего коня и отвел его на выгон, попастись; парнишка тоже был темный, темнее даже, чем его мать.
Эти люди обходились со мною с такой естественной, непринужденной доброжелательностью, что в доме у них я почувствовал особое настроение, какое поистине редко где встретишь. Это было не просто общепринятое гостеприимство, обычно выказываемое по отношению к пришлому незнакомцу, но настоящая, ненаигранная доброта, какую они, можно думать, выказали бы, наверно, любимому брату или сыну, с которым расстались поутру и который теперь вернулся домой.
Тут вошел и отец девушки, и я был чрезвычайно удивлен, обнаружив, что это маленький, морщинистый, темнолицый субъект, с бородой, черной как смоль, глазами-бусинками и коротким, толстым носом, из чего, несомненно, можно было заключить, что в его жилах течет изрядная доля крови индейцев-аборигенов чарруа. Моя теория по поводу чудной белой кожи и голубых глаз девушки потерпела крах; маленький чернявый человечек повел себя, однако, ровно с той же приятностью, что и остальные: он вошел, сел и присоединился к разговору так, как если бы я был одним из домочадцев и увидеть меня здесь было вполне для него естественно. И пока я болтал с этими добрыми людьми на простецкие пасторальные темы, вся скверна, все злодейства обитателей Востока – и то, как резали во время войны друг другу глотки красные и белые, и то, какие несказуемые зверства творились во время десятилетней осады, – как бы забылись совершенно; я чувствовал, что мне хотелось бы родиться среди них и быть одним из них, а вовсе не усталым бродягой-англичанином, нагруженным сверх меры оружием и доспехами цивилизации и уже шатающимся, наподобие Атланта, под бременем империи, над которой никогда не заходит солнце и которую подпирает он своими плечами.
Немного погодя этот добрый человек, чье настоящее имя так и осталось мне неведомо, так как жена называла его попросту Батата (сладкий картофель), критически поглядев на свою прелестную девочку, сделал такое замечание:
– А что это ты так вырядилась, дочка, – у нас что, разве праздник сегодня какой?
Его дочь, в самом деле! Я мысленно возопил в негодовании; да она скорее дочь звезды вечерней, чем этакого дядьки. Но его слова были, мягко говоря, нерезонны; потому что милое дитя, которое звали Маргаритой, хоть и носило туфли, но обходилось без чулок, а ее платьице, впрочем очень чистенькое, было из набивного ситца и уже до такой степени полиняло, что рисунок на ткани был почти неразличим. Единственным в ее уборе, что могло бы хоть как-то претендовать на звание украшения, была узенькая голубая ленточка, повязанная вкруг ее лилейно-белой шейки. И будь она одета в богатейшие шелка и осыпана роскошнейшими драгоценностями, она не смогла бы сильнее залиться краской и улыбнуться с бо`льшим смущением.
– Мы ждем дядюшку Ансельмо сегодня вечером, папита, – ответила она.
– Отстань от ребенка, Батата, – сказала мать. – Ты же знаешь, она по Ансельмо с ума сходит: когда он приходит, она всегда готовится принять его, как королева.
Это на самом деле было уже слишком для меня: я буквально почувствовал неодолимое желание тут же вскочить и задушить все семейство в объятиях. Как бесконечно мило было это наивное простодушие! Вот оно, нет сомнений, то единственное на всей огромной земле место, где все еще длится золотой век, – как будто последние лучи заходящего солнца все еще озаряют какое-то возвышенное место, тогда как все остальное вокруг уже погрузилось в тень. Ах, как это случилось, что судьба привела меня в эту чудную Аркадию? И мне ведь придется скоро ее покинуть, придется вернуться в безрадостный мир, где ждут меня тяжкий труд и борьба за существование,
Бессмысленная жалкая возня, С ума сводящий спор о золоте и власти, Забота, страсть – дыханье их огня Сжигает жизнь, на миг нам данную для счастья.
И если бы не мысль о Паките, ждущей меня в далеком Монтевидео, я бы тут же высказался в таком духе: «О добрый друг мой, Сладкий Картофель, и все вы, дорогие мои друзья, позвольте мне навсегда остаться с вами, под сводами вашего дома, дабы делить с вами ваши простые радости и, ничего лучшего не желая, забыть весь этот огромный мир, населенный бесчисленными людьми, которые вечно тщатся одержать верх над природой и смертью и оседлать фортуну, пока не растратят свои ничтожные жизни в этих напрасных стараньях, не свалятся бездыханными и не забросают их землей!»
Вскоре после захода солнца долгожданный Ансельмо прибыл, чтобы провести ночь у своих родственников, и, едва он успел слезть с лошади, Маргарита уже была тут как тут – попросить дядюшкиного благословения и прижать его руку к своим нежным губкам. Он дал свое благословение, прикоснувшись к ее золотым волосам, и она подняла к нему лицо, зардевшееся от нахлынувшего счастья.
Ансельмо являл собой прекрасный образчик гаучо с Востока: смуглый, с правильными чертами лица, волосы и усы чернее черного. Одет он был с шиком, а рукоятка его хлыста, ножны его длинного ножа и всякие другие штучки в его уборе были из массивного серебра. Серебряными были также его тяжелые шпоры, стремена, лука седла и оголовье уздечки его коня. Он был отменный говорун; ни разу, по правде говоря, за все время моих разнообразных жизненных испытаний не попадался мне никто, способный к словоизвержению столь неиссякаемому по поводу предметов столь ничтожных. Мы сидели все вместе на общей кухне, потягивая мате; сам я принимал мало участия в разговоре, который шел исключительно о лошадях, и даже еле прислушивался к тому, что говорили другие. Прислонившись к стене, я с наслаждением предался созерцанию милого личика Маргариты, в радостном оживлении залившейся нежным розовым румянцем. Я всегда питал пристрастие к роскошным закатам, к диким цветам, особенно цветам вербены, которые в этой стране так красиво называют маргаритками, а особенно люблю смотреть на радугу, когда ветер унесет грозовые тучи к востоку и по все еще мрачным бескрайним небесам над влажной, вновь озаренной солнцем землей она перекинет свою зеленую с фиолетовым арку. Все это чарует мою душу с необыкновенной силой. Но красота, воплощенная в человеческом существе, чарует меня даже еще сильнее. Есть в ней некая магнетическая сила, и тянется к ней мое сердце; это не любовь – потому что как может женатый человек испытывать чувства такого рода к кому-либо, кроме своей жены? Нет, это не любовь, но тяготение иного, высшего порядка, чувство неземное, напоминающее любовь лишь в той же степени, в какой аромат фиалок напоминает вкус меда и медовых сот.
Наконец, немного погодя после ужина, к моему огорченью, Маргарита встала, чтобы удалиться, не преминув, однако, сперва вновь испросить у дядюшки благословения. Когда она вышла из кухни, я, видя, что неистощимая говорящая машина Ансельмо все так же полна энергии и готова и дальше действовать неустанно, закурил сигару и приготовился слушать.
Глава VIII
Мануэль по прозванью Лис
Прислушавшись, я с удивлением обнаружил, что предметом разговора больше не был очередной чем-либо особенно замечательный представитель конского племени, а ведь до того весь вечер ни о чем ином, бесспорно, речь не шла. Дядя Ансельмо распространялся теперь о достоинствах джина, напитка, к которому, по его признанию, он питал особую склонность.
– Джин, – говорил он, – это, без сомненья, король всех крепких напитков. Я всегда придерживался того взгляда, что его и сравнить-то не с чем. По этой-то причине я всегда держу у себя немного джина в глиняной бутыли; попью с утра мате, а потом сделаю один-два-три глоточка джина, потом в седло – и еду себе, в желудке покой, чувствую себя в мире со всем окружающим.
И вот, господа, как-то утром замечаю, что в бутылке у меня осталось совсем мало джина; и хотя я, конечно, увидеть, сколько там есть, не могу, раз бутылка из глины, а не из стекла, но судить о том можно по тому, как сильно приходится бутылку наклонять, когда из нее наливаешь. Чтобы не забыть, что мне надо в этот день привезти домой джину, завязываю я на своем шейном платке узелок; потом влезаю на лошадь и еду в ту сторону, где солнце садится, не имея никаких предчувствий, что со мною в этот день должно случиться что-то необычное. Но вот так-то оно частенько и бывает; потому что никто, будь он даже человек с образованием и имеющий привычку почитывать календарь-альманах, не сможет сказать, что день ему принесет.
Ансельмо был так чудовищно банален, что я почувствовал сильное желание отправиться на боковую и, может быть, увидеть во сне прекрасную Маргариту; но, во-первых, вежливость не позволила, а во-вторых, я все же был слегка заинтригован и хотел услышать, что за необычайное происшествие случилось с ним в тот богатый на события день.
– И по счастью так вышло, – продолжал Ансельмо, – что в то утро я оседлал лучшую из моих белоносых, а на этой-то лошади, могу сказать, и никто со мной спорить о том не станет, я действительно еду верхом, а не иду пешком. Я этого коня зову Чинголо, такую кличку ему Мануэль, которого еще Лисом называют, придумал, потому что конь этот, еще совсем молодой, был не конь, а мечта, сядешь – как на крыльях летишь. У Мануэля было девять таких белоносых, а как они от Мануэля ко мне попали, я вам расскажу. Он, бедняга, как-то все свои деньги в карты проиграл, – может, и невелики были эти деньги, да и те – как досталися ему, неизвестно никому. Для меня, однако, тут особой тайны не было, и если, скажем, ночью у меня скот забили и шкуру с него содрали, почему бы, кажется, мне и не обратиться к Правосудию – прикинуться, что сам я – вроде слепого, который что-то ищет в незнакомом месте, да и вывести Правосудие на обидчика; но ведь если кто-то сам за себя в силах слово сказать и в то же время знает, что слово его грянет, как молния с ясного неба, на соседские жилища, испепелит их дотла и всех, кто в них есть, поубивает, почему бы, судари мои, в таком случае доброму христианину не предпочесть сохранить мир и покой? Потому что чем уж так один человек лучше другого, чтобы ему ставить себя на место Провидения? Все мы из плоти и крови. Это правда, кое у кого из нас плоть-то всего-навсего собачья, ни на что доброе не годная, но всякому больно, коли плеткой хлестнут, и если уж такой дождь захлещет, так ростки взойдут кровавые. Вот так-то, скажу я вам; но, заметьте, я ведь не говорю, что это Мануэль меня ограбил, – я ничью репутацию не хочу марать, даже и грабителя, и чтобы кто-то из-за меня пострадал, тоже не хочу.
Ну вот, господа, возвращаюсь к своему рассказу: стало быть, все, что имел, Мануэль потерял, а тут еще и жена у него в лихорадке свалилась, и что ему оставалось, как не обратить своих лошадей в деньги? Вот так и вышло, что я купил у него белоносых и заплатил ему за них пятьдесят долларов. Что правда, то правда, лошадки были молодые, по всем статьям без изъяна, но ведь и цена немалая, и я ее уплатил, не иначе как сперва взвесив все хорошенько в уме. Потому что в делах такого рода, ежели кто заранее все как следует не просчитает, где, позвольте спросить, судари мои, очутится он в конечном итоге? К чертям на кулички и сам он отправится, и весь его скот, от отцов ему в наследство доставшийся либо нажитый его собственным уменьем и прилежаньем.
Вот такие, как видите, дела. Голова у меня с цифрами плохо ладит; если какое иное разумение – так оно дается мне легко, но когда надо что-то рассчитать, да побыстрее, вот тут ничего мне в голову не приходит, не идет, и все тут. И в то же время, если я вижу, что никак не выходит у меня с какими-то расчетами или не могу я принять какое-то решение, я знаю: единственное, что тут надо мне сделать, это улечься со своей задачкой в постель, лежать и размышлять о ней. И, поступив так, я на другое утро встаю и чувствую себя готовым к действию и освеженным, будто только что арбуза поел, и все, что я должен совершить, и как именно это должно быть совершено, я вижу так же ясно, как вот эту чашку мате у себя в руке.
И будучи в таком затруднении, я как раз решил улечься в постель с этой задачкой про лошадей и говорю: «Ты у меня на крючке, и никуда ты от меня не денешься». И тут – как раз было время ужинать – приходит Мануэль, чтобы мне надоедать, садится у меня на кухне; лицо скорбное, как у узника, которому вынесли смертный приговор.
– Если уж Провидение разгневалось на весь род человеческий, – говорит он, – и хочет с кем-то разделаться для примера, не пойму, по какой причине избрана такая безобидная и неприметная персона, как я.
– Чего ж ты хочешь, Мануэль? – отвечаю я. – Мудрые люди говорят – Провидение посылает нам бедствия для нашего же блага.
– Твоя правда, согласен, – говорит он. – Не мне в том сомневаться, потому как что хорошего можно сказать про солдата, который жалуется на решения своего командира? Но ведь ты знаешь, Ансельмо, что` я за человек, и горько мне, что такие несчастья должны обрушиться на кого-то, чье единственное преступление в том, что он всегда был беден.
– Стервятники, – говорю я, – всегда охотятся на хилых и хворых.
– Сперва я все потерял, – продолжает он, – потом случилось так, что эта женщина слегла в лихорадке; а теперь я вынужден признать, что лишился и кредита, потому что нигде не могу занять необходимых мне денег. Люди, которые вчера знали меня всех ближе, сегодня, выходит, вроде как со мной и не знакомы.
– Стоит человеку упасть, – говорю я, – собаки, и те землю скребут и пылью его забрасывают.
– Так и есть, – говорит Мануэль, – и с тех пор, как эти несчастья на меня посыпались, куда делись мои друзья, а ведь сколько у меня их было? Ибо нет хуже запаха, чем у бедности, и ничто не смердит сильнее, так что все, кто рядом окажется, воротят нос или бегут прочь, как от чумы.
– Правду говоришь, Мануэль, – возражаю я, – но про всех не скажи, потому что, кто знает – так много на свете душ человеческих, – как бы тебе не совершить несправедливости по отношению к кому-то.
– Я это не про тебя, – отвечает он. – Напротив, если кто-то и проявил ко мне участие, так это ты; и я так говорю не только в твоем присутствии, но прилюдно и во всеуслышание. Ну что ж, это все были только слова. И вот теперь, – продолжает он, – так уж мне карта легла, что не миновать мне расстаться с моими кониками и обратить их в деньги; стало быть, и пришел я нынче вечером узнать твое решенье.
– Мануэль, – говорю я, – ты знаешь, человек я прямой и говорить много не люблю, так что не стоило тебе так уж рассыпаться в комплиментах и вообще подходить к делу, о котором ты сейчас сказал, с такими предисловиями; ты что же, как будто меня своим другом не считаешь?
– Верно, верно, – он в ответ, – но не люблю я с лошади соскакивать, не убедившись, что с нею все в порядке, и не убрав сапог из стремян.
– Так и следует, – говорю я, – тем не менее, когда подъезжаешь к дому друга, нет нужды спешиваться так далеко от ворот.
– Спасибо тебе за такие слова, – отвечает он. – Много у меня недостатков: больше, чем пятен на шкуре у дикого кота, но одного нет среди них – опрометчивости.
– Это мне по душе, – говорю я, – не люблю я, когда себя ведут на манер пьяниц, которые лезут обниматься к незнакомым. Но мы с тобой не со вчерашнего дня знаемся, мы же друг дружку, как облупленных, насквозь видим, скажу даже, до самых потрохов, до мозга костей. Зачем же тогда мы тут должны чиниться, как чужие, раз мы и не ссорились ни разу, и никто не слыхал, чтоб мы с тобой худо друг о друге отзывались?
– И с чего нам худо друг о друге говорить, – Мануэль в ответ, – коли никому из нас и в голову ни разу не пришло, даже во сне не привиделось, чтобы сделать другому что дурное? Есть такие, кто скверно ко мне относится, и они-то забивают другим голову, как пузырь надувают, всяческим враньем, какое им только взбредет на ум, плетут на мой счет просто не знаю что, хотя – бог свидетель – сами, наверно, творят все то, что с такой легкостью мне в вину ставят.
– Если ты, – говорю я, – о скоте, который у меня пропал, то не беспокойся об этих пустяках: если бы те, кто дурное на тебя наговаривает только потому, что сами дурны, сейчас нас слышали, им пришлось бы сказать: «Он начинает защищаться, когда ни у кого даже в мыслях нет против него выступить».
– Истина такова: нет ничего, чего бы они на меня не наговорили, – говорит Мануэль, – по этой причине сам я молчу, ведь что я ни скажу – толку не будет. Они меня уже осудили и приговорили, а ведь кому охота, чтобы тебя выставили лжецом?
– Что до меня, – говорю я, – так я в тебе никогда не сомневался, зная тебя, как человека честного, здравомыслящего и прилежного. Если бы ты где-то в чем-то оступился, я бы тебе первый об этом сказал, потому что я со всеми веду себя с предельной искренностью и прямотой.
– Я свято тебе верю во всем, что ты мне говоришь, – отвечает он, – я знаю: ты маску не носишь, не то что другие.
И вот, полагаясь на твою полную и величайшую искренность и откровенность, я и пришел к тебе насчет этих лошадей, потому что не хочу я иметь дел с теми, кто из тебя за каждое кукурузное зернышко вытряхнет бушель мякины.
– Но, Мануэль, – говорю я, – ты знаешь, что я не из золота сделан, и перуанские копи мне в наследство не достались. Ты запрашиваешь большую цену за своих лошадей.
– Не отрицаю, – отвечает он. – Но ведь ты не из тех, кто не желает слушать голос разума и нужды, когда они к тебе обращаются. Мои лошади – мое единственное достояние и утешение, и нет у меня в жизни другой радости, кроме них.
– Все ясно, – отвечаю, – завтра я тебе скажу – да или нет.
– Как ты сказал, пусть так и будет; но, друг, если мы с тобой покончим с этим делом нынче вечером, я сброшу цену.
– Хочешь сделать скидку, – говорю я, – хорошо, но давай завтра: сегодня вечером мне надо заняться кое-какими расчетами и еще поразмыслить о тысяче других вещей.
После чего Мануэль сел на коня и уехал. Темно было, дождь, ну да ему никогда не надо было ни луны, ни фонаря, чтобы найти ночью то, что он ищет, будь то его собственный дом или упитанная корова – возможно, тоже его собственная.
Потом я улегся в постель. Первый вопрос, который я себе задал, задув свечу, был такой: достаточно ли жирных валухов в моем стаде, чтобы хватило рассчитаться за белоносых? Следующий вопрос: сколько надо будет жирных валухов по цене, которую дает за голову дон Себастьян – скаред и плут, скажу между прочим, – чтобы набралась сумма, какая требуется?
Вот такой вопрос; но, друзья мои, как видите, ответить на него я не мог. В конце концов, около полуночи, я решил снова зажечь свечку и взять початок кукурузы: если сложу зернышки в маленькие кучки, каждая кучка – по цене барана, а потом сосчитаю все вместе – в итоге получу, что мне нужно.
Идея была правильная. Я стал шарить под подушкой в поисках спичек, чтобы зажечь свет, и вдруг вспомнил, что все зерно отдано обитателям птичника. И ладно, сказал я сам себе, мне зато не надо теперь вылезать из постели и суетиться по-пустому. Ну конечно, продолжал я, все еще думая про кукурузу, ведь всего лишь вчера кухарка Паскуала говорила мне, накрывая для меня стол к обеду: «Хозяин, когда же вы соберетесь купить зерна для птицы? Что это за похлебка, если в доме нет ни единого яйца, чтобы в нее положить? И вот еще черный петушок, такой, с кривым пальцем на лапке, тот, из второго выводка, который рябая курица вывела прошлым летом, хотя лисы повытаскали по крайней мере трех курочек, прямо из кустов, где она тогда сидела с цыплятами, – вот он все ходит и ходит весь день взад-вперед, и крылья прямо волочит, я так и подумала – у него на языке собирается типун вскочить. А если какая хворь пойдет среди птицы – как вот в позапрошлом году у соседки нашей, Гумесинды, так будьте уверены, это только потому, что птице не хватает кукурузного зерна. И что чуднее всего, и это чистая правда, хотя вы, конечно, можете сомневаться, но соседка Гумесинда мне рассказала вот только вчера, когда пришла попросить немного петрушки, потому что, вы ведь отлично знаете, у нее самой всю петрушку свиньи с корнем повырывали, когда в прошлом октябре в огород к ней прорвались; так вот, сударь мой, она говорит, эпидемия, которая у нее за неделю двадцать семь лучших кур унесла, началась как раз с того, что черный петух с кривым пальцем, в точности как наш, принялся крылья волочить, как будто у него типун».
– Да провались эта баба ко всем чертям, – вскричал я, отшвырнув ложку, – со своей трепотней про яйца и про типун, и про соседку Гумесинду, и про все, что ей еще на язык взбредет! Ты что, считаешь, мне больше заняться нечем, как только рыскать по всей округе, искать маис, когда его нынче на вес золота и то не достать, и все потому лишь, что эта хилая курочка ряба того и гляди подхватит типун?
– Я ничего такого не говорила, – запальчиво возразила Паскуала, повышая голос, как у женщин водится. – Вы либо не слушали как следует, что я вам рассказывала, либо прикидываетесь, что не понимаете. Потому что я и слова не сказала, что у рябой курицы собирается вскочить типун; и, кстати, за то, что на всю здешнюю окрестность это самая жирнющая птица, вы должны благодарить, после Богородицы, меня, и соседка Гумесинда все время это же говорит, потому что никогда я не забываю и не пропускаю трижды в день давать ей рубленого мяса; потому-то она никогда из кухни не выходит, и даже кошки боятся в дом сунуться – она на них, как фурия, налетает, прямо по мордам хлещет. Но вы ведь всегда мои слова переворачиваете; а я, если и сказала что-то про типун, то рябая курица тут вовсе ни при чем, а говорила я, что черный петух с кривым пальцем, похоже, его подхватил.
– К черту тебя с твоей курицей и петухом! – завопил я, вскакивая со стула, потому что моему терпенью пришел конец и потому что эта женщина довела меня до бешенства своими рассказами про кривой палец и про то, что говорила ей соседка Гумесинда. – И чтоб этой твоей бабе пусто было: это же не женщина, а официальная газета с полной хроникой соседских дел! Я хорошо знаю, что за петрушку она приходит рвать в моем огороде. Мало ей, что она шляется по округе и несет людям невесть что про куплеты, которые я спел дочке Монтенегро, когда я с ней потанцевал на балу у кузена Теодоро после клеймения скота, а ведь у меня, бог свидетель, нет и тени интереса к этой девице. А теперь уже вот до чего докатилось: у меня в доме даже куренку со сломанным пальцем нельзя прихворнуть без того, чтобы соседка Гумесинда не сунула свой клюв в это дело!
И так я разозлился на Паскуалу, когда мне все это представилось и еще многое подобное вспомнилось, и когда я подумал, что никогда мне не найти управы на ее длинный язык, что я готов был запустить ей в голову блюдо с мясом.
Вот с такими-то мыслями я и уснул. На другое утро я встал и, не ломая больше голову, заплатил Мануэлю его цену и купил лошадей. Ибо вот такой у меня есть чудесный дар: когда захожу я мысленно в тупик и сомневаюсь в чем-то, ночь все мне проясняет, и я встаю освеженный и с готовым решением.
Тут и кончилась история Ансельмо, причем ни слова не было произнесено о тех удивительных происшествиях, о которых он сначала вроде бы намеревался рассказать. О них начисто было забыто. Он принялся скручивать сигарету, и я, испугавшись, что сейчас он заведется на какую-то новую тему, поспешно пожелал всем спокойной ночи и ретировался в отведенную мне постель.
The free sample has ended.