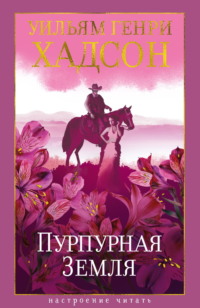Read the book: «Пурпурная Земля», page 3
Глава III
Наброски для пасторали
На другое утро, спозаранку покинув ранчо красноречивого старого объездчика, я продолжил свой путь и весь день спокойно ехал медленной рысью; я оставил позади департамент Флорида и вступил в пределы департамента Дурасно. Здесь я прервал свое путешествие на эстансии, где мне представилась превосходная возможность изучать нравы и обычаи жителей Востока и где я, кроме того, подвергся испытаниям несколько иного характера и значительно расширил свои познания о мире насекомых. Дом этот, куда я прибыл за час до захода солнца, дабы попросить приюта («позволение расседлать лошадь» – так это называется у путешественников), являл собой длинное, низкое строение, крытое камышом, но имевшее низкие, чудовищно толстые стены, сложенные из камня, добытого в соседних горах, sierras; куски камня были всевозможных форм и размеров, и снаружи все это выглядело чем-то наподобие неровной каменной ограды. Как эти булыжники, беспорядочно нагроможденные, без связующего их между собой цемента, не развалились, осталось для меня тайной; еще труднее было понять, почему эту грубую кладку, всю в бесчисленных, забитых пылью впадинах и щелях, с внутренней стороны ни разу не попытались заштукатурить.
Я был любезно принят весьма многочисленным семейством, состоявшим из хозяина, его убеленной сединами тещи, его жены, трех сыновей и пяти дочерей; все дети были уже взрослые. Там было также несколько маленьких ребятишек, принадлежавших, как я понял, дочерям, несмотря на тот факт, что ни одна из них не была замужем. Меня сильно поразило названное мне имя одного из этих младшеньких. Такие христианские имена, как Троица, Сердце Иисусово, Рождество, Иоанн Божий, Непорочное Зачатие, Вознесение, Воплощение, довольно распространены, но привычка к ним едва ли подготовила меня к встрече с человеческим существом по имени – представьте себе – Обрезание! Помимо людей, там были собаки, кошки, индюшки, утки, гуси и куры в неисчислимом количестве. Не удовольствовавшись этим изобилием домашних птиц и животных, они держали еще гадкого, пронзительно вопившего, длиннохвостого попугая, с которым старуха беспрерывно беседовала, все время отпуская в сторону краткие ремарки, чтобы пояснить остальным, что птица сказала или желала сказать, или, точнее, что ей самой воображалось по поводу смысла птичьих речей. Там было еще несколько молодых ручных страусов: они без конца слонялись по большой кухне или по жилой комнате, выглядывая, не остались ли где без присмотра медный наперсток, железная ложечка или какие-нибудь другие маленькие металлические лакомые вещицы, чтобы сожрать их, пока никто не видит. Домашний броненосец весь вечер сновал туда-сюда, туда-сюда, а хромая чайка, куда бы кто бы ни пошел, всегда возникала на пороге, беспрестанными воплями выпрашивая чего-нибудь поесть – упорнее попрошайки я не встречал во всю мою жизнь.
Здешние обитатели были жизнерадостны, общительны и – для страны, где леность в обычае, – отличались немалым трудолюбием. Земля была их собственная, мужчины управлялись со скотом, которого, как казалось, у них было множество, тогда как женщины занимались изготовлением сыров и каждый день до света вставали доить коров.
В течение вечера двое или трое молодых парней – я думаю, соседей, явно приударявших за юными дамами дома сего, – присоединились к обществу; и после обильного ужина мы принялись петь и плясать под музыку гитары, на которой все члены семейства – за исключением разве что младенцев – немножко умели тренькать.
Часов в одиннадцать я отправился на отдых и в каморке за кухней, растянувшись на незатейливой койке, застланной грубыми шерстяными покрывалами, благословил в душе этих простодушных и гостеприимных людей. Боже мой, думал я, какая замечательная идиллия ждет тут появления какого-нибудь нового Феокрита! Какой неимоверно избитой, ходульной, донельзя искусственной кажется вся так называемая пасторальная поэзия, доселе появившаяся, когда вот так сидишь за ужином, а то присоединишься к какому-нибудь грациозному танцу – Cielo или Pericon'у – в одной из этих отдаленных полуварварских южноамериканских эстансий! Я поклялся в душе, что сам стану поэтом и в один прекрасный день вернусь в старую пресыщенную Европу, чтобы поразить ее чем-то таким, таким… Что за черт? Мой уже переходивший в сон монолог вдруг завершился самым негармоничным и жалким манером, ибо мне послышался ужасный звук – ошибки быть не могло, это «ззз-ззз» могли издавать лишь крылья насекомых, и этими насекомыми были мерзкие кровососы vinchuca. Появился враг, против которого бессильны британская отвага и шестизарядный револьвер и в присутствии которого начинаешь испытывать чувства, которым, как обычно считается, не должно быть места в груди истинно мужественного человека. Натуралисты скажут нам, что имя этому врагу Connorhinus infestans, но, поскольку вряд ли кого-то удовлетворит одна лишь эта информация, я добавлю еще несколько слов и попытаюсь описать, что это за бестия. Она обитает повсеместно в Чили, в Аргентине и на Восточном Берегу, и всем жителям этих бескрайних территорий она известна как винчука, поскольку, подобно некоторым вулканам, смертельно опасным змеям, водопадам и прочим величественнейшим и грознейшим творениям природы, ей было дозволено сохранить за собой древнее имя, присвоенное ей аборигенами. Она вся черновато-бурого цвета, шириною с ноготь мужского большого пальца и плоская, как лезвие столового ножа, – пока голодна. Днем она прячется, наподобие клопов, в щелях и норах, но стоит свечам погаснуть, как она тут как тут в поисках, на кого б наброситься, чтоб утолить голод: как чума, она разгуливает по ночам. Она умеет летать и в темной комнате знает, где вы и как к вам подобраться. Выбрав на вашем теле удобное нежное местечко, она пронзает кожу своим хоботком или, если угодно, клювиком и жадно сосет две-три минуты; и, как ни странно, вы и не почувствуете, как она это проделывает, даже если сна у вас ни в одном глазу. Тем временем тварь, до того совершенно плоская, приобретает форму, размер и общий вид спелой крыжовины – столько крови она вытягивает из ваших вен. Сразу после того, как она вас оставляет, укушенное место вспухает и начинает гореть, как ужаленное крапивой. То обстоятельство, что боль возникает лишь после, а не во время операции, дает винчуке большое преимущество, и я сильно сомневаюсь, что существуют какие-нибудь другие кровососущие паразиты, которым природа так же благоприятствует в этом отношении.
Представьте теперь мои ощущения, когда я услышал звук, издаваемый не одной, а двумя, если не тремя, парами крылышек. Я старался отвлечься от этого звука и уснуть. Я старался изгнать мысль об этих неровных старых стенах с их множеством щелей – мой хозяин осведомил меня, что им уже добрых сто лет. Какой интересный старый дом, только подумал я, и в тот же миг внезапный жгучий зуд охватил большой палец у меня на ноге. Вот такие дела! – сказал я сам себе; разгоряченная кровь, поздний ужин, танцы и все прочее. Мне показалось, будто кто-то впился мне в палец зубами, хотя ничего такого на самом деле, конечно, не было. Затем, пока я яростно тер и расцарапывал палец, испытывая дикое желанье буквально отгрызть его, лишь бы избавиться от боли, мою левую руку точно пронзило раскаленными докрасна иглами. Мое внимание тотчас же переключилось на это место, но вскоре мои столь занятые руки получили уже новый сигнал, подобно паре врачей, по уши загруженных работой в городе, охваченном эпидемией; и так сражение продолжалось всю ночь, лишь случайно прерываемое ничтожно-краткими провалами в сон.
Я встал рано, пошел к довольно широкому ручью, протекавшему в четверти мили от дома, и бросился в воду – это сильно меня освежило и придало мне сил, чтобы отправиться на поиски лошади. Бедная скотина! Я ведь сперва намеревался дать ей день отдыха, такими славными и гостеприимными показали себя хозяева, но теперь меня бросало в дрожь при одной мысли, что придется провести еще ночь в этом чистилище. Я нашел коня в состоянии столь убогом, что он вряд ли смог бы даже еле-еле плестись, так что я вернулся в дом на своих двоих и поверженный в совершенное уныние. Мой хозяин стал меня утешать, уверяя, что я смогу отлично поспать во время сиесты, когда мне не будет надоедать «эта мелюзга, которая тут мельтешит» – в таких мягких выражениях он охарактеризовал постигшее меня ночью страшное бедствие. После завтрака, около полудня, воспользовавшись его советом, я постелил коврик в тени дерева, лег и сразу провалился в глубокий сон, продлившийся чуть не до вечера.
Вечером же снова явились гости и повторились песни, пляски и прочие пасторальные увеселения – едва не до полуночи; затем, рассчитывая обвести вокруг пальца моих сопостельников по предыдущей ночи, я устроил свое простое ложе на кухне. Но и там мерзкие винчуки меня нашли, и пуще того, неисчислимые блохи всю ночь вели там нечто вроде партизанских боевых действий и таким образом изнуряли мои силы и отвлекали мое внимание до тех пор, пока на их место не заступали соперники более грозные. Мои страдания были так велики, что еще задолго до рассвета я подхватил свои коврики и удалился на изрядное расстояние от дома, чтобы лечь под открытым небом, но мне было некуда деться от моего истерзанного болью тела, так что отдохнуть мне удалось совсем мало. А когда пришло утро, я обнаружил, что конь мой все еще не оправился от своей хромоты.
– Не торопитесь нас покидать, – сказал мой хозяин, когда я заговорил об этом. – Я понимаю, что эти мелкие твари снова на вас нападали и одержали над вами верх. Не берите в голову; со временем вы к ним попривыкнете.
Как они тут умудрялись их переносить или даже просто сосуществовать с ними, было выше моего понимания; но, может быть, винчуки не трогали их и готовились к обеду, на манер великана из детской песенки, только когда «чуяли английский дух».
Я снова насладился долгой сиестой, а когда пришла ночь, решил расположиться вне пределов досягаемости для вампиров, то есть после ужина отправился спать на равнину. Однако около полуночи внезапно налетевший порыв ветра с дождем принудил меня вернуться под домашний кров, и на следующее утро я поднялся в таком плачевном состоянии, что, хорошенько подумав, я взнуздал и оседлал свою лошадь, хотя бедная скотина одной ногой едва могла ступать по земле. Мои друзья добродушно смеялись, глядя, как я выполняю эти решительные приготовления к отбытию. Отведав горького мате, я поднялся и поблагодарил их за гостеприимство.
– Вы ведь не собираетесь на самом деле покинуть нас на этом животном! – сказал мой хозяин. – Оно не в состоянии вас везти.
– Другого у меня все равно нет, – ответил я, – и я боюсь, что так я совсем не доберусь до места.
– Мне следовало сообразить и раньше предложить вам лошадь, – возразил он и тут же послал одного из своих сыновей пригнать лошадей эстансии в кораль.
Выбрав из табуна статную лошадь, он передал ее мне, и, поскольку достаточных денег на покупку свежей лошади у меня в любом случае не было, я с радостью принял этот дар. Седло было быстро водружено на мое новое приобретение, и, еще раз поблагодарив этих добрых людей и попрощавшись, я возобновил свое путешествие.
Когда перед самым отъездом я подал руку самой младшей и, на мой взгляд, самой хорошенькой из пяти хозяйских дочерей, она, вместо того чтобы приветливо мне улыбнуться и пожелать доброго пути, как другие, смолчала и бросила на меня взгляд, который, казалось, говорил: «Ступайте, сударь; вы дурно со мной обошлись, и вы оскорбили меня, подав вашу руку; если я и беру ее, то не потому, что расположена вас простить, а только чтобы соблюсти приличия».
В тот миг, как она одарила меня этим беглым, но столь красноречивым взглядом, понимающее выражение промелькнуло на лицах остальных присутствующих. И тут-то мне открылось, что я, как видно, упустил возможность небольшого, совершенно прелестного, идиллического флирта, который мог бы затеять в столь необычной обстановке. Любовь, как цветок, вырастает, и мужчины и очаровательные женщины, естественно, предаются флирту, оказавшись вместе. Трудно, однако, представить, как бы я мог приступить к флирту и довести его до какой-то кульминационной точки в этой большой общей комнате, где на меня смотрит столько глаз, где собаки, младенцы и кошки путаются у меня в ногах, где страусы алчно пялятся на мои пуговицы своими огромными пустыми глазами, и еще этот несносный длиннохвостый попугай беспрестанно твердит «Как падают воды в Лодоре» на своем пронзительном, гнусавом, дурацком, шарманочном попугайском языке. Нежные взоры, ласковый шепоток, мимолетные прикосновенья рук и тысячи мелких знаков внимания, свидетельствующих о том, куда клонятся ваши чувства, вряд ли практически возможны в таком месте и в таких условиях, и, видимо, какие-то совершенно новые знаки и символы надо было тут изобрести для выражения сердечных переживаний. И без сомнения, эти обитатели Востока, живущие все вместе в одной большой комнате, со своими детьми и домашним зверьем, подобно нашим древнейшим предкам, каким-нибудь пастушествующим арийцам, обладали таким языком. И мне также следовало перенять сей чудный язык у моих усерднейших учителей, да вот только эти ядовитые винчуки притупили мой ум своей неотступной травлей настолько, что я оказался совершенно слеп по отношению к обстоятельству, не ускользнувшему от внимания даже незаинтересованных наблюдателей. Я скакал прочь от эстансии, и чувство, что я наконец избавился от этой отвратительной «мелюзги, которая тут мельтешит», было не единственным, доставлявшим мне ничем не замутненное удовлетворение.
Глава IV
Отдых Бродяги
Продолжив путешествие по области Дурасно, я пересек вброд довольно большую реку Йи и вступил в пределы чрезвычайно протяженного департамента Такуарембо – он тянется до самой бразильской границы. Проехал я, однако, через самую узкую его часть, где ширина его всего около двадцати пяти миль, потом переправился через две речки с забавными названиями Rio Salsipuedes Chico и Rio Salsipuedes Grande, что означает Река Спасайся-коли-можешь, соответственно Малая и Большая, и наконец достиг цели своего путешествия в провинции или департаменте Пайсанду. Estancia de la Virgen de los Desamparados, то есть эстансия Святой Девы Бесприютных, или, если назвать короче, эстансия Отдых Бродяги, представляла собой изрядных размеров квадратный кирпичный дом, который был возведен на очень высоком основании и господствовал над необозримо раскинувшейся, поросшей травами холмистой местностью. Рядом с домом совсем не было возделанной земли, ни тенистого дерева, ни каких-либо иных насаждений, только несколько больших коралей, или загонов для скота, которого в имении насчитывалось от шести до семи тысяч голов. Отсутствие древесной тени и вообще растительности придавало этому месту унылый, непривлекательный характер, и, если бы я имел право тут распоряжаться, это скоро переменилось бы. Mayordomo, или управляющий, по имени дон Поликарпо Сантьерра де Пеналоза, что по-английски примерно можно передать как Поликарп из Святой Земли, Обильной Скользкими Каменьями, оказался человеком весьма приятным и любезным в обращении. Он приветствовал меня с той спокойной учтивостью обитателей Востока, которой равно чужды как холодность, так и неумеренная экспансивность, а затем внимательно прочел письмо доньи Исидоры. Закончив чтение, он сказал:
– Я постараюсь, друг мой, доставить вам все удобства, доступные на здешних высотах; что же до остального, я думаю, вы и сами понимаете, без сомнения, что я мог бы вам сказать. Все и так понятно, многих слов тут не требуется. Тем не менее в хорошей говядине здесь недостатка нет, и, если совсем коротко, вы окажете мне величайшую услугу, если этот дом со всем, что в нем есть, будете считать своим собственным, пока вы оказываете нам честь в нем пребывать.
Покончив с выражением чувств дружелюбия и благожелательности и при этом оставив меня в полной неопределенности касательно моих тут перспектив, он сел на лошадь и ускакал прочь, вероятно по каким-то весьма важным делам, и после этого в течение нескольких дней я его больше не видел.
Первым делом я направился познакомиться с кухней. Мне сразу показалось, что в другие комнаты никто в доме никогда не заглядывал даже случайно. Кухня эта была огромная, на манер какой-то закусочной, футов по крайней мере сорока в длину и соответствующей ширины; крыша у нее была камышовая, а очаг был устроен в полу, посередине, в виде глиняной платформы, огороженной по краю коровьими голяшками, наполовину вмазанными в глину и стоящими торчком. Кругом валялось несколько таганов-треножников и железных котелков, а со срединной балки, подпиравшей крышу, свешивалась цепь с крюком, к которому был подцеплен большущий железный чайник. Еще один предмет, вертел длиною футов эдак в шесть для жарки мяса, дополнял перечень кухонной утвари. Там не было ни столов со стульями, ни ножей с вилками; каждый приносил свой нож с собой, и во время трапезы отварное мясо вываливали на громадное оловянное блюдо, тогда как жаркое поедали прямо с вертела – каждый хватал рукой подходящий кусок и должен был сам его себе откромсать. Для сидения служили деревянные чурбаны и конские черепа. К числу домочадцев принадлежали одна-единственная женщина, страшно уродливая, седовласая старуха-негритянка лет семидесяти, и восемнадцать, не то девятнадцать мужчин самого разного возраста, роста, комплекции и цвета кожи – от белого, как пергамент, до темного, как старая дубовая древесина. Там был capatas, надсмотрщик, и семь или восемь наемных батраков-пеонов, все же остальные были agregados, то есть сверхштатные работники, плата которым не полагалась, а проще говоря, бродяги, которые норовят приблудиться к подобным имениям, привлеченные, как бродячие псы, обилием мясной пищи; от случая к случаю они помогают в работе постоянным пеонам, а кроме того, поигрывают на интерес по маленькой и слегка приворовывают для разнообразия. Спозаранку, пробудившись от сна, все они усаживались вокруг очага, потягивали горький мате и курили сигареты; еще до рассвета все были в седле и разъезжались по округе – посмотреть-подсобрать стада; к полудню они возвращались завтракать. Потребление и расточение мяса было просто чудовищное. Зачастую после завтрака ни много ни мало фунтов двадцать-тридцать вареного и жареного мяса сгружалось в тачку, вывозилось и сваливалось кучей прямо в пыль, чтобы пойти в пищу неисчислимым ястребам, чайкам и грифам-стервятникам, не говоря о собаках.
Разумеется, я и сам был тут еще не более чем агрегадо, без жалованья и постоянных обязанностей. Считая, однако, что такое положение сохранится лишь на время, я старался использовать его наилучшим образом и очень скоро завел тесную дружбу со своими товарищами-агрегадос, охотно присоединяясь как к их развлечениям, так и к добровольным работам.
Уже через несколько дней я очень утомился от жизни на сплошном мясе, ибо даже какой-нибудь сухарик, как оказалось, не принадлежал к «удобствам, доступным на здешних высотах», а что касается картошки, то вы могли бы с тем же успехом попросить подать вам плам-пудинг. Наконец мне пришло на ум, что при таком множестве коров вполне можно было бы достать немного молока и внести некоторое разнообразие в нашу диету. Вечером я коснулся этой темы, предположив, что не худо бы нам на другой день отловить одну из коров и подоить ее. Кое-кто из мужчин одобрил мое предложение, отметив, что им самим это никогда не приходило в голову; но старая негритянка, которую, поскольку она была тут единственной представительницей прекрасного пола, всегда выслушивали с глубочайшим почтением к ее положению, с чрезвычайной горячностью стала в оппозицию. Она заявила, что в этом имении ни одну корову не доили с того самого времени, когда его владелец со своей молодой женой двенадцать лет назад удостоил его своим посещением. Тогда тут держали молочную корову, и сеньора выпила много молока, «а она тогда постилась», и у нее случилось такое несварение, что им пришлось дать ей порошка, сделанного из страусиного желудка, и потом переправить ее с великими предосторожностями на бычьей повозке в Пайсанду, а оттуда по воде в Монтевидео. Владелец приказал избавиться от коровы, и она точно знает, что с тех пор никогда ни одна корова не была доена у Девы Бесприютных.
Это зловещее карканье не произвело на меня впечатления, и на другой день я вернулся к этому разговору. У меня не было своего лассо, так что без посторонней помощи отловить полудикую корову я бы не смог. Один из моих приятелей-агрегадо наконец вызвался помочь мне, заметив, что не пробовал молока уже в течение нескольких лет и склоняется к тому, чтобы возобновить знакомство с этим своеобразным напитком. Этот мой новообретенный соратник заслуживает быть представленным читателю со всеми формальностями. Звали его Эпифанио Кларо. Был он высокий, тощий, с идиотским выражением на длинном, землистого цвета лице. Бакенбард он не носил, а его прилизанные черные волосы, разделенные посредине пробором, свисали до самых плеч, обрамляя узкое лицо парой вороновых крыльев. У него были очень большие, светлые глаза с неизменным дурацким выражением, а брови изгибались, как пара готических арок, так что над ними оставалась только узенькая полоска – жалчайшая пародия на лоб. Этой особенности своей внешности он был обязан прозвищем Cejas, Бровастый, под которым он был известен среди его ближайших дружков. Бо`льшую часть своего времени он проводил, бренча на никудышной старенькой треснувшей гитаре и распевая любовные баллады скорбным воюще-скулящим фальцетом, который живо мне напомнил вечно голодную, непрестанно жалующуюся чайку, встреченную мной в эстансии в департаменте Дурасно. Бедный Эпифанио испытывал всепоглощающую страсть к музыке, но безжалостная Природа полностью лишила его способности выражать эту страсть способом, доставляющим хотя бы малейшее удовольствие окружающим. Чтобы отдать ему должное, следует, однако, признать, что он оказывал предпочтение балладам или же композициям глубокомысленного, если не сказать метафизического, характера. Я постарался записать и дословно перевести одну из них; вот она:
Душа моя вчера очнулась, Ей в двери разум постучал, И в ней желанье пробудилось, Какого не было досель: Понять, зачем всю жизнь мою Я прожил так, а не иначе. Я встал и сам себе сказал: Сегодня будет, как вчера, И разум тоже мне твердил: Каким ты был, таким остался.
Конечно, отрывок слишком мал, чтобы по нему судить о целом: я привел лишь четвертую часть песни, но образчик этот очень характерен, да и приведи я остальное, содержание не стало бы много яснее. Разумеется, не надо полагать, что такой безграмотный субъект, как Эпифанио Кларо, был способен проникнуться всей философией этих строчек; все же есть вероятность, что один-другой слабый лучик их глубокого смысла затронул что-то в его сознании и сообщил ему толику печальной умудренности.
И вот, сопровождаемый этой странноватой личностью и заручившись со всей важностью отданным соизволением капатаса, который тем не менее в витиеватых выражениях заявил, что снимает с себя всякую responsabilidad, то есть ответственность, за исход дела, я отправился на пастбище в поисках подходящей коровы. Очень скоро мы таковую нашли. За ней следовал теленочек, родившийся, видимо, не более чем неделю назад, и ее раздувшееся вымя обещало щедро снабдить нас молоком; но, к несчастью, нрава она оказалась весьма свирепого, да еще и с рогами острыми, как пики.
– Все равно мы ей дадим укорот, – выкрикнул Бровастый.
Тут он заарканил корову своим лассо, а я подхватил теленка, взвалил его на седло у себя за спиной и поскакал к дому. Корова бешеной рысью неслась следом за мной, а позади вихляющим галопом – Кларо. Возможно, он проявил чуть-чуть излишнюю самоуверенность, беспечно предоставив своей пленнице самой натягивать наброшенную на нее веревку; как бы то ни было, она вдруг развернулась в его сторону, с ошеломительной яростью кинулась в атаку и всадила один из своих ужасных рогов глубоко в брюхо его лошади. Он, однако, не растерялся и, сперва наградив ее резким ударом по носу, из-за чего корова на миг отскочила, обрезал затем лассо, полоснув по нему ножом, и, крича мне, чтоб я бросил теленка, пустился наутек. Отъехав на безопасное расстояние, мы осадили лошадей, и Кларо без лишних эмоций заметил, что лассо он взял взаймы, а лошадь принадлежит эстансии, так что мы с ним, собственно, ничего не потеряли. Он спешился и стянул края широкой и глубокой раны на брюхе бедного животного, используя в качестве нитей несколько волосин, выдернутых из его же хвоста. Задача была не из легких; во всяком случае, сомневаюсь, что я бы с ней справился, поскольку ему пришлось проделывать отверстия в шкуре животного кончиком ножа, но он, казалось, не видел в ней ничего сложного. Собрав оставшуюся часть обрезанного лассо, он стянул ею задние и одну из передних ног своего коня и швырнул его наземь одним ловким рывком; затем, связав его в этом положении как следует, выполнил операцию по зашиванию раны за какую-нибудь пару минут.
– Он выживет? – спросил я.
– Откуда мне знать, – равнодушно ответил он. – Вот до дому он теперь меня точно довезет; а околеет потом – невелика беда.
Тут мы сели на своих лошадей и потихоньку направились к дому. Разумеется, высмеивали нас немилосердно, особенно старая негритянка, которая не уставала повторять, что с самого начала предвидела, что именно так все и случится. Слушая болтовню этой старой черной твари, можно было подумать, что она смотрела на питье молока как на одно из величайших преступлений против нравственности, в каком только может быть виновен человек, и что в данном случае имело место таинственное вмешательство Провидения, которое воспрепятствовало нам в утолении наших извращенных аппетитов.
Бровастый ко всему этому отнесся очень хладнокровно.
– Да не обращай ты на них внимания, – сказал он мне. – Лассо было не наше, лошадь не наша, какая разница, что они там болтают?
Владелец лассо, одолживший нам его по доброте душевной, с возрастающим интересом прислушивался к этим речам. Это был диковатого вида верзила с лицом, скрытым под необъятной косматой черной бородой. Я сначала принял его за образчик добросердечной разновидности великанского племени, но должен был переменить свое мнение, увидев, как нарастает его злобное настроение. Блас, или, как мы его звали, Барбудо, Бородач, сидел на бревне, потягивая мате.
– Вы, может, видите, господа, что на мне одежа из шкур, так и держите меня за барана, – отпустил он вдруг замечание, – но позвольте вам сказать: я вам одолжил лассо, и вы должны мне его вернуть.
– Эти слова не к нам относятся, – вставил Бровастый, обращаясь ко мне, – это про корову – она его лассо на рогах утащила – пусть их и костерит, что они такие острые!
– Нет уж, сударь, – возразил Барбудо, – не обманывайтесь на этот счет: я не про корову, а про дурня, который корову заарканил. И я тебе обещаю, Эпифанио: не вернешь мне лассо – нам с тобой под этой широкой крышей вдвоем будет тесно.
– Приятно слышать, – ответил тот, – ведь у нас тут сесть толком негде, а как только ты уберешься, место, на котором ты сейчас громоздишься своей тушей, займет кто-нибудь поприличнее.
– Говори что хочешь, пока тебе на рот замка не навесили, – сказал Барбудо, возвышая голос до крика, – но тебе не удастся меня обокрасть; и если мое лассо ко мне не вернется, тогда клянусь, я буду не я и из своей кожи вылезу.
– Тогда, – сказал Бровастый, – чем скорей ты обзаведешься другой шкурой, тем лучше, ведь я тебе лассо никогда не верну: кто я такой, чтобы идти против воли Провидения – это оно вырвало его у меня из рук?
На это Барбудо отвечал с яростью:
– Тогда мне его вернет этот ничтожный заморыш-иностранец, который сюда явился, чтобы поучиться у людей есть мясо, и разыгрывает из себя ровню настоящим мужчинам. Видно, рано его от груди отняли; но раз этот заморенный изголодался по сосунковой пище, пусть пососет молочка у кошек, вон они у огня греются, их любой и без лассо поймает, даже какой-нибудь французишко!
Не в силах терпеть оскорбления от этой скотины, я вскочил с места. Так случилось, что в руках у меня в тот миг оказался большой нож – мы как раз готовились приступить к расправе с жареными говяжьими ребрами, и моим первым побуждением было бросить нож и врезать врагу кулаком. Попробуй я так и поступить, всего вероятней, мне пришлось бы дорого поплатиться за свою опрометчивость. Не успел я подняться, как Барбудо налетел на меня, в руке у него был нож. Страшный удар метил в меня, но, по счастью, Барбудо промахнулся; в тот же миг я нанес ему свой удар, и он отшатнулся с ужасной раной на лице. Все произошло в одну секунду, прежде чем кто-нибудь из остальных успел вмешаться; в следующий миг они нас разоружили и принялись промывать рану этому грубияну. Во время этой операции, которая, надо полагать, была весьма болезненной, поскольку старая негритянка настояла, чтобы рану промывали не водой, а ромом, это животное так и сыпало неистовыми ругательствами, клятвенно обещая вырезать мне сердце и сожрать его, потушив с луком и приправив тмином и разными прочими пряностями.
С тех пор я часто вспоминал об этих изощренных кулинарных рецептах варвара Бласа. Должно быть, какая-то искра дикого гения Восточного края мерцала-таки в его бычьих мозгах.
Когда он наконец замолк, изнемогший от пережитой вспышки бешенства, от боли и кровопотери, старая негритянка напустилась на него, восклицая, что наказан он поделом: ведь разве он, не слушая ее своевременных предупреждений, не одолжил свое лассо, чтобы эти двое еретиков (а именно так она нас и называла) поймали корову? Ну вот, теперь его лассо пропало, а потом его дружки в благодарность (а только такой благодарности и можно было ждать от этих, падких до молока) сделали полный разворот и едва его не убили.
После ужина капатас улучил минуту, чтобы переговорить со мной наедине, и, с сугубым дружелюбием в повадке и со множеством околичностей в речах, посоветовал мне покинуть эстансию, потому что оставаться здесь мне было бы небезопасно. Я ответил, что не вижу за собой вины, так как нанес удар, защищаясь; а кроме того, на эстансию меня прислал друг управляющего, так что я считаю нужным непременно увидеться с ним и представить ему свою версию случившегося.
Капатас пожал плечами и закурил сигарету.
Наконец вернулся дон Поликарпо, и, когда я рассказал ему свою историю, он слегка усмехнулся, но ничего не сказал. Вечером я напомнил ему о содержании письма, привезенного мною из Монтевидео, и спросил, собирается ли он дать мне какую-то работу на эстансии.