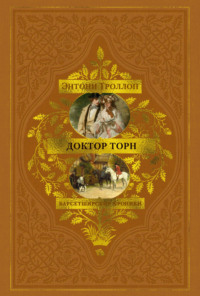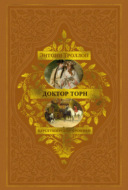Read the book: «Барсетширские хроники: Доктор Торн», page 3
Глава III
Доктор Торн
Итак, доктор Торн навсегда обосновался в деревушке Грешемсбери. Как оно в ту пору было в обычае у многих сельских врачей (обычай этот следовало бы перенять всем врачам без исключения, если бы они думали о собственном достоинстве чуть меньше, а о благополучии пациентов чуть больше), он в придачу к врачебной практике держал еще и аптеку, где готовил и отпускал лекарства. За это его, конечно же, сурово осуждали. В округе многие твердили, что он никакой не доктор или, по крайней мере, недостоин называться доктором, а его собратья по врачебному искусству, живущие по соседству, хотя и знали, что дипломы, степени и сертификаты Томаса Торна все в полном порядке, злопыхателей скорее поддерживали. Коллеги сразу невзлюбили чужака – и было за что! Во-первых, другие доктора, конечно же, не обрадовались новоприбывшему и сочли, что он тут de trop1. Деревушка Грешемсбери находилась в каких-нибудь пятнадцати милях от Барчестера, где была доступна любая медицинская помощь, и всего-то в восьми милях от Сильвербриджа, где обосновался и вот уже сорок лет практиковал почтенный, заслуженный доктор – не чета разным там выскочкам. Предшественником Торна в Грешемсбери был смиренный врач общей практики, питающий должное уважение к докторам графства; ему дозволялось пользовать грешемсберийских слуг и иногда детей, но он и помыслить не смел о том, чтобы встать в один ряд с высшими мира сего.
Кроме того, доктор Торн – хоть он и обладал университетским дипломом, хоть и, вне всякого сомнения, имел полное право называться доктором согласно всем законам всех колледжей – вскоре после того, как обосновался в Грешемсбери, оповестил Восточный Барсетшир, что его гонорар составляет семь шиллингов шесть пенсов за визит в пределах пяти миль и возрастает пропорционально расстоянию. Было в этом что-то низменное, вульгарное, непрофессиональное и демократичное, по крайней мере, так утверждали сыны Эскулапа, собравшись на конклав в Барчестере. Вот вам наглядное свидетельство того, что этот Торн думает только о деньгах, будто какой-нибудь аптекарь, каковым он, собственно, и является, в то время как ему пристало бы как врачу, если бы под шляпой его таились истинно врачебные чувства, рассматривать свои занятия в чисто философском духе и любую прибыль расценивать как случайное дополнение к своему общественному статусу. Доктору надлежит принимать гонорар так, чтобы левая рука не ведала, что творит правая, брать не задумываясь, не глядя, так, чтобы в лице не дрогнул ни один мускул; настоящий доктор едва отдает себе отчет, что последнее дружеское рукопожатие оказалось более весомым благодаря малой толике золота. Между тем как этот прохвост Торн вынимал из кармана брюк полукрону и отдавал на сдачу с десяти шиллингов. Мало того, этот человек явно не желал считаться с достоинством высокоученой профессии. Его постоянно видели за составлением лекарств в лавке слева от входной двери, а не за натурфилософскими экспериментами с materia medica2 во благо грядущих веков – таковыми полагалось бы заниматься в уединении своего кабинета, вдали от непосвященных глаз, – а он, страшно сказать, смешивал банальные порошки для фермерских кишок или готовил вульгарные мази и примочки от распространенных в сельской местности недугов.
Посмотрим правде в глаза: для доктора Филгрейва Барчестерского подобный человек был, мягко говоря, неподходящей компанией. Между тем общество доктора Торна весьма ценил старый сквайр из Грешемсбери, которому доктор Филгрейв не счел бы для себя зазорным зашнуровать туфли: столь высокое положение занимал Грешем-старший в графстве незадолго до своей смерти. Зато характер леди Арабеллы был хорошо знаком медицинскому сообществу Барсетшира, так что, когда достойный сквайр скончался, все решили, что звезда грешемсберийского временщика закатилась. Однако барсетширских обывателей постигло разочарование. Наш доктор успел заручиться расположением наследника, и, хотя даже тогда доктор Торн и леди Арабелла теплых чувств друг к другу не питали, он сохранил за собою место в усадьбе, причем не только в детской и у постели недужных, но и за обеденным столом сквайра.
Уже одного этого было довольно, чтобы навлечь на себя неприязнь коллег, каковая вскоре и была ему демонстративно и недвусмысленно выказана. Доктор Филгрейв, который, безусловно, считался самым уважаемым медицинским светилом в графстве, которому подобало заботиться о своей репутации и который привык общаться в домах знати почти на равных со столичными прославленными медиками-баронетами – доктор Филгрейв отказался встретиться на консилиуме с доктором Торном. Он крайне сожалеет, говорил он, бесконечно сожалеет об этой вынужденной необходимости, никогда прежде ему не выпадало обязанности столь тяжкой, но свой долг перед профессией он исполнит. При всем своем уважении к леди N., что занедужила, гостя в Грешемсбери, и при всем своем уважении к мистеру Грешему он вынужден отказаться пользовать больную совместно с доктором Торном. Если бы его услуги потребовались при иных обстоятельствах, он бы поспешил в Грешемсбери так быстро, как только несли бы его почтовые лошади.
И в Барсетшире вспыхнула война. Если и была на черепе доктора Торна шишка более развитая, чем все прочие, так это шишка воинственности. Не то чтобы доктор был задирист или драчлив в привычном смысле этого слова; он не лез в свару первым, не любил ссориться, но и сдаваться и уступать нападкам не собирался. Ни в споре, ни в дискуссии он никогда не признавал, что неправ, во всяком случае никому, кроме себя самого; он был готов защищать свои пристрастия и убеждения перед целым миром.
Так что, понятное дело, когда доктор Филгрейв бросил противнику перчатку прямо в лицо, тот не замедлил принять вызов. Торн написал письмо в консервативный барсетширский «Стандарт», в котором атаковал доктора Филгрейва довольно-таки резко. Доктор Филгрейв ответил четырьмя строчками, говоря, что по зрелом размышлении принял решение игнорировать любые замечания, сделанные в его адрес доктором Торном в прессе. Тогда грешемсберийский доктор разразился новым письмом, еще более остроумным и едким, чем предыдущее; его перепечатали в бристольской, эксетерской и глостерской газетах, и доктору Филгрейву было куда как нелегко сохранять благостную сдержанность. Иногда человеку даже к лицу задрапироваться в тогу гордого молчания и объявить о своем равнодушии к публичным нападкам, но сохранять при этом достоинство очень непросто. Терпеливо сносить любезности газетного оппонента, не удостаивая его ответом, – да с тем же успехом человек, искусанный до безумия осами, может попытаться усидеть в кресле, не моргнув и глазом! Доктор Торн написал третье письмо – и медицинская плоть и кровь этого уже не вынесла. Доктор Филгрейв ответил – правда, не от своего имени, а от имени коллеги, и война заполыхала буйно и яро. Не будет преувеличением сказать, что с тех пор доктор Филгрейв утратил покой и сон. Знай он наперед, из какого теста сделан грешемсберийский составитель снадобий, он бы встречался с ним на консилиумах утром, днем и вечером, нимало не возражая, но, раз начав эту войну, он уже не мог пойти на попятный; собратья не оставляли ему выбора. Так его постоянно заставляли подниматься и выталкивали на ринг, словно кулачного бойца, который бьется раунд за раундом без какой-либо надежды на победу и в каждом раунде падает еще до того, как удар противника достигнет цели.
Но доктора Филгрейва, который сам по себе мужеством не отличался, поддерживали словом и делом почти все его собратья в графстве. Врачебное сообщество Барсетшира крепко держалось нерушимых принципов: брать гонорар в одну гинею, давать советы и не продавать лекарств, соблюдать дистанцию между врачом и аптекарем и, главное, не мараться презренным счетом. Весь провинциальный медицинский мир поднялся против доктора Торна – и он воззвал к столице. «Ланцет» встал на его сторону, а вот «Журнал медицинских наук» примкнул к его противникам; «Еженедельный хирург», известный своей профессиональной демократичностью, провозгласил доктора Торна пророком от медицины, но ежемесячный «Скальпель» беспощадно на него обрушился, решительно выступив в оппозиции к «Ланцету». Война продолжалась, и доктор наш до некоторой степени прославился.
Однако ж в своей профессиональной карьере он столкнулся и с другими трудностями. В пользу Торна говорило то, что дело свое он знал и готов был трудиться не покладая рук, честно и добросовестно. Обладал он и другими достоинствами – блестящий собеседник и душа компании, он был верен в дружбе и отличался безупречной порядочностью; все это с ходом лет сыграло ему на руку. Но поначалу многие личные качества сослужили ему дурную службу. В какой бы дом он ни заходил, он переступал порог в убежденности, которую зачастую демонстрировал всем своим видом, если не на словах, что он как джентльмен во всем равен хозяину и как человек – хозяйке. К возрасту он, так уж и быть, проявлял уважение и к общепризнанному таланту – тоже (по крайней мере, так он утверждал), и не возражал засвидетельствовать подобающее почтение высокому рангу; он пропускал лорда впереди себя к двери (если случайно об этом не забывал), говоря с герцогом, обращался к нему «ваша светлость» и ни в коей мере не фамильярничал с важными персонами, предоставляя важной персоне сделать первый шаг ему навстречу. Но в остальном считал, что никто не вправе над ним заноситься.
Вслух он ничего такого не говорил, не оскорблял высокопоставленных особ, похваляясь равенством с ними, не то чтобы напрямую заявлял графу Де Курси, что привилегия отобедать в замке Курси в его глазах ничуть не выше, чем привилегия отобедать в доме приходского священника при замке Де Курси, но давал это понять без слов, всей своей манерой. Само чувство, возможно, не заключало в себе ничего дурного и безусловно искупалось тем, как доктор Торн держался с людьми ниже себя по положению, но в таких делах упрямо идти против общепризнанных правил – чистой воды сумасбродство, а уж вести себя при этом так, как вел себя доктор Торн, и вовсе нелепо, учитывая, что в глубине души он был убежденным консерватором. Не будет преувеличением сказать, что он питал врожденную ненависть к лордам, и тем не менее он отдал бы все, чем владел, всю кровь до последней капли и даже душу, сражаясь за верхнюю палату парламента.
Такой характер – пока не поймешь и не оценишь его до конца – не то чтобы располагал к нему жен сельских джентльменов, в среде которых он рассчитывал практиковать. Да и его манера держаться была не такова, чтобы снискать ему благоволение дам. Он был резок, бесцеремонен, непререкаем, вечно ввязывался в споры, одевался небрежно, хотя всегда опрятно, и позволял себе беззлобно подтрунивать над собеседником, причем шутки его понимал не каждый. Люди не всегда могли уразуметь, смеется он над ними или вместе с ними, а кое-кто, возможно, считал, что врачу в ходе чисто врачебного визита вообще не пристало смеяться.
Но стоило узнать его поближе, и добраться до сути, и обнаружить, и понять, и оценить по достоинству все величие этого любящего доверчивого сердца, и отдать должное его честности и мужественной и вместе с тем почти женской деликатности, и вот тогда доктора действительно признавали достойным представителем профессии. В случае пустячных хворей он частенько бывал грубоват и бесцеремонен. Поскольку он брал деньги за их лечение, наверное, ему следовало бы воздержаться от оскорбительной манеры. Тут его, конечно, ничто не оправдывает. Но, имея дело с подлинными страданиями, он никогда не бывал резок; ни один больной, мучимый тяжким недугом, не упрекнул бы его в грубости и бесчувственности.
Еще одна беда заключалась в том, что он был холостяк. Дамы считают – и я, кстати, здесь с ними полностью согласен, – что доктора по определению люди семейные. Весь мир сходится на том, что женатый мужчина отчасти уподобляется старой нянюшке – в нем до какой-то степени просыпается материнский инстинкт, он становится сведущ в женских делах и в женских нуждах и утрачивает воинствующие, неприятные проблески грубой мужественности. С таким проще говорить о животике Матильды и о том, что у Фанни побаливают ножки – проще, чем с молодым холостяком. Этот недостаток тоже очень мешал доктору Торну в первые его годы в Грешемсбери.
Впрочем, поначалу потребности его сводились к малому, и при всех своих честолюбивых устремлениях он умел ждать. Мир стал ему устрицей, но он понимал, что в создавшихся обстоятельствах не вскроет его скальпелем так вот сразу. Нужно было зарабатывать на хлеб, причем в поте лица своего; нужно было создавать себе репутацию, а это дело небыстрое; ему грело душу, что в придачу к бессмертным надеждам его, возможно, в здешнем мире ждало будущее, которое он мог предвкушать с ясным взором и бестрепетным сердцем.
По прибытии в Грешемсбери доктор поселился в предоставленном сквайром жилище, которое занимал и по сей день, когда совершеннолетия достиг внук старого сквайра. В деревне было два добротных, вместительных жилых дома – разумеется, не считая дома приходского священника, который величественно возвышался на своей собственной земле и потому затмевал все прочие деревенские резиденции, – из этих двух доктору Торну достался тот, что поменьше. Стояли они точно на вышеописанном повороте улицы, с внешней стороны угла и под прямым углом друг к другу. При обоих была хорошая конюшня и обширный сад; стоит уточнить, что дом более просторный занимал мистер Амблби, комиссионер и стряпчий, занимающийся делами усадьбы.
Здесь доктор Торн прожил одиннадцать или двенадцать лет в одиночестве и еще десять или одиннадцать лет вместе со своей племянницей, Мэри Торн. Когда Мэри окончательно перебралась под докторский кров, чтобы стать там хозяйкой – или, во всяком случае, взять на себя обязанности хозяйки, за неимением другой, – девочке шел тринадцатый год. С ее появлением уклад нашего доктора разительно изменился. Прежде он жил по-холостяцки: во всем доме не нашлось бы ни единой уютно обставленной комнаты. Поначалу доктор обустроился кое-как, на скорую руку, потому что в ту пору не располагал средствами на меблировку, а дальше оно так и шло себе, как шло, поскольку повода навести порядок как-то не случилось. В доме этом не было ни четко установленного времени для трапез, ни четко установленного места для книг, ни даже платяного шкафа для одежды. Доктор держал в погребке несколько бутылок хорошего вина и время от времени приглашал собрата-холостяка поужинать вместе отбивной, но сверх этого хозяйством почти не занимался. По утрам ему подавали полоскательницу с крепким чаем, хлеб, масло и яйца, и он рассчитывал, что, в каком бы часу ни вернулся вечером, найдет чем утолить голод, а если в придачу ему снова нальют в полоскательницу чая, то больше ему ничего и не надо – по крайней мере, ничего больше он не требовал.
Но когда приехала Мэри, или, скорее, накануне ее приезда, заведенный в докторском доме порядок коренным образом изменился. Прежде соседи – в частности, миссис Амблби – дивились, как это такой джентльмен, как доктор Торн, может жить настолько безалаберно, а теперь они – и опять-таки в первую очередь миссис Амблби – взять не могли в толк, с какой стати доктор считает нужным вкладывать такие деньги в меблировку дома только потому, что к нему переезжает девчонка двенадцати лет от роду.
Да, миссис Амблби было чему подивиться! Доктор перевернул дом кверху дном и обставил его заново от подвала до крыши. Он красил – впервые с тех пор, как тут обосновался, – он клеил обои, он расстилал ковры, вешал шторы и зеркала и закупался постельным бельем и одеялами, как будто уже завтра ожидал приезда миссис Торн, новобрачной с богатым приданым, и все это – для двенадцатилетней племянницы! «И как, как он только разобрался, что именно следует купить?» – вопрошала миссис Амблби свою закадычную подругу мисс Гашинг, как если бы доктор воспитывался среди диких зверей, не ведая о назначении столов и стульев и не лучше бегемота разбираясь в обивке гостиной.
К вящему изумлению миссис Амблби и мисс Гашинг, доктор неплохо справился. Он никому не сказал ни слова – на такие темы он вообще предпочитал не распространяться, – но дом обставил хорошо, со вкусом, и когда Мэри Торн приехала домой из школы в Бате, куда ее отдали лет шесть назад, оказалось, что ее назначили духом-хранителем настоящего рая.
Как рассказывалось выше, доктор сумел расположить к себе молодого сквайра еще до смерти старого, и перемены в Грешемсбери никак не повредили его профессиональным интересам. Именно так обстояли дела в ту пору, а вот в том, что касается медицинских сфер, в Грешемсбери не все шло гладко. Между мистером Грешемом и доктором была разница в шесть-семь лет, и более того, мистер Грешем выглядел моложе своего возраста, а доктор – старше, однако ж эти двое крепко сдружились еще в юности. Эти теплые отношения более или менее сохранялись в последующие годы, и при такой поддержке доктор и впрямь не один год продержался под огнем артиллерии леди Арабеллы. Но капля, как говорится, камень точит – ежели долбить не переставая.
Самоуверенность доктора Торна вкупе с его завиральными демократическими идеями в профессиональной сфере и семишиллингово-шестипенсовыми гонорарами, а равно и глубокое безразличие к гонору леди Арабеллы переполнили чашу ее терпения. Доктор Торн благополучно справился с первыми детскими болезнями Фрэнка, чем поначалу снискал расположение ее милости; также преуспел он и с правильным питанием для Августы и Беатрис, но поскольку успехи его были достигнуты в прямом противоречии с принципами воспитания, принятыми в замке Курси, в пользу доктора это никак не зачлось. Когда родилась третья дочь, доктор Торн сразу заявил, что ребенок очень слабенький, и строго-настрого запретил матери ездить в Лондон. Мать из любви к своей малютке послушалась, но еще сильнее возненавидела доктора за предписание, назначенное, как она твердо верила, по подсказке и не иначе как под диктовку мистера Грешема. Затем на свет появилась еще одна дочка; доктор Торн еще категоричнее прежнего настаивал на соблюдении строгого распорядка в детской и на пользительности сельского воздуха. Начались ссоры; леди Арабелле внушили, что этот лекарь, любимчик ее мужа, все-таки не царь Соломон. В отсутствие сквайра она послала за доктором Филгрейвом, недвусмысленно намекнув, что встреча с врагом, оскорбляющим его взор и достоинство, ему не грозит. Иметь дело с доктором Филгрейвом оказалось не в пример приятнее.
Тогда доктор Торн дал мистеру Грешему понять, что в сложившихся обстоятельствах не может больше оказывать профессиональные услуги обитателям Грешемсбери. Бедняга сквайр понимал, что ничего тут не поделаешь, и хотя по-прежнему поддерживал дружбу с соседом, визитам за семь шиллингов и шесть пенсов был положен конец. Доктор Филгрейв из Барчестера и джентльмен из Сильвербриджа поделили между собой ответственность за здоровье грешемсберийского семейства, и в Грешемсбери снова вступили в силу воспитательные принципы замка Курси.
Так продолжалось несколько лет, и годы эти стали годами скорби. Не будем ставить в вину врагам доктора воспоследовавшие страдания, и болезни, и смерти. Возможно, четыре хворых малютки все равно бы не выжили, даже будь леди Арабелла терпимее к доктору Торну. Но факт остается фактом: дети умерли, и материнское сердце возобладало над женской гордостью, и леди Арабелле пришлось уничижаться перед доктором Торном. Точнее, она уничижалась бы, если бы доктор ей позволил. Но он, с полными слез глазами, прервал поток ее извинений, взял ее руки в свои, тепло их пожал и заверил, что с превеликой радостью вернется из любви ко всем без исключения обитателям Грешемсбери. Визиты за семь шиллингов шесть пенсов возобновились, и великий триумф доктора Филгрейва завершился.
В детской Грешемсбери эта перемена была встречена бурным восторгом. Среди качеств доктора, до сих пор не упомянутых, было умение находить общий язык с детьми. Он охотно разговаривал и возился с ними. Он катал их на закорках, троих-четверых за раз, кувыркался вместе с ними в траве, бегал взапуски по саду, придумывал для них игры, находил, чем развлечь и рассмешить их в обстоятельствах, заведомо не располагающих к веселью, и, главное, его лекарства были совсем не такими горькими и невкусными, как те, что поступали из Сильвербриджа.
Доктор Торн разработал целую теорию касательно счастья детей и, хотя не предлагал вовсе отказываться от заповедей царя Соломона (при условии, что самому ему ни при каких обстоятельствах не придется быть исполнителем), говорил, что первейший долг родителя перед ребенком – это сделать его счастливым. Причем по возможности не когда-нибудь потом – речь идет не только о будущем взрослом, – нет, сегодняшний мальчик заслуживает такого же обхождения, а его осчастливить, утверждал доктор, куда легче.
«Зачем радеть о будущем благе ценой страданий в настоящем, тем более что и результат настолько сомнителен?» Многие противники доктора думали поймать его на слове, когда тот излагал столь необычную доктрину, однако ж удавалось не всегда. «Как! – восклицали здравомыслящие оппоненты. – Неужто маленького Джонни не следует учить читать потому лишь, что ему это не нравится?» – «Джонни всенепременно должен уметь читать, – парировал доктор, – но почему бы ему не получать удовольствие от чтения? Если наставник не вовсе бездарен, может быть, Джонни не только научится читать, но и полюбит учиться?»
«Но детей необходимо держать в узде», – твердили его противники. «И взрослых тоже, – обыкновенно ответствовал доктор. – Я не должен воровать ваши персики, увиваться за вашей женой и чернить вашу репутацию. Как бы ни хотелось мне в силу врожденной греховности предаться этим порокам, для меня они запретны – и запрет этот не причиняет мне страданий и, скажу без преувеличения, даже и не особо меня огорчает».
Вот так они спорили и спорили, и ни одному не удалось переубедить другого. А тем временем дети всей округи очень привязались к доктору Торну.
Доктор Торн и сквайр по-прежнему оставались хорошими друзьями, но в силу обстоятельств, которые растянулись на много лет, бедняга сквайр чувствовал себя неловко в обществе доктора. Мистер Грешем задолжал крупную сумму денег и, более того, продал часть принадлежавших ему земель. К несчастью, Грешемы всегда гордились правом свободного распоряжения наследственным имуществом: каждый новый владелец Грешемсбери имел полную власть поступить со своей собственностью так, как считал нужным. Что имение перейдет в целости и сохранности к наследнику по мужской линии, никто прежде не сомневался. Время от времени собственность бывала обременена выплатами в пользу младших детей, но выплаты эти были давно погашены, и нынешнему сквайру собственность досталась без каких бы то ни было обременений. А теперь часть угодий продали – и продали в некотором смысле через посредничество доктора Торна.
Сквайра это глубоко печалило. Он как никто другой дорожил родовым именем и родовой честью, древним фамильным гербом и репутацией; он был Грешемом до мозга костей, но духом оказался слабее пращуров, и при нем Грешемы впервые оказались в стесненных обстоятельствах! За десять лет до начала нашей истории понадобилось раздобыть крупную сумму, чтобы выплатить срочные задолженности, и, как выяснилось, это можно было сделать с большей выгодой, продав часть угодий, нежели как-то иначе. В результате земельные владения сократились примерно на треть.
Боксоллский холм высился на полпути между Грешемсбери и Барчестером и славился лучшими в графстве угодьями для охоты на куропаток; кроме того, барсетширские охотники высоко ценили тамошние знаменитые лисьи урочища – Боксоллский дрок. На холме никто не жил; он стоял отдельно от остальных грешемсберийских земель. Его-то, повздыхав про себя и вслух, мистер Грешем в конце концов позволил продать.
Итак, Боксоллский холм был продан, и продан за хорошие деньги, по частному соглашению, уроженцу Барчестера, который, поднявшись из низов, составил себе огромное состояние. О характере этого человека мы поведаем позже, довольно сказать, что в денежных вопросах он полагался на советы доктора Торна и именно по предложению доктора Торна приобрел Боксоллский холм, включая право охоты на куропаток и дроковые урочища. Он не только купил Боксоллский холм, но впоследствии еще и ссужал сквайру крупные суммы под закладные, и во всех этих сделках участвовал доктор. Вот так случилось, что мистер Грешем нередко бывал вынужден обсуждать с доктором Торном денежные вопросы и время от времени выслушивать нравоучения и советы, без которых охотно обошелся бы.
Но довольно о докторе Торне. Прежде чем приступить к нашей истории, нужно сказать несколько слов и про мисс Мэри: взрежем-ка корочку пирога и приоткроем глазам гостей начинку! До шестилетнего возраста маленькая мисс Мэри жила на ферме, после чего ее отдали в школу в Бате и шесть с чем-то лет спустя переселили в заново меблированный докторский дом. Разумеется, за все эти годы доктор Торн ни разу не терял свою воспитанницу из виду: он со всей ответственностью отнесся к обещанию, которое дал уезжающей матери. Он то и дело навещал малышку-племянницу и задолго до того, как ей исполнилось двенадцать, об обещании и о своем долге перед матерью уже и думать забыл – узы любви к единственной родной душе оказались не в пример сильнее.
Когда Мэри приехала домой, доктор радовался как дитя. Он приготовил для нее сюрпризы так продуманно и тщательно, словно закладывал мины, чтобы подорвать врага. Сперва он показал племяннице аптечную лавку, затем кухню, затем столовые, затем спальни, свою и ее, пока не дошел до обновленной гостиной во всем ее великолепии, подкрепляя удовольствие шуткой-другой и доверительно рассказывая девочке, что в этот последний круг рая он никогда не дерзнул бы войти без ее дозволения и не сняв сапог. Мэри была мала, но шутку оценила и, подыгрывая дяде, держалась как маленькая королева; очень скоро они уже стали друзьями не разлей вода.
Но даже королевам необходимо образование. Как раз в то время леди Арабелла смирила свою гордыню – и в знак своего смирения пригласила Мэри брать уроки музыки вместе с Августой и Беатрис в большом доме. Учитель музыки из Барчестера приезжает-де трижды в неделю и занятие длится три часа, и если доктор не против, пусть его девочка тоже посидит-послушает, она ведь никому не помешает. Так сказала леди Арабелла. Доктор с благодарностью и не колеблясь принял предложение, добавив только, что сам договорится с синьором Кантабили об оплате. И выразил свою глубокую признательность леди Арабелле за то, что та позволила его маленькой воспитаннице присоединиться к урокам обеих мисс Грешем.
Нужно ли говорить, что леди Арабелла тут же вспыхнула? Платить сеньору Кантабили! Нет, ни в коем случае, она сама все уладит; и речи не может идти ни о каких дополнительных расходах в связи с договоренностью касательно мисс Торн! Но и здесь, как в большинстве случаев, доктор поступил по-своему. Леди Арабелла, до поры усмиренная, протестовала не так бурно, как могла бы, и в какой-то момент, к немалой своей досаде, осознала, что Мэри Торн учится музыке в усадебной классной комнате на равных правах в том, что касается оплаты, с ее собственными дочерями. Нарушить договоренность, однажды достигнутую, уже не представлялось возможным, тем более что юная леди не вызывала никаких нареканий и тем более что обе мисс Грешем очень к ней привязались.
Так что Мэри Торн обучалась музыке в Грешемсбери, а вместе с музыкой и много чему другому: вести себя в обществе сверстниц, изъясняться и поддерживать беседу подобно другим юным леди, одеваться, двигаться и ходить. Все это, будучи сообразительной от природы, она без труда усваивала в большом доме. Понахваталась она и французского, ведь грешемсберийская гувернантка-француженка все время находилась в комнате вместе со своими подопечными.
А затем, несколько лет спустя, в деревню приехали новый приходской священник и его сестра: вместе с ней Мэри занималась немецким, а также и французским. Многому она научилась от самого доктора, например правильно выбирать книги для чтения на родном языке; от него же девочка переняла образ мыслей – отчасти сродни его собственному, но смягченный женской деликатностью ее натуры.
Так Мэри Торн росла и получала образование. Конечно же, мой долг как автора – рассказать хоть что-нибудь и о ее внешности. Она героиня моего романа, а значит, непременно должна быть красавицей, но, по правде говоря, в моем сознании яснее запечатлены ее ум и душевные качества, нежели облик и черты лица. Я знаю, что красота ее была неброской: рост – невысокий, руки и ноги – маленькие и изящные, глаза – ясные, если присмотреться, но не настолько ярко сияющие, чтобы сияние это было заметно всем вокруг, волосы – темно-каштановые (Мэри носила очень простую прическу, зачесывая их со лба назад), губы – тонкие, а линия рта, в целом, вероятно, ничем не примечательная, в пылу спора одушевлялась и обретала изгиб весьма решительный, и, хотя обычно Мэри держалась скромно и сдержанно, а весь ее облик дышал спокойной безмятежностью, ей случалось, увлекшись, говорить с таким жаром, что, по правде сказать, удивлялись все, кто ее не знал – да порою даже и те, кто знал. С жаром! Нет, с такой пламенной страстностью, что в тот миг она забывала обо всем, кроме той истины, которую отстаивала.
Все ее друзья и близкие, включая доктора, порою огорчались при виде такой горячности, но любили девушку тем сильнее. Эта неуемная пылкость характера в самые первые годы едва не послужила причиной изгнания Мэри из грешемсберийской классной комнаты, но в конце концов настолько укрепила ее право там находиться, что теперь уже и леди Арабелла при всем желании не смогла бы этому воспротивиться.
В ту пору в Грешемсбери приехала новая гувернантка-француженка и стала – или неминуемо стала бы – любимицей леди Арабеллы, поскольку обладала всеми великими достоинствами, полагающимися гувернантке, и в придачу являлась протеже за́мка. Под «замком» на языке Грешемсбери неизменно подразумевался замок Курси. Очень скоро пропал дорогой медальон, принадлежащий Августе Грешем. Гувернантка запретила девочке надевать украшение в классной комнате, и молоденькая служанка, дочка мелкого арендатора, отнесла его в спальню. Медальон пропал, и происшествие наделало немало шуму, но спустя какое-то время пропажа обнаружилась, благодаря ревностному усердию гувернантки-француженки, в личных вещах служанки-англичанки. Леди Арабелла пылала праведным гневом, девушка громко все отрицала, отец ее скорбел молча, несчастная мать лила слезы, приговор мира Грешемсбери был неумолим. Но почему-то, теперь уже не важно почему, Мэри Торн не разделяла всеобщей убежденности. Мэри высказалась вслух – и открыто обвинила гувернантку в воровстве. Два дня Мэри пребывала в опале почти столь же суровой, как и фермерская дочка. Но и будучи в опале, Мэри не утихомиривалась и не молчала. Когда леди Арабелла отказалась ее выслушать, девочка пошла к мистеру Грешему. Она заставила дядю вмешаться. Она перетянула на свою сторону одного за другим влиятельных жителей прихода и в конце концов преуспела: мамзель Ларрон рухнула на колени и признала свою вину. С тех пор все арендаторы Грешемсбери души не чаяли в Мэри Торн, особенно же полюбили ее в одном маленьком домике, где грубоватый отец семейства, в речах не церемонясь, частенько восклицал вслух, что ради Мэри Торн бросит вызов человеку или окружному судье, герцогу или даже самому дьяволу.