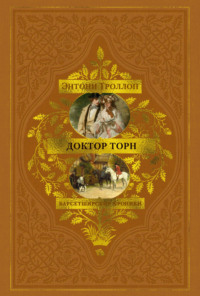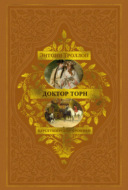Read the book: «Барсетширские хроники: Доктор Торн», page 10
Глава X
Завещание сэра Роджера
Доктор Торн вышел из комнаты и зашагал вниз по лестнице, понимая, что не может уйти, не побеседовав сперва с хозяйкой дома. Уже в коридоре он заслышал, как больной яростно трезвонит в колокольчик; слуге, что разминулся с гостем на лестнице, было громко приказано тотчас же послать в Барчестер верхового гонца. Мистера Уитербоунза призвали наверх написать записку доктору Филгрейву, чтобы тот незамедлительно поспешил к недужному.
Сэр Роджер не ошибался, предполагая, что доктор всенепременно переговорит с ее милостью. В самом деле, доктору при всем желании вряд ли удалось бы покинуть дом, не пообщавшись с леди Скэтчерд. Разговор состоялся. Разговор затянулся надолго – уже и мышастого жеребчика подали к крыльцу, – много, много было произнесено слов, которые подрядчик, верно, счел бы глупостью.
Леди Скэтчерд никоим образом не вписывалась в круг жен английских баронетов; конечно, ей с ее-то образованием и манерами куда больше пристало находиться в помещении для слуг, но это не делало ее плохой женой или дурной женщиной. Она мучительно, нестерпимо тревожилась за мужа, которого чтила и боготворила превыше всех прочих мужчин, как ей и пристало. Она отчаянно беспокоилась за его жизнь и искренне верила, что если кто и может таковую продлить, так только старый и верный друг, который, как она знала, был предан ее господину и повелителю со времен самых первых невзгод их семейной жизни.
Когда же выяснилось, что Торна прогнали и на его место пришлют какого-то чужака, сердце у нее упало.
– Но, доктор, – взмолилась она, вытирая глаза передником, – вы ж его не бросите, правда?
Доктору Торну было непросто объяснить ее милости, что врачебный этикет не позволит ему оказывать медицинскую помощь ее супругу после того, как тот прогнал его и вместо него пригласил другого врача.
– Этикет! – вскричала она, заливаясь слезами. – При чем тут этикет, когда человек убивает себя бренди?
– Филгрейв запретит ему пить так же категорически, как и я.
– Филгрейв! – в сердцах повторила она. – Чушь! Филгрейв, скажете тоже!
Доктор Торн готов был обнять леди Скэтчерд за несокрушимую убежденность в его собственном всемогуществе, с одной стороны, и неистребимое недоверие к его сопернику – с другой, которые она сумела вложить в эти несколько слов.
– Я вам вот что скажу, доктор: я задержу посыльного. Ну не съест же меня Роджер, а? Пока он не на ногах, он все одно что дитя малое, сами понимаете. Никуда я мальчишку не пущу, не надобны нам тут никакие Филгрейвы.
Однако против такого шага доктор Торн решительно возражал. Он попытался растолковать встревоженной жене, что после всего случившегося он не вправе пользовать больного, пока его о том снова не попросят.
– Но вы ведь можете просто по-дружески заглянуть в гости, а там помаленьку его и урезоните, а? Ну пожалуйста, доктор! А что до оплаты…
Нетрудно вообразить, что ответил на это доктор Торн. Так за разговорами и за ланчем, который его вынудили-таки съесть, прошел почти час – с того момента, как он вышел из спальни сэра Роджера и до того, когда он наконец вдел ногу в стремя. Но не успел жеребчик стронуться с места и сделать шаг-другой по гравиевой дорожке перед домом, как распахнулось одно из верхних окон и доктора вновь позвали к больному.
– Он требует вернуть вас – не мытьем, так катаньем, – заверещал из окна мистер Уинтербоунз, делая упор на последние слова.
– Торн! Торн! Торн! – заорал больной с постели, да так громко, что доктор услышал его даже снаружи, сидя верхом на лошади.
– Вас велено вернуть не мытьем, так катаньем, – повторил Уинтербоунз еще настойчивее: он явно считал, что слова «не мытьем, так катаньем» обладают особой убедительностью и противиться им никак невозможно.
Повинуясь ли магии этих волшебных слов или просто взвесив про себя все «за» и «против», но доктор неторопливо и словно бы нехотя спешился и зашагал обратно в дом.
«Все без толку, – твердил он себе, – посыльный уже выехал в Барчестер».
– А я за Филгрейвом послал, – вместо приветствия заявил подрядчик, как только гость снова оказался у его изголовья.
– И вы меня позвали только затем, чтобы об этом сообщить? – отозвался Торн. Вот теперь он всерьез рассердился на капризную бесцеремонность больного. – Скэтчерд, вам не мешало бы учитывать, что мое время представляет ценность для других, если не для вас.
– Ну полно, не злитесь, старина, – промолвил Скэтчерд, оборачиваясь к нему и глядя на него совсем иначе, нежели еще совсем недавно: теперь в лице его читалось и мужественное достоинство, и теплая симпатия. – Вы ж не разобиделись, что я за Филгрейвом послал?
– Ничуть, – благодушно заверил доктор. – Филгрейв сможет сделать для вас ровно столько же, сколько и я.
– То есть вообще ничего, верно, Торн?
– Все зависит от вас самих. Филгрейв сумеет вам помочь, если вы расскажете ему правду и будете следовать его предписаниям. Ваша жена, ваш слуга, да кто угодно станут для вас таким же хорошим доктором, как он или я, ну то есть таким же хорошим в главном вопросе. Но вы послали за Филгрейвом и, конечно же, должны его принять. А у меня много дел, я вынужден откланяться.
Однако Скэтчерд крепко стиснул его руку, удержав на месте.
– Торн, – воскликнул он, – если хотите, я прикажу слугам окатить Филгрейва из водяного насоса, как только приедет, чес-слово, прикажу – и лично возмещу ему ущерб.
На такое предложение доктор тоже никак не мог согласиться, хотя и не сдержал смеха. Сэр Роджер глядел на него так проникновенно-умоляюще, и при этом в донельзя довольном взгляде посверкивали смешливые искорки, словно бы обещая, что при малейшем поощрении подрядчик свою угрозу выполнит. Наш доктор, конечно же, вовсе не собирался поспособствовать насильственному омовению высокоученого собрата, однако не мог не признать про себя, что идея хороша.
– Ей-богу, сей же миг распоряжусь насчет насоса, скажите только слово, – настаивал сэр Роджер.
Но слова этого доктор так и не произнес, и идея воплощения не обрела.
– Не след вам серчать на больного, – укорил Скэтчерд, снова завладев рукой доктора, – тем паче на старого друга и тем паче, что сами же его и вывели из себя.
Доктор не счел нужным объяснять, что сердился-то его собеседник, а сам он неизменно сохранял благодушие. Он просто улыбнулся и спросил сэра Роджера, может ли еще чем-нибудь ему помочь.
– Можете, доктор, еще как можете, поэтому я за вами и послал – послал еще вчера. Уинтербоунз, а ну кыш отсюда, – грубо прикрикнул он, словно выгоняя из спальни шелудивого пса.
Уинтербоунз, ничуть не обидевшись, вновь спрятал стакан под полой – и исчез за дверью.
– Вы присаживайтесь, Торн, присаживайтесь, – пригласил подрядчик уже совсем иным тоном, нежели до сих пор. – Вижу, вы торопитесь, но уж придется вам уделить мне полчаса. А то как знать, к тому времени, как случай опять представится, я, глядишь, помру!
Доктор, конечно же, заверил больного, что надеется еще не раз поболтать с ним полчасика, а то и дольше, в течение многих грядущих лет.
– Ну, это уж как повезет. А сейчас все-таки задержитесь, будьте так добры. Потом на лошадке отыграетесь, если что.
Доктор придвинул стул и сел; настойчивость хозяина не оставила ему выбора.
– Я ведь не из-за болезни послал за вами… ну или позволил ее милости за вами послать. Да Бога ради, Торн, вы думаете, я сам не знаю, отчего слег? Когда я вижу, как этот жалкий бедолага Уинтербоунз убивает себя джином, вы думаете, я не знаю, что меня ждет, равно как и его?
– Тогда зачем вы пьете? Зачем себя губите? Ведь вы не он, ваша жизнь – совсем другое дело. Ох, Скэтчерд, Скэтчерд! – И доктор уже изготовился открыть шлюзы своего красноречия, дабы умолять этого незаурядного человека воздержаться от пресловутого яда.
– Много же вы понимаете в человеческой природе, доктор! Воздержаться? Да можно ли воздержаться от дыхания и жить как рыба под водой?
– Но Природа вовсе не назначила вам пить, Скэтчерд.
– Привычка – вторая натура и посильнее первой будет. Да и как же мне не пить? Что такого дал мне мир за все, что я для него сделал? Где еще мне обрести поддержку? Чему порадоваться?
– Ох, Господи ты боже мой! Разве не обладаете вы несметным богатством? Разве не вольны делать все, что пожелаете, и быть кем хотите?
– Нет! – рявкнул больной с такой силой, что слышно было по всему дому. – Я не волен делать того, что мне нравится, мне не дано быть тем, кем я хочу! А что я могу-то? Кем мне прикажете быть? Много ли у меня радостей, кроме бутылки с бренди? Если я окажусь в кругу джентльменов, смогу ли я с ними поговорить? Если им есть что сказать о железной дороге, они зададут мне вопрос, а вот если заведут речь о чем-то еще, мне останется только помалкивать в тряпочку. А если я пойду к своим рабочим, смогут они поговорить со мной? Нет, я их хозяин, и хозяин строгий. Завидев меня, они только кланяются да трясутся от страха. Где мои друзья? Вот! – И Скэтчерд вытащил бутылку из-под подушки. – Где мои утехи? Вот! – И он потряс бутылкой перед самым носом доктора. – Где моя единственная поддержка, моя единственная радость, мое единственное утешение после всех трудов моих? Вот, доктор, вот, вот, вот! – И с этими словами сэр Роджер спрятал свое сокровище обратно под подушку.
Было во всем этом нечто настолько жуткое, что доктор Торн потрясенно отпрянул и на мгновение утратил дар речи.
– Но, Скэтчерд, – произнес он наконец, – ну не умирать же ради такой страсти?
– Умирать? А чего б нет? Я живу ради нее, пока живется, и умру ради нее, когда срок придет. Умереть ради нее! А чего плохого в смерти-то? Разве люди не умирают ради шиллинга в день? Ну помрет человек, беда невелика! Чего такого страшного, если и помру? В конце концов, все мы смертны, вы ж сами так сказали. Да ради выпивки я десять раз готов помереть.
– Вы сейчас говорите либо в безумии, либо по дурости, чтобы напугать меня.
– Да, наверное, тут намешано достаточно и безумия, и дурости, что правда, то правда. Такая жизнь, как у меня, делает из человека дурака и с ума сводит. Что у меня есть такого, чтобы бояться умереть? Я сто́ю триста тыщ фунтов, и я бы все их отдал до последнего пенни, чтоб завтра выйти на работу с лотком да известковым раствором, да чтоб друг-приятель хлопнул меня по плечу и позвал: «Эй, Роджер, пошли уговорим еще по полпинты?» Я вам так скажу, Торн, когда человек скопил триста тыщ, ему только и остается, что помереть. Только на это он и годится. Когда заработал хорошие деньжищи, их надобно потратить, да вот духу уже не хватает.
Разумеется, доктор сказал на это что-то утешительное и успокаивающее. Не то чтобы он мог как-то утешить и успокоить собеседника, но нельзя же сидеть и слушать страшную правду – ведь в отношении Скэтчерда все это было правдой! – ни слова не молвив в ответ.
– Это все равно как на театре, верно, доктор? – промолвил баронет. – Вы понятия не имели, что за штуку я могу выкинуть – не хуже какого-нибудь актеришки! Ну да ладно, к делу: наконец-то я вам расскажу, зачем за вами посылал. Незадолго до своего последнего приступа я составил завещание.
– Но у вас уже было завещание.
– Верно, было. Я его уничтожил. Сжег собственными руками, чтоб уж наверняка. В том завещании я назначил двух душеприказчиков, вас и Джексона. Джексон в ту пору был моим компаньоном на строительстве железнодорожной ветки «Гранд-сентрал» между Йорком и Йовилом. В ту пору я Джексона высоко ставил. Сейчас-то он и шиллинга не стоит.
– Ну так ведь и обо мне можно сказать ровно то же самое.
– Ничего подобного. Джексон без денег ничто, а вот над вами деньги власти не имеют. Вы – бессеребренник.
– Это точно, ни серебра, ни золота не нажил, – покачал головой доктор. – И наживу вряд ли.
– Не наживете. Тем не менее вот оно там, мое новое завещание, в верхнем ящике стола. Я назначил вас своим единственным душеприказчиком.
– Его нужно переписать, Скэтчерд, его обязательно нужно переписать. Если речь идет о трехстах тысячах фунтов, для одного человека это слишком большая ответственность; кроме того, назначить надо кого-то помоложе, мы же с вами ровесники – вдруг я умру раньше вас?
– Ну-ну, доктор! Доктор, не передергивайте! От вас я такого не ждал. Не забывайте: если вы хоть на шаг отступите от правды, грош вам цена.
– Да, но, Скэтчерд…
– Да, но, доктор, завещание уже составлено. И советоваться о нем с вами я не намерен. Вы названы душеприказчиком, и если у вас хватит решимости отказаться, когда я помру, что ж, воля ваша.
Доктор не был юристом и с трудом представлял себе, как избавиться от груза ответственности, которую старый друг твердо вознамерился взвалить на его плечи.
– Уж придется вам, Торн, позаботиться о том, чтобы завещание было исполнено как полагается. А теперь я объясню вам, что сделал.
– Вы ведь не собираетесь мне рассказывать про то, как именно вы распорядились своей собственностью?
– Не то чтобы так, во всяком случае, не про всю. Сто тысяч я отказал разным людям, в том числе и леди Скэтчерд.
– Разве дом не отходит к леди Скэтчерд?
– Нет, на черта ей сдались этакие хоромы? Она и теперь-то не знает, что с домом делать и как в нем жить. Я ее обеспечил надежно, не важно, как именно. Дом, землю и остальные деньги я завещаю Луи-Филиппу.
– Как! Двести тысячи фунтов? – воскликнул доктор.
– А почему я не могу завещать двести тысяч фунтов своему сыну – или даже старшему сыну, будь у меня их несколько? Разве мистер Грешем не оставит всю собственность своему наследнику? Лорду Де Курси и герцогу Омниуму можно так поступать, а мне, что ли, нельзя? Или какой-то парламентский закон запрещает железнодорожному подрядчику отписать все в пользу старшего сына? Разве моему сыну не достанется титул, которому надобно соответствовать? А вот Грешемы-то титулом похвастаться не могут!
Доктор принялся неловко оправдываться. Он ведь не мог сказать напрямую, что на самом деле имел в виду совсем другое: сын сэра Роджера Скэтчерда не тот человек, которому разумно доверить полновластно распоряжаться огромным состоянием.
У сэра Роджера Скэтчерда был только один ребенок, сын, который родился во дни его давних невзгод и был отлучен от материнской груди ради того, чтобы молоко его матери напитало юного наследника Грешемсбери. Мальчик вырос, но не окреп ни телом, ни разумом. Отец вознамерился сделать из него джентльмена и отправил сына в Итон и в Кембридж. Но даже такой, пусть и общепризнанный, способ не делает джентльмена. Трудно сказать, какое именно средство тут наверняка сработало бы, хотя у людей в головах все-таки есть некие смутные, однако ж сколько-то верные догадки на сей счет. Как бы то ни было, два года в Итоне и три семестра в Кембридже так и не сделали джентльмена из Луи-Филиппа Скэтчерда.
Да, его окрестили Луи-Филиппом, в честь короля французов. Если оглядеться по сторонам в попытке обнаружить королевские имена и подсчитать детей, названных в честь королей и королев или королевской родни, искать надо в семьях демократов. Никто так раболепно не чтит венценосных особ – вплоть до обрезков монаршего ногтя; никто не благоговеет так пред величием коронованного чела, никто так не стремится обзавестись хоть лоскутом, хоть какой-нибудь мелочью, освященной королевским прикосновением. Непреодолимое расстояние, отделяющее этих людей от трона, как раз и заставляет их вожделеть крошек с королевского стола – и всяческого монархического хлама.
В Луи-Филиппе Скэтчерде не было ровным счетом ничего королевского, кроме имени. Он уже достиг совершеннолетия, и отец, обнаружив, что Кембридж себя не оправдал, отправил сына в заграничное путешествие под присмотром наставника. До доктора время от времени долетали вести об этом юнце: в нем уже проявились симптомы отцовских пороков, но ни малейших признаков отцовских талантов. Торн знал, что тот в свои молодые годы славится беспутством, но не великодушием, и в двадцать один год уже страдает приступами белой горячки. Именно поэтому доктор выразил скорее неодобрение, нежели удивление, когда услышал, что Скэтчерд намерен завещать основную часть своего огромного состояния вздорному необузданному мальчишке.
– Я заработал свои деньги в поте лица, и у меня есть право ими распорядиться как хочу. А чего еще мне с ними делать-то?
Доктор заверил его, что спорить не собирается.
– Луи-Филипп отлично справится, сами увидите, – продолжал баронет, понимая, что творится в душе его друга. – Пусть малец перебесится – молодое вино игриво! – а с годами, глядишь, и остепенится.
«Но что, если он не доживет до тех пор, как перебесится? – подумал про себя доктор. – Что, если при таком бурном брожении молодое игривое вино так и не созреет, но скиснет и превратится в уксус?» Однако не было смысла говорить об этом вслух, так что перебивать Скэтчерда он не стал, и тот беспрепятственно продолжил:
– Кабы мне в молодые годы погулять всласть, сейчас бы меня так к бутылке не тянуло. Как бы то ни было, мой сын унаследует все. У меня хватило пороха заработать деньги, а вот потратить – не хватило. А сын мой станет шиковать в самом что ни есть блестящем обществе. Держу пари, он еще будет носить голову выше, чем этот ваш молодой Грешем. Они ж с ним сверстники, уж мне ли о том не помнить, да и ее милость об этом в жизни не позабудет.
Надо сказать, что сэр Роджер Скэтчерд к молодому Грешему особой любви не питал, а вот что до ее милости – она любила юношу, которого вскормила, едва ли не так же глубоко и нежно, как собственного отпрыска.
– А вы разве не предусмотрите каких-либо мер, чтобы помешать бездумным тратам? Если вы проживете еще лет десять, а то и двадцать, на что мы все надеемся, необходимость в том отпадет, но человек, составляющий завещание, должен помнить, что может умереть внезапно.
– Особенно если, ложась баиньки, прячет под подушку бутылку, так, доктор? Но имейте в виду, это – врачебная тайна, чур, за пределами спальни ни слова!
Доктору Торну оставалось только вздохнуть. Ну что тут скажешь, тем более такому человеку?
– Да, я все предусмотрел, промотать состояние я ему не дам. Без своего куска хлеба он не останется; после моей смерти он получит пять сотен в год в свое полное распоряжение. Вот их пусть транжирит как хочет.
– Пять сотен в год – это немного, – заметил доктор.
– Немного, но я не собираюсь загонять его в рамки этой суммы. Пусть получает сколько нужно – на разумные расходы. Но что до основной части собственности – поместье Боксолл-Хилл, закладная на Грешемсбери и разные прочие закладные, – тут я ограничил право распоряжения: они достанутся Луи-Филиппу по достижении им двадцати пяти лет, а вплоть до этого дня в вашей власти давать или не давать ему то, чего он потребует. Если он умрет бездетным до того, как ему исполнится двадцать пять, собственность целиком и полностью отойдет старшему ребенку Мэри.
А Мэри была сестрой сэра Роджера и, следовательно, матерью мисс Торн: это она вышла замуж за респектабельного торговца скобяным товаром, уехала в Америку и теперь жила там в окружении многочисленного семейства.
– Старшему ребенку Мэри! – воскликнул доктор, едва владея собой: лоб его повлажнел от пота. – Старшему ребенку Мэри! Скэтчерд, здесь требуется более точное описание, или львиная доля вашего наследства достанется крючкотворам-стряпчим.
– Да какое там точное описание, я их имен-то не слыхивал.
– Но вы имеете в виду мальчика или девочку?
– Так может, у нее одни девчонки, откуда мне знать, или, наоборот, одни мальцы. Девчонке деньги, надо думать, пригодились бы больше. Только проследите, чтобы она вышла замуж за приличного человека: вы будете ее опекуном.
– Пфа, чепуха, – отмахнулся доктор. – Луи исполнится двадцать пять через год-другой.
– Примерно через четыре года.
– А вы, Скэтчерд, по всему судя, нас так рано не покинете.
– Ну, я, конечно, не собираюсь, а там уж как получится.
– С вероятностью десять к одному это условие завещания так и не вступит в силу.
– Верно, верно. Если помру я, останется Луи-Филипп; я просто решил, что надо бы что-то такое добавить, чтобы не дать ему промотать все деньги до тех пор, пока он не образумится.
– Вы правы, вы совершенно правы. И я бы, наверное, указал возраст постарше, чем двадцать пять.
– А я бы – нет. К этому времени Луи-Филипп уже ума-разума наберется. Я так себе думаю. Что ж, теперь, доктор, моя воля вам известна; если я завтра помру, вы будете знать, чего от вас требуется.
– Но вы просто-напросто указали «старший ребенок», да, Скэтчерд?
– Именно так. Дайте-ка мне сюда завещание, я вам его зачитаю.
– Нет-нет, не трудитесь. Старший ребенок! Вам нужно определиться точнее, Скэтчерд, право же, нужно. Вы только представьте себе, сколь многое зависит от этих слов.
– Да черт меня раздери, что я еще сказать-то могу? Я их имен не знаю, в жизни их не слышал. Но старший ребенок, он и в Америке старший. Или мне полагалось сказать «младший», раз я всего лишь скромный железнодорожный подрядчик?
Скэтчерд уже начал подумывать, что доктору пора бы уйти и оставить его в обществе Уинтербоунза и бренди, но если до того наш друг всячески давал понять, что торопится, то теперь словно бы позабыл о всякой спешке. Он сел у изголовья кровати, сложив на коленях руки и отрешенно глядя на стеганое покрывало. Наконец он глубоко вздохнул и сказал:
– Скэтчерд, вам необходимо сформулировать условие поточнее. Если вы хотите, чтобы я имел к этому какое-то отношение, вы должны выразиться яснее и четче.
– Да куда ж четче-то? «Старший ребенок, находящийся в живых», сказано яснее ясного, будь то Джек или Джилл.
– А что на это говорит ваш поверенный?
– Поверенный! Вы ж не думаете, что я сообщил поверенному, что именно написал? Нет, я взял у него образец и бумагу, вот это все, посадил его здесь, в одной комнате, а мы с Уинтербоунзом устроились в другой – и за работу! Так что все сделано честь по чести. Уинтербоунз сам не понимал, что он такое пишет, но прописал все, что нужно, в лучшем виде.
Доктор посидел еще немного, не сводя глаз с покрывала, а затем поднялся уходить.
– На днях загляну к вам снова, – пообещал он, – может быть, даже завтра.
– Завтра! – воскликнул сэр Роджер, совершенно не понимая, почему доктор Торн собирается вернуться так скоро. – Завтра! Я ж не настолько плох? Если вы станете навещать меня так часто, я ж разорюсь!
– Да нет же, Скэтчерд, я не в качестве лечащего врача к вам собираюсь, нет. Я по поводу вашего завещания. Мне необходимо его хорошенько обдумать, право же, необходимо.
– Да вы насчет моего завещания не утруждайтесь, вообще выбросьте его из головы, пока я жив. Как знать, может, это мне придется улаживать ваши дела, а, доктор? А что, пригляжу за вашей племянницей, когда вы в могиле лежать будете, муженька ей хорошего подыщу? Ха-ха-ха!
И доктор, не ответив ни словом, ушел.
The free sample has ended.