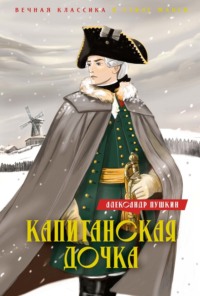Read the book: «Капитанская дочка. Дубровский»
© Белоусова Е. Н., иллюстрации, 2025
© Оформление, вступительная статья, комментарии. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Machaon®
* * *



«Капитанская дочка» и «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина
Россию на протяжении всей её новейшей истории сотрясали народные волнения. XVIII–XIX века не стали исключением. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, чумные и холерные бунты, восстание декабристов – лишь некоторые из череды народных возмущений. Причины возникновения были разные, но все они говорили об одном: необходимости реформ. Однако государственный аппарат Российской империи был не готов к резким изменениям, что приводило к увеличению пропасти между простым народом и властью. Всё это не могло не получить своего отражения в литературе.
Александр Пушкин к 1830-м годам уже сформировался как первый поэт России и начал изучать более сложные литературные жанры, такие как повести, романы и исторические эпические произведения. Осталась позади юношеская пора романтизма, когда пушкинский лирический герой был одинок, мечтателен и свободолюбив. После двух ссылок, серьёзных потрясений из-за казни близких друзей-декабристов, смерти Александра I, с которым у поэта были очень напряжённые отношения, и восхождения на престол Николая I, с которым отношения тоже сложились непростые, но более лояльные, Пушкин начал ощущать сильное влияние истории на настоящее и будущее.
Историзмом проникнуто всё последующее творчество писателя: поэмы «Медный всадник» и «Полтава», трагедия «Борис Годунов», романы «Дубровский» и «Капитанская дочка». «„Исторический“ взгляд на окружающую жизнь, которая на каждом шагу кричала о несправедливости, унижении человеческого достоинства и произволе, мог бы успокоить человека с ленивой душой и нетребовательной совестью. Пушкин не был таким: размышления о суровости исторических законов не усыпляли, а возбуждали у него нравственно-гуманистические требования» (Ю. М. Лотман).
Пушкин не был историком по профессии, но, в отличие от своего Онегина, как заметил Г. В. Вернадский, как раз «имел охоту рыться в хронологической пыли» архивных документов. Правительство от него ждало возвеличивания монархии, прославления императоров, но у Александра Сергеевича были свои планы. В 1831 г. вместе с правом пользоваться государственными архивами он под предлогом работы над биографией Александра Суворова получил доступ к документам о восстании Емельяна Пугачёва 1773–1775 гг., а потом и вовсе добился разрешения отправиться в рабочую командировку в Сибирь, чтобы собрать сведения, что называется, из первых уст. Свидетелей событий 60-летней давности осталось уже мало, они были уже глубокими стариками, а в 70‑х годах XVIII века, наоборот, были совсем ещё детьми. И все же поездка оказалась плодотворной, что позволило Пушкину в дальнейшем написать не только первый исторический русский роман, но и отдельный труд – «Историю Пугачёвского бунта», который долгое время оставался единственным научным исследованием столь масштабного события. К публикации работу одобрил лично Николай I.
Параллельно с историей Пугачёва Пушкин работал над авантюрным романом, который так и остался не завершённым, написанным, судя по черновикам, лишь на две трети. Его опубликовали уже после гибели писателя. За неимением авторского заглавия роман издали под названием «Дубровский», каким мы сейчас его и знаем. Роман не окончен, а потому сложно дать точную характеристику как самому Дубровскому, так и авторскому замыслу, закладываемому в этот образ, и всё же даже в таком незавершённом виде отчетливо прослеживается злободневность и новаторство, которые невозможно не считать со страниц «Дубровского».
В романе отчетливо прослеживаются две темы: бунта и мести. В «Дубровском» бунт возглавляет дворянин, потерявший всё, а крестьяне с привычной преданностью следуют за своим прежним помещиком, отказываясь признавать нового хозяина, который известен им как жестокий самодур. Конфликт в романе локальный, не выходящий за пределы одной губернии, но в итоге обернувшийся в довольно жестокое столкновение бунтовщиков с местной властью.
«Да это бунт!» – кричал исправник, когда крестьяне отказались признавать власть Троекурова, и был совершенно прав. Это бунт ущемленного народа против узурпаторов, именно поэтому так важен эпизод поджога Кистенёвки, имения Дубровского: кузнец Архип, вопреки приказу хозяина, закрывает приставов в доме, обрекая на страшную смерть, но спасает кошку, «божью тварь», сам при этом получая сильные ожоги. Этой сценой Пушкин утверждает мысль, что терпение русского народа, такого противоречивого, жестокого и милосердного одновременно, не безгранично. Бунт может вспыхнуть в любую минуту, и тогда крестьянский гнев усмирить будет очень сложно.
Но предводителем крестьян-разбойников, Владимиром Дубровским, движет отнюдь не несогласие с социальной системой, а поруганная честь и личная обида, то есть месть, в которой с христианской точки зрения нет ничего благородного и высоконравственного, и скорее всё сводится к стандартной варварской формуле «око за око, зуб за зуб». Придавая Дубровскому черты романтического образа Робина Гуда, Пушкин, тем не менее, противопоставляет этих героев. Английский благородный разбойник, хоть тоже по некоторым версиям считающийся «дворянином вне закона», всё же грабил богатых и раздавал деньги бедным из чувства справедливости. Владимира же в финальных сценах читатель видит в походном лагере, украшенном дорогими вещицами. В тексте говорится, что Дубровский проявлял великодушие, но не поясняется, какого рода было это великодушие и как оно проявлялось во время поджогов и разбойных нападений. Мстительность же главного героя вдруг сменяется смирением из-за любви к дочери врага, но вряд ли такие высокодуховные порывы могли оценить крестьяне, ушедшие в лес и создавшие под его предводительством разбойничью банду в надежде на восстановление справедливости.
Любовь заставила отказаться Владимира от плана мести. Искреннее чувство пробуждает в молодом страстном сердце чувства сострадания и жалости, вдруг напомнившие, что он в первую очередь христианин, а уже потом – оскорблённый разорившийся помещик. Эта как будто излишняя чувствительность типизирует Дубровского, делает его похожим на героев сентиментальных романов, которыми зачитывалась Маша Троекурова, но это лишь одна из составляющих образа молодого дворянина. В финале он довольно грубо прощается со своими крестьянами, которые ради него вступили на преступный путь. Дубровский жёстко заявляет им, что все они мошенники, и просто уходит, так и не поняв, во имя чего они взбунтовались.
Это недопонимание между благородными дворянами и простым народом стало камнем преткновения в момент восстания декабристов: движимые благородными целями и вознамерившиеся ограничить власть императора, молодые романтики-декабристы по-прежнему свысока смотрели на крестьян, которым так пламенно жаждали подарить свободу. И народ за ними не пошёл. А вот за Пугачёвым пошёл.
Название романа «Капитанская дочка» нелогично. При всей симпатии к Маше Мироновой, при всём внимании к её семье, всё же читатель понимает, что не её история выводится на первый план, хотя играет важную роль в сюжете. Это название – отвлекающий манёвр. Оно позволяет сместить фокус внимания с глобальных исторических событий на судьбы простых людей, чем смягчает восприятие текста и позволяет обойти цензуру, чтобы роман напечатали без существенных переработок. Капитанская дочка Маша Миронова, безусловно, милая девушка, воплощающая пушкинский идеал русской женщины, но далеко не её личность будоражит воображение автора.
Известно, что у романа было пять редакций. Пушкин выстраивал сюжет, потом его перерабатывал, выводил в главные герои то одного персонажа, то другого. Изначально в основу произведения лёг образ дворянина, перешедшего на сторону народа. Но чем больше Пушкин работал над текстом, тем больше убеждался в невозможности подобного союза, в неправильности его изображения с положительной точки зрения. В итоге получился роман о сложных, противоречивых отношениях дворянина Петра Гринёва и самозванца Емельяна Пугачёва, которые выстраивают серьёзный для Пушкина дискурс о связи власти и народа.
Пугачёв тоже изображается как романтический герой: внешность его то свирепа и страшна в своем бунтарском величии, то «черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого». Он запросто казнит непокорных, но способен и на невиданную милость к врагу, заявляя «казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай» только лишь потому, что когда-то молодой дворянин отблагодарил его за услугу и подарил заячий тулуп. Пугачёв велит петь его любимую песню о виселице, и её распевают казаки, обречённые на повешение. В яркой сцене застолья после взятия Белогорской крепости и жестокой расправы над её защитниками проявляется вся противоречивость бунтовщиков: они красивы, сильны, молоды, харизматичны, даже отчасти благородны и честны в своем праведном гневе за многовековое ущемление прав и свобод простого народа, но они же – убийцы, мародёры, насильники, прекрасно осознающие, что свою жизнь окончат на эшафоте.
Петр Гринёв выступает здесь даже не столько в роли главного героя, сколько в роли наблюдателя. Он – глаза и уши автора, его восприятие – это восприятие автора, а противоречивое отношение к Пугачёву и его шайке – это взгляд Пушкина на личность Пугачёва, страшную в своем распутстве, но прекрасную в свободолюбии. Среди бунтовщиков постоянно упоминаются не только казаки, но и крестьяне и местное население Сибири – казахи, башкирцы, татары, калмыки. Пушкин рисует широкую картину восстания, вспыхнувшего по причине множества социальных проблем; власть игнорировала эти проблемы, и в конце концов ей пришлось увидеть страшные последствия своей слепоты.
Все остальные образы и панорама исторических событий дана в чрезмерно реалистичном ключе: страшные казни, насилие, мародёрство, разграбленные города и крепости, зверски убитые люди. Стихия бунта вышла из-под контроля, превратившись в сплошной хаос, остановить который сам Пугачёв был не в состоянии.
«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»,– цитата, которая во многом отражает пушкинское представление о стихии русского бунта и исторических событиях, его породивших.Русский бунт бессмысленен, ибо не имел никакого плана, творился спонтанно и проистекал лишь из желания угнетённой части населения отомстить власть имущим, при этом не имея никакой достойной конечной цели, являясь лишь стихийным проявлением эмоций и выплеском агрессии. Русский бунт беспощаден, потому что, осуществляясь во имя мести, несёт лишь разрушение, ничего не создавая, никого не жалея. Пушкин не был против бунтов как таковых, но против того безрассудства и анархии, которые сопровождали восстание Пугачёва, потому что насилие и жестокость становятся нормой, обыденностью, забываются основополагающие нравственные ценности, такие как жалость, сострадание, милосердие.
Лучше всего разница мировоззрений дворянина и бунтовщиков видна в их реакции на калмыцкую сказку об орле и вороне. Пугачёв и его последователи считают, что они «напиваются кровью», не желая питаться мертвечиной, в то время как для Гринёва их разбой и насилие и есть мертвечина. Одинакового взгляда на притчу у людей, принадлежащих к разным сословиям, априори быть не может, но тем сильнее подчеркивается та пропасть и непонимание, которые существовали в России между властью и народом.
Конечно, исторические личности в романе – это не реальные люди, когда-то живущие и творящие историю. «Капитанская дочка» – это художественное переосмысление эпохи, на которую легла печать пушкинской современности. Именно поэтому так важны образы Петра и Маши. Они выходцы из разных социальных слоёв: Гринёв – потомственный дворянин, Маша – дочь бывшего солдата, выходца из крестьянской семьи. Они оба молоды, чисты, влюблены и искренни в своих помыслах. Первому благоволит народный царь, второй отдает дань уважения «природная» императрица. В этом завуалирована главная мысль Пушкина: если беречь честь смолоду, то судьба будет благоволить вне зависимости от происхождения, а значит, при всей разнице между дворянами и простым народом, все они – русские люди, и может быть, не такая уж и большая пропасть лежит между ними.
Татьяна Шипилова
Капитанская дочка
Береги честь смолоду.
Пословица
Глава I
Сержант гвардии
– Был бы гвардии он завтра ж капитан.
– Того не надобно: пусть в армии послужит.
– Изрядно сказано! Пускай его потужит…
.....................................................
Да кто его отец?
Княжнин1
Отец мой, Андрей Петрович Гринёв, в молодости своей служил при графе Минихе2 и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сёстры умерли во младенчестве. Матушка была ещё мною брюхата, как уже я был записан в Семёновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы, паче всякого чаяния, матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук3. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному4 Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки5. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В то время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу, – ворчал он про себя, – кажется, дитя умыт, причёсан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»
Бопре в отечестве своём был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel6, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, то есть (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причём учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать её винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочёл наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, – и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю.
Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошёл в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из неё змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошёл в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дёрнул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось моё воспитание.
Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.
Слово «недоросль» ассоциируется у современного читателя с образом ленивого, грубого, невежественного юноши Митрофана Простакова из пьесы «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Хотя само понятие довольно безобидно и означает лишь молодого человека, ещё не достигшего совершеннолетия, не окончившего образования и не поступившего на службу. Пушкин о пьесе отзывался как о «единственном памятнике народной сатиры», поэтому не мог не понимать, какой рисует характер своему персонажу, называя его недорослем. Но важно, что так себя называет сам Петя Гринёв, тем искреннее становится его отношение к себе: он самокритичен, не склонен к самолюбованию и очень четко понимает собственные пороки.
Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь7, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он её без особенного участия, и чтение это производило в нём всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!..8 А давно ли мы…» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.
Вдруг он обратился к матушке:
– Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?
– Да вот пошёл семнадцатый годок, – отвечала матушка. – Петруша родился в тот самый год, как окривела тётушка Настасья Гарасимовна, и когда ещё…
– Добро, – прервал батюшка, – пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни.
Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку и слёзы потекли по её лицу. Напротив того, трудно описать моё восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.
Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.
– Не забудь, Андрей Петрович, – сказала матушка, – поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.
– Что за вздор! – отвечал батюшка нахмурясь. – К какой стати стану я писать к князю Б.?
– Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?
– Ну, а там что?
– Да ведь начальник Петрушин – князь Б. Ведь Петруша записан в Семёновский полк.
–Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон9. Записан в гвардии! Где его пашпорт? Подай его сюда.
Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в её шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочёл его со вниманием, положил перед собою на стол и начал своё письмо.
Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».
Наставления батюшки, данные как будто между делом, тем не менее становятся ключевыми для Петра Гринёва и определят в дальнейшем весь его жизненный путь. Береги честь, храни собственное достоинство, не унижайся, служи, но не прислуживайся – таков кодекс воспитания детей, которому следовали благородные, достойные дворяне.
Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо весёлой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в неё чемодан, погребец10 с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Пётр. Служи верно, кому присягнёшь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь моё здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.
В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошёл бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными чёрными усами, в халате, с киём в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркёром11, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четвереньках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четвереньках становились чаще, пока наконец маркёр остался под биллиардом. Барин произнёс над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странно. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку12 и находится в Симбирске при приёме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем Бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, – говорит он, – необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придёшь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдёшь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убеждён и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлёбывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркёра, который считал Бог ведает как, час от часу умножал игру, словом – вёл себя, как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».
Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвёз меня в трактир.
Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? – сказал он жалким голосом, – где ты это нагрузился? Ахти Господи! отроду такого греха не бывало!» – «Молчи, хрыч! – отвечал я ему запинаясь, – ты, верно, пьян, пошёл спать… и уложи меня».
На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Пётр Андреич,– сказал он мне, качая головою,– рано начинаешь гулять. И в кого ты пошёл? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при13, водкю“. Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»
Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Пётр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен… Выпей-ка огуречного рассолу с мёдом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»
В это время мальчик вошёл и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул её и прочёл следующие строки:
«Любезный Пётр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.
Готовый ко услугамИван Зурин».
Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который были денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» – спросил изумлённый Савельич. «Я их ему должен», – отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен! – возразил Савельич, час от часу приведённый в большее изумление, – да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».