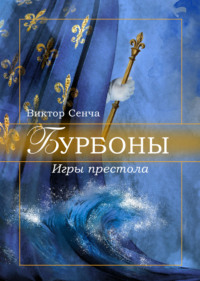Read the book: «Бурбоны. Игры престола», page 3
«Король выбрал меня, – вспоминал д’Артаньян, – из ста тысяч других, кто были более заметны, чем я, для осуществления важного удара, о каком он походя замолвил мне словечко, тем не менее, не уточнив, что же это было такое…» 46
Сам же Людовик XIV в письме матери (Анне Австрийской) писал: «Этим утром суперинтендант, как обычно, явился ко мне для совместной работы, я беседовал с ним то об одном, то о другом, делая вид, что ищу какие-то бумаги, пока не увидел в окно моего кабинета д’Артаньяна во дворе замка, – тогда я отпустил суперинтенданта… Около полудня д’Артаньян перехватил его на соборной площади и арестовал от моего имени» 47.
12 сентября в Фонтенбло было официально объявлено о ликвидации сюринтендантства. Его заменили Королевским советом финансов из пяти членов. Adieu, зарвавшийся сюринтендант!
А потом состоялся суд. Король не зря опасался парламентариев и судей, считая их поголовно продажными. Так и оказалось. Фуке обвинили в растрате (служебной недобросовестности), а также в оскорблении Его Величества – за строительство укрепления Бель-Иль без королевского разрешения. Из 22 судей больше половины проголосовали против решения короля (Людовик требовал для Фуке смертной казни), высказавшись за ссылку опального чинуши. В ссылку так в ссылку. Николя Фуке после недолгого пребывания в Бастилии отправят в бессрочную ссылку в крепость Пинероль (в Альпах, на франко-итальянской границе, близ Турина). Сбежать оттуда было невозможно.
Д’Артаньян: «Все родственники месье Фуке разделили участь его опалы, точно так же, как и некоторые из его друзей. Месье де Бетюн, сын графа де Шаро, капитана телохранителей, кто женился на дочери от его первой жены, был сослан вместе с ней. Братья заключенного обрели тот же жребий, что и месье де Бетюн; аббат Фуке не составил исключения, как и архиепископ Нарбонны, епископ Агды и шталмейстер короля, хотя именно он был обвинителем собственного брата… Шталмейстер захотел было увезти свою жену вместе с собой в изгнание, но она не пожелала туда ехать…» 48
Николя Фуке скончается в неволе в марте 1680 года. Его великолепный дворец и все владения будут конфискованы в пользу короны. Неплохой эпитафией г-ну Фуке мог бы стать великолепный афоризм Дон Аминадо: бухгалтерия двойная, а камера одиночная.
Отныне во Франции самый ослепительный свет должен был исходить исключительно от блеска величия короля. Монарх – ярчайшая звезда на небесном своде. И французы обязаны знать: Солнце на небе – одно-единственное. Nec pluribus impar! 49
* * *
Начав с Фуке, король продолжил разрушать весь предыдущий механизм, созданный до него Мазарини. Всех вместе и каждого в отдельности – Конде, Бофора, Барте и даже Ларошфуко – всех к ногтю! Монархия должна быть нерушимой, при строжайшей иерархии. Иначе – хаос, анархия, бардак.
Вот и Высший совет – разогнать! С глаз долой!
Однако в нужный момент горячему Людовику подсказали (возможно, опять мудрая матушка): а вот этого, Сир, делать не следовало бы – не лучше ли реорганизовать?
– Что?! – не сразу понял король. – Реорганизовать?..
Ну да, «подчистить», так сказать, уклончиво намекнули монарху.
Реорганизация. Ну, это другое дело. Чтоб внимали и слушали. И чтоб не мешали управлять. Перед очами монарха должны быть все как один верные, молчаливые и исполнительные. Именно для этого крикливую братию следовало «реорганизовать». Самые зануды – родовитые (порой далеко не умные) дворяне с длиннющей родословной. Они-то и наиболее говорливые. Убрать! Да, и никаких кардиналов! Хватит, эти «святоши» слишком падки до власти: им палец в рот – откусят не руку – голову!..
Вскоре вышел указ, согласно которому в Высший совет отныне не входили лица по праву рождения. Даже королева-мать оказалась не у дел. Там, в Высшем совете, должны быть те, кто нужен, а не «болтуны». И такие появились, став своеобразным «законодательным щитом» молодого короля: Мишель Летелье (военный министр), Жан-Батист Кольбер и Юг де Лионн (госсекретарь по иностранным делам). Преданные королю люди, для которых находиться в тени короля и выполнять его волю являлось жизненной необходимостью. Каждый из них уже успел проявить себя на практике грамотным «государственником».
Вообще, эти трое явились блестящими исполнителями монаршей воли. А королю (как он считал сам) требовалось не так уж и много: абсолютная власть, стабильность в государстве и на её границах, а также финансовая независимость. Три кита, оседлав которые, он мог стать самым влиятельным европейским монархом.
И Людовик старался. Работая по шесть часов в сутки, он многого добился. Король вникал во все государственные дела и лично подписывал ордонансы 50 (сохранённые документы подтверждают это), пусть даже если речь шла о незначительных расходах.
И никак нельзя согласиться с Сен-Симоном, который пишет о Людовике как о человеке с «умом ниже среднего». Луи XIV был очень избалован, это – да! Но, получивший хорошее образование и имевший дело опять же с образованными людьми, он совсем не походил на недоросля с куриными мозгами. Другое дело, что король с юных лет относился к собственной персоне крайне трепетно, пресекая любые попытки усомниться в своём божественном предназначении. Он с лёгкостью мог поддержать любой светский разговор и даже пошутить; обожал беседовать с хорошенькими женщинами и умными дамами, плетя при этом тонкое словесное кружево, стараясь выглядеть крайне остроумным.
Правда, у Людовика XIV при общении с царедворцами имелась одна «ахиллесова пята»: король обожал лесть. Даже грубая и неуклюжая, она вызывала в его сердце восторг. И окружающие, зная об этом, довольно часто пользовались слабостью монарха, желая добиться всякого рода преференций. Людовик льстецов никогда не одёргивал: монарх был уверен, что они, льстецы, говорили вслух то, о чём боялись сказать другие. Разве не так, что король Франции может сравниться только… с небесным светилом?!
За десять лет (с 1661 по 1671 год) доходы Людовика XIV удвоились, а поступления в казну (с 1662 г.) превосходили расходы 51. С 1665 года Жан-Батист Кольбер становится фактическим главой правительства и единовластным контролёром финансов королевства. Франция метила на мировое господство.
* * *
Свою первую большую войну Людовик XIV предпринял в 1665 году, сразу после смерти испанского короля Филиппа IV, который в первом браке был женат на Изабелле Бурбонской – дочери французского монарха Генриха IV и Марии Медичи. Изабелла являлась Людовику XIV тёщей, то есть матерью (на самом деле – мачехой) жены, Марии Терезии Испанской. Сводный брат последней, четырёхлетний дофин (являлся сыном Филлиппа IV и его второй жены, Марианны Австрийской), должен был наследовать испанский престол под именем Карлоса II. Ссылаясь на право «преимущества по старшинству», Людовик потребовал от Испании часть территориального наследства.
После того как испанцы упёрлись, в мае 1667 года войска маршала Тюренна вторглись во Фландрию (Испанские Нидерланды). Так началась деволюционная война: война за испанское наследство.
Перед тем как начать военную кампанию, король решил провести маневры и учения, после чего организовать смотр войскам. Для этого Людовик на нескольких каретах прибыл в расположение частей лично. Правда, не один, а с целой кавалькадой придворных, лакеев и, конечно, прелестных дам.
Вот как это описала мадам де Шатрие (из рода Конде):
«Передо мной открылась широкая равнина с симметрично расположенными палатками. Зайдя в палатку короля, я увидела, что она состояла из трех просторных помещений: одной спальни и двух богато убранных туалетных комнат. На обитой китайским атласом мебели сидели дамы с такими приятными лицами, что скорее могли бы привлечь неприятеля, чем его устрашить. Рядом с Его Величеством находились королева, мадемуазель де Лавальер, мадам де Монтеспан, мадам де Рувр и принцесса де Аркур, которые днем укрывались от жары в палатке. На обед им подавали блюда, которые отнюдь не были приготовлены на скромной полевой кухне. Вечером же дамы садились вместе с Его Величеством на лошадей и объезжали стрелявших из мушкетов воинов, выстрелы которых не могли никому причинить вреда» 52.
Первая кампания окончилась в 1668 году; за Людовиком XIV осталось нескольких крепостей. «По условиям ахенского трактата [2 мая 1668 г. – С. В.], — отмечает А. Тьер, – Франция возвратила Франш-Конте, но оставила себе Фландрию, которую Вобан укрепил» 53.
Людовик, воодушевившись боевыми победами французов, решил лично поддержать своих солдат. Он выехал в действующую армию, предполагая, что чуть ли не сам поведёт храбрецов в бой. Такое поведение монарха возмутило его военачальников. Появление короля в траншеях, хоть и вызывало восторг среди солдат, однако мешало общему делу, так как королевский белый конь и его всадник с белым плюмажем на голове являлись серьёзным демаскирующим фактором. Завидев вражеского короля, противник начинал обстреливать французские позиции из всех орудий, намереваясь пойти в атаку и взять «наглеца» в плен. От осколков ядер и пуль гибли его славные пажи, но короля, казалось, это совсем не трогало.
«Действительно, – пишет Э. Дешодт, – один из его пажей был убит рядом с ним под Турне, а другой – в Лилле, в двух шагах от него. После этого он перестал подражать Генриху IV, не преминув, однако, заявить солдатам: «Раз вы хотите, чтобы я берёг себя для вас, я хочу, чтобы вы берегли себя для меня»…» 54
Спору нет, герой. Хотя излишнее геройство не всегда полезно.
Через четыре года боевые действия возобновились. Война привлекла другие государства, пожелавшие снять пенку в чужом споре. В первую очередь – Соединённые провинции Нидерландов (Голландию) и Англию. Голландцы подтянули на помощь шведов и немецких князей. И это при том, что Карлос II согласился на нейтралитет. Когда в период второй кампании (1672–1679 гг.) французы едва не взяли Амстердам, противник, открыв шлюзы, предпочёл затопить собственные территории.
Настоящим героем показал себя брат французского короля герцог Орлеанский. Отважный вояка, он бил врага так, что голландцы, едва заслышав его имя, начинали пятиться. В один из эпизодов той войны за три недели герцог захватил более сорока городов!
Адольф Тьер: «Людовик XIV был раздражен против Голландии, он не мог не чувствовать антипатии к этой цветущей республике, не уступавшей ему в гордости. Он собрал против нее двести тысяч войска… и сам отправился в поход с Тюренном, Конде и Люксембургом, с помощью которых он совершил знаменитый переезд через Рейн, прославляемый как чудо военного искусства в то время, когда, не стесняясь, сравнивали с Цезарем короля, ездившего на войну в карете, со всем придворным штатом. Вторгнувшись в Голландию, Людовик предложил ей убийственные условия. Отчаяние породило геройство, и Рюйтер, знаменитый голландский адмирал, одержал несколько побед над английским и французским флотами. Голландцы затопили свою землю, чтоб сохранить свободу (1673 г.), и Людовик XIV вынужден был уйти из неё. Он снова завоевал Франш-Конте и приказал Тюренну опустошить Пфальц. Конде сражался с голландским штатгальтером при Сенефе (1678 г.), но единственным результатом этой битвы стало убиение 25 тысяч человек. Дюкен [адмирал. – С. В.] прославил французский флот тремя победами на Средиземном море, и Неймегенский мир утвердил за Францией ее завоевания.
Скоро, однако, штатгальтер [принц Оранский. – С. В.] пытается вторгнуться во французские владения; маршал Люксембург отбивает его атаку. В 1681 г. Страсбург взят. Король посылает бомбардировать Алжир, чтобы научить пиратов уважению к французской торговле. По его приказанию начали бомбардировать и Геную – за то, что эта республика помогала Алжиру. Он был на вершине могущества. Ни одному королю не курилось столько фимиама…» 55
Война затягивалась. Англичане оказались верны себе: сначала воевали вместе с французами против голландцев, потом наоборот – с голландцами против французов.
А в Голландии к власти приходит правитель с диктаторскими замашками Вильгельм Оранский, ненавидящий Францию и её королей. В 1677 году происходит то, чего очень боялись в Париже: Мария, племянница английского короля Карла II (дочь его брата Джеймса Стюарта, будущего короля Якова II), согласилась выйти замуж за своего кузена, Вильгельма Оранского.
Людовику XIV ничего не оставалось, как в 1678 году заключить мир, по которому к Франции отошли лишь часть Фландрии и Франш-Конте. (Страсбург и некоторые другие города будут аннексированы позднее.)
* * *
За прошедшие годы Людовик укрепил государственное управление (подчинив его полностью себе), налоговую и финансовую системы, армию и даже флот. Почему «даже флот»? Потому что к 1661 году от военного флота у Франции почти ничего не осталось; даже если что-то и плавало-бултыхалось, то Мазарини свёл всё это на нет. Несколько старых и прогнивших линейных кораблей и галер – не в счёт. Восстановить его взялся всё тот же энергичный Кольбер, затребовавший для этого дела немалых денег.
Инспектор финансов прямо намекал королю, где можно сэкономить: «Я умоляю Ваше Величество разрешить мне заметить Вашему Величеству, что и в мирное, и в военное время Ваше Величество никогда не интересовались состоянием финансов для определения своих расходов… Надо экономить даже гроши на вещах, которые не являются необходимыми. Среди прочего я сообщаю Вашему Величеству, что ненужный обед в две тысячи франков причиняет мне крайнее огорчение…» 56
Монарх поддержал начинание своего финансиста. Уже через десять лет французский боевой флот насчитывал 194 военных корабля, из которых 119 – линейные, 22 – фрегата 57. К концу века флот Франции уже превышал военно-морские силы Британии и Соединённых провинций.
Но не только Кольбер ратовал за укрепление обороноспособности государства. Отец и сын Летелье приняли в этом самое непосредственное участие. Началось с военного министра Мишеля Летелье, оказавшемся большим реформатором.
«Летелье всегда был вежлив и честен, – пишет А. Дюма, – а имея ум быстрый и вкрадчивый, говорил всегда с такой скромностью, что его полагали во всём более сведущим, чем это было на самом деле. Смелый и предприимчивый в государственных делах, твёрдый в исполнении задуманного и неспособный поддаваться страстям, которые всегда мог обуздать, он был верен в житейских отношениях, много обещал, хотя мало делал, и никогда не пренебрегал своими врагами, как бы ничтожны они ни были, а всегда старался поразить их скрытно».
После того как в 1677 году король назначил Летелье-старшего канцлером и хранителем печати, его место госсекретаря по военным делам (военного министра) занял сын – Франсуа-Мишель, маркиз де Лувуа. Будучи необычайно энергичен, он стоял у истоков создания регулярной французской армии 58. Лувуа при поддержке отца удалось провести в армии самую что ни на есть революционную реформу. Достаточно сказать, что новый военный министр навсегда покончил с так называемыми «полками-призраками».
Дело в том, что до этого воинские части находились в полном распоряжении своих командиров, которые лично набирали солдат, платили им жалованье, содержали и т. д. Обо всём этом докладывалось рапортами вышестоящему начальству. Но одно написать в рапорте, совсем другое – реальное состояние дел. Скажем, если в докладе личного состава числится тысяча человек, на самом же деле могло быть в два, а то и в три раза меньше. В этом и заключался фокус. Даже на «полк-призрак» из казны отпускались деньги, причём немалые. Само собой разумеется, в военное время подобные фокусы редко удавались, зато в мирное – на раз-два. И с этим «раз-два» было покончено.
Сформировав корпус офицеров, Лувуа создал для них Табель о рангах с учётом выслуги лет. Отныне армия формировалась на добровольных началах (со сроком службы в 4 года). Солдатами командовали боевые офицеры. Была введена новая военная форма и вооружение. Так, после появления в войсках штыка Вобана 59 (1667 г.) копейщиков упразднили за ненадобностью. Кавалерию вооружили карабинами. Была организована служба армейских интендантов. Появились бомбардиры, канониры и гвардейские полки. Ставка делалась на железную дисциплину.
Современник вспоминал: «Не было ни одного сколько-нибудь значительного офицера французской армии, достоинства и пороки которого не были бы известны до последней мелочи военному министру… Не так давно в вещах одной девушки, которая служила горничной в крупнейшей гостинице Меца и там же умерла, было найдено несколько писем от военного министра, из которых явствует, что она обязана была осведомлять его обо всем происходящем в гостинице. За это министр регулярно платил ей жалованье» 60.
Правда, во всём этом имелся один недостаток: маркиз Лувуа, как застоявшийся конь, рвался в бой. И это короля сильно раздражало. Людовику было достаточно сильной армии без всякой войны – тем более такой, какой оказалась война за испанское наследство.
* * *
А в Европе по-прежнему неспокойно. Брак Марии Английской с голландским герцогом Оранским для Франции не мог пройти безболезненно. Мина замедленного действия рано или поздно должна была активизироваться. Так и случилось.
В 1688 году в Англии грянула «Славная революция» – государственный переворот вигов-протестантов, в результате которого был свергнут законный король-католик Яков II Стюарт. «Революция» произошла не без участия голландского экспедиционного корпуса, выполнявшем распоряжения правителя Нидерландов Вильгельма Оранского. Он же стал и новым королём Англии под именем Вильгельма III (при совместном правлении с женой – Марией II Стюарт, дочерью Якова II).
Произошло своеобразное если не объединение двух государств, то уж точно – крепчайший союз. И первым врагом этого Союза становится, разумеется, Франция. Однако Англия не была бы Англией, если б не стравила против Людовика других – Испанию, Швецию, Священную Римскую империю 61. Коалиция, получившая название Аугсбургской лиги, была нацелена исключительно на изгнание французов отовсюду, где бы они ни находились, и даже – из их заокеанских владений. То есть – для исполнения извечной мечты всех соседей: лишить Францию статуса морской, колониальной и, если получится, то и сухопутной державы.
К слову, проблемы французского флота начались сразу после того, как пришлось вести боевые действия одновременно в Средиземном море и в океане. После смерти главного куратора флота Кольбера морских побед становилось всё меньше, впрочем, как и кораблей.
В 1690 году командование французской армией во Фландрии было возложено на герцога Люксембургского, который оказался неплохим полководцем. 1 июля под Флерюсом он наголову разбил армию принца Вальдека. Продолжением общего наступления можно считать и громкую победу флота под командованием адмирала Турвиля, который 10 июля потопил и рассеял у мыса Бичи-Хед в Ла-Манше объединённый англо-голландский флот, нанеся ему существенный урон.
Но именно это поражение заставило противника собраться. В мае 1692 года у мыса Ла Хог под Шербуром английскими эскадрами Рассела и Делаваля было уничтожено 15 французских кораблей; потери адмирала Турвиля составили 1 700 человек убитыми и ранеными.
Учитывая положение дел на театре военных действий, Людовик был вынужден пойти на уступки. В октябре 1697 года был подписан Рисвикский договор, который должен был принести Франции долгожданный мир.
Однако вновь происходит непредвиденное. В 1700 году скончался, не оставив наследства, слабоумный король Испании Карлос II. Европа вздрагивает от нервного трепета: кто наследует испанский трон? Больше всех волнуются в Париже: не отдавать же такой жирный пирог австрийцам! И тогда Людовик идёт на компромисс, соглашаясь, чтобы трон остался за курфюрстом Баварским.
И тут случается ещё более неожиданное: курфюрст Баварский (которому было всего девять лет) умирает. После этого претендентов на испанский трон остаётся всего двое: французский принц и австрийский эрцгерцог. В воздухе вновь запахло грозой. Переговоры ведут Людовик XIV и Вильгельм III (герцог Оранский). Оба готовы расчленить Испанию надвое, лишь бы не уступить её целиком недругу. Казалось, война неизбежна.
Но! Для испанцев смерть монарха также грозит серьёзными последствиями. Понимая это, они добиваются у умирающего короля подписать завещание в пользу 17-летнего герцога Анжуйского, одного из внуков Людовика XIV. И это полностью меняет дело. В том завещании имелось два важных условия. Во-первых, испанская и французская короны не должны были соединиться в одних руках. А во-вторых, Филипп был обязан жениться на австрийской принцессе. Ну а австрийский эрцгерцог мог претендовать на испанский трон лишь в случае отказа от него герцога Анжуйского (также и герцога Беррийского). В результате на испанском троне оказывается французский герцог Анжуйский, ставший королём Филлипом V.
Жорж Ленотр: «Поскольку он был младшим и ему нигде не предстояло царствовать, на его образование не слишком нажимали. Он так и остался скромным, малозаметным, ленивым и чувствительным мальчиком. Больше всего он любил охоту и меньше всего – публичные церемонии и торжества. И вот неожиданно он становится ровней своему обожаемому дедушке. Он должен теперь называть его в письмах «господин, мой брат». Отныне все и повсюду будут обращаться к нему «Ваше Величество», поскольку король уже приказал воздавать ему те же почести, что и самому себе. Какая ужасная доля! Несчастный мальчик!..» 62
Ну а Вильгельм III пребывает в ярости! Он начинает закулисные интриги с императором Священной Римской империи. Однако Людовик, прознав об этом, не остаётся в долгу, тут же признав английским королём… Якова III Стюарта, находившегося в изгнании.
* * *
К личности герцога Анжуйского, «неожиданно» ставшего испанским королём, исследователи относятся по-разному. Кто-то, не стесняясь, называет его «счастливчиком»; кто-то – неудачником. Хотя на самом деле в жизни этого принца было то и другое.
Начнём с того, что в те годы оказаться французу в Испании – однозначно попасть на два века назад. Именно настолько жизнь где-нибудь в Кастилии или Андалусии отличалась от французской; ну а разудалый Париж времён Людовика XIV не шёл ни в какое сравнение с чопорным Мадридом. Потому-то попавший прямо из Версаля в испанскую столицу герцог Анжуйский почувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Там, на французской территории, остались сто двадцать телохранителей и девятьсот гвардейских офицеров, сопровождавших принца до испанской границы. И вот Филипп один. Вернее – один на один с чужими людьми. Надо сказать, испанцы постарались встретить своего будущего короля со всеми приличествующими данному обстоятельству правилами местного этикета. То есть – по высшему разряду.
Филипп едет по улицам Мадрида в стеклянной карете, в окружении монахов со свечами в руках, распевающих псалмы. Вокруг (там, за стеклянными окнами) снуют какие-то весёлые люди… они танцуют, ликуют и поют… Принц почти не знает местного языка, а потому ничего не понимает, ему страшно. Эти узкие, грязные, неубранные улочки Мадрида – о, от них можно сойти с ума!..
Бедный Филипп, он в тоске и отчаянии! Герцог Анжуйский никак не может привыкнуть, что, став королём Испании, Индии и обеих Сицилий, отныне он не принадлежит себе. Французского принца облачают в какой-то тёмный балахон (чем не монашеская сутана?!), а вокруг шеи обвивают тесный воротник (golille), который якобы должен подчёркивать его особую величественность.
И ладно бы только это! Ведь если хорошо отобедать – можно ненадолго забыться в сладком сне и отдыхе. Но где там! Оказалось, что в Мадриде с едой было так же плохо, как и с развлечениями. Испанская кухня была хуже некуда. Из овощей – всюду горький лук, сдобренный большим количеством пряностей; а из еды – рыба, моллюски и раки. Мясо же в Испании по большим праздникам, ибо пост, как считают местные, лучшее средство для духовного очищения и избавления от телесных соблазнов. Так что и курица в Мадриде за деликатес! Да и эту курицу ещё следовало знать, чем запить. Вин в Испании оказалось предостаточно, правда, имелось одно обстоятельство: эти мрачные полумонахи с набожными глазами травили друг друга с яростью остервенелых колдунов. Выпил бокал винца – и поминай как звали! А вслед – и самого отравителя. И так по нескончаемому испанскому кругу…
Филипп впал в депрессию. Местные заволновались: того гляди, вслед за Карлосом не станет и француза. А это себе дороже… Жена! Филиппа следует женить! Кто сможет привести в чувство молодого короля, придав ему силы и уверенности в себе, если не женщина?! Первой об этом заговорила княгиня Мария-Анна де Тремуй, вдова итальянского князя Флавио Орсини. А уж вдовушка прекрасно разбиралась в сердечных делах высшей знати. И тут же доставила из Италии Марию Луизу Савойскую, принцессу Урсинскую, тринадцатилетнюю девочку.
Тогда-то и случилось чудо, о котором вскоре заговорила вся Испания: молодой испанский король и итальянская принцесса очень понравились друг другу. Озорной ребёнок, Мария Луиза быстро вернула Филиппу задорный смех, отличное настроение и уверенность в себе. Им было хорошо вдвоём; казалось, эти подростки были созданы для обоюдной любви и счастья семейной жизни. Так и жили – «poco a poco» 63.
Правда, жизнь отравлял… испанский трон. Мария Луиза категорически отказалась носить здешний фартук (tonsillo), прикрывавший дамские ступни, и платья с длинным шлейфом. Ещё хуже, чем на Филиппа, подействовала на девушку отвратительная местная кухня: её просто воротило от вида испанской пищи.
– Не могу! Надоело! – хныкала принцесса, отворачиваясь от рыбы с луком, обильно сдобренной шафраном. – Хочу макарони… Мамочка, возьми меня домой…
И когда молоденькая жена начинала плакать, уже Филипп ласково успокаивал её, поглаживая шелковистые мягкие волосы… Не будь рядом заботливого мужа, этой женщине-ребёнку было бы намного тяжелее переносить жизнь на чужбине. Тем более что Филипп старался искренне помочь.
«Король пожаловался в Версаль — отмечает Ж. Ленотр. – Дедушка вмешался. Все легко уладилось, потому что молоденькие супруги были влюблены. Чувствуя враждебность окружения, они искали уединения… За любой помощью всегда обращались в Версаль к августейшему родственнику. Ответные письма дедушки сохранились. Они необычайно трогательны: его пространные рассуждения на разные темы – политические и сердечные – исполнены необычайного дружелюбия и нежности; в их интонации слышится живой голос любящего деда, полного участия и стремления помочь. Он никогда не ворчит, никогда не упрекает, он лишь советует, подбадривает, и так мило, так деликатно!» 64
Ох, уж эти молодожёны…
* * *
Война требовала больших расходов. Государственный бюджет Франции трещал по швам! Людовику XIV приходилось идти на беспрецедентные меры: чеканить луидоры с меньшим содержанием в них золота, при этом обозначать на них ту же номинальную стоимость. По сути – заниматься государственным подлогом. Кончилось полной девальвацией луидора. (Несчастный Кольбер, он умер вовремя.)
Казна истощилась настолько, что сам король был вынужден переплавлять свою серебряную мебель и золотую посуду. Дошло до того, что Людовик предложил переплавить даже его дорогой трон. До неминуемого банкротства казны оставалось буквально пара шагов, когда (о, чудо!) в Ла-Рошель прибыла эскадра адмирала де Шабера, доставившая из испанской Америки 30 миллионов пиастров! Для Франции это оказалось спасением…
Противостояние Франции с англичанами и голландцами закончилось лишь перед смертью Людовика XIV, в 1714 году. Потери с обеих сторон были огромны. Несмотря на то что удача благоприятствовала неприятелю, требования англичан оказались настолько несоразмеримы с реальным положением дел (британцы мечтали стравить Людовика с собственным внуком), что французам пришлось отчаянно сопротивляться.
Джонатан Свифт писал: «После битвы у Рамийи французы были так подавлены своими потерями и так жаждали обрести мир, что их король решил подписать мирный договор на любых разумных условиях. Но когда его подданные узнали о наших непомерных требованиях, они вспомнили о своем достоинстве и единодушно решили помочь своему королю продолжать войну любой ценой, вместо того чтобы покориться…» 65
После того как в 1711 году скончался император Священной Римской империи Иосиф I, Англия неожиданно согласилась замириться. В 1713 году был заключён Утрехтский мирный договор. Но война продолжалась ещё год, окончательно завершившись лишь в марте 1714 года подписанием Раштадтского мира. Французы уходили из Бельгии, но оставляли за собой Эльзас и Страсбург. Новый император Священной Римской империи Карл VI отказывался от Испании, зато в качестве компенсации получал Нидерланды, Неаполь, Сардинию и Тоскану.
Больше всех из этого противостояния выиграла Англия: она становилась «владычицей морей». Но и на суше эстафетная палочка европейского лидерства ими была дерзко вырвана из рук растерявшегося Людовика…
* * *
К концу суматошного XVII века Франция сформировалась в мощное централизованное государство, во главе которого стоял сильный король, обладавший абсолютной властью. Управляя подданными уверенно и бесцеремонно, Людовик XIV был амбициозен и могущественен. Период его правления назовут «веком абсолютизма», который уже после смерти Великого короля растянется почти на полтора столетия.
Как писала о «короле-солнце» г-жа де Севинье 66, «самое надёжное – чтить его и бояться его, и не говорить о нём иначе как с восхищением» 67.
Ошибочно было бы думать, что абсолютная власть в годы Людовика XIV – это полностью узурпированное королём управление государством, этакий бескровный захват власти, когда монарх всё подмял под себя. Не согласимся: не всё, и не только под себя. Но многое. Впрочем, ровно столько, чтобы не скатиться в некую тиранию или деспотию времён Навуходоносора Второго или Ирода Великого. От безграничного произвола власти Людовику всё-таки удалось удержаться, вследствие чего до полного бесправия народа не дошло.
Действительно, Генеральные штаты (États Généraux), высшее совещательное учреждение страны с тремя сословиями (духовенство, дворянство и горожане – ремесленники, крестьяне, купцы), когда-то созываемые королём для обсуждения важных вопросов, – так вот, при Людовике XIV их значение сошло на нет. Король Луи свёл решение главных вопросов на заседаниях Высшего («Conseil d’en haut»), или Государственного совета («Conseil d’État»). Людовик XIV, как уже говорилось, реорганизовав совет, существенно сузил его членство (даже дофин не мог присутствовать на его заседаниях без особого приглашения). Вот и министры оказались некими служащими то ли государства, то ли короля. За пятьдесят четыре года единоличного правления Людовик сменил только министров – семнадцать.
The free sample has ended.