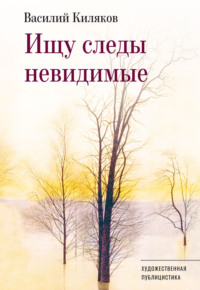Read the book: «Ищу следы невидимые»
© Киляков В.В., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
Благословенно всё доброе на земле,
всё сострадающее и милосердное…
…Перерабатывать эмоциональность —
в духовность, в духовные глубины.
М.П. Лобанов
В книге В.В. Килякова «Ищу следы невидимые…» использованы материалы из литературного наследия Михаила Петровича Лобанова – писателя, фронтовика, бессменного – более 50-ти лет! – руководителя творческого семинара прозы, профессора Литературного института А.М. Горького (единственного – за всю 90-летнюю историю вуза – руководителя полувекового семинара-долгожителя). Документальные материалы, свидетельства из его архива подготовлены к печати Т.Н. Окуловой, вдовой М.П. Лобанова, хранителем его рукописей, верной соратницей и помощницей в трудах, кандидатом исторических наук, ст. научным сотрудником ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, членом СП России. Автор сердечно благодарит Татьяну Николаевну за её историко-культурную лепту в создание этой художественно-публицистической книги.
Об авторе
Василий Васильевич Киляков родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал дежурным электриком, мастером на заводе «почтовый ящик» в г. Электросталь, служил в армии (г. Киев, Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище), фельдъегерем по спецпоручениям Главного центра спецсвязи (Москва), затем: начальник отдела Главного Центра Спецсвязи; личная охрана, Росгвардия.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1996 году (мастерская М.П. Лобанова).
Член Союза писателей России с 1996 года. Живет в городе Электросталь Московской области.
Публиковался в журналах: «Литературная учёба», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Роман-газета», «Новый мир», «Берега», «День и ночь», «Гостиный Дворъ», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Подъём», «Юность», «Волга-21», «Немига литературная» (Беларусь), «Простор» (Казахстан) и других изданиях. В газетах: «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», на сайтах: «Русская народная линия», «Российский писатель», «МолОко», «Literra»…
Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), им. Б.Н. Полевого (1996), «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992), отмечен за книгу «Посылка из Америки» – в номинации «Лучшая проза на русском языке 2019 года в Германии» на Германском международном конкурсе русскоязычных авторов «Лучшая книга года» и др.
В 2019 году вошёл в короткий список «Чистая книга» конкурса им. Ф.А. Абрамова, в короткий список премии им. В.Г. Распутина. Обладатель «Бронзового Витязя» (2019) Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского Совета Русской Православной Церкви (2019). Лауреат премии журнала «Наш современник» 2020 года. В 2022 году вновь признан одним из лучших авторов, удостоен премии «Нашего современника». Лауреат Международной премии «Югра» (2020), Всесоюзной премии имени Н.С. Лескова (2021). За поэтическую книгу «От истока к устью» награждён Всесоюзной премией им. В.Т. Станцева (2021). В октябре 2022 года удостоен звания «Лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени С.А. Есенина» Союза Писателей России, «Филофеевской премии». Состоит в жюри конкурсов премий: имени Ф.М. Достоевского, «Мiр Слова», «Просвещение через книгу», Международного литературного форума «Золотой Витязь» (проза).
Красота и неподкупная правда
Для русского писателя всегда было важно ощутить контуры современной ему реальности, уловить и обозначить её чувственное восприятие, не только понять смысл событий и поступков, но и ухватить содержание самой этой эпохи, внутри которой довелось дышать и жить художнику и его народу. Каждый повествователь и литературный мыслитель по-своему считывает открывающиеся ему знаки и письмена, но почти всегда они включают в себя молекулы подлинной жизни, пусть даже автор будет во многом тенденциозен. Однако его первичные впечатления и умозаключения наверняка хранят под собой вполне достоверную основу, хотя бы она и имела малый вес и плохую наглядность для иного стороннего человека. Всё дело в существенных опорных точках реальной жизни, в её главнейших постулатах и привычках. Вот почему тот автор, взгляд которого упал на узловые предметы и явления времени, становится писателем выдающимся, вне зависимости от того, о радостном или о трагическом повествуют его литературные страницы.
Василий Киляков – писатель, примечательный, в первую очередь, своей интонацией. Его сюжеты и персонажи отличаются ни на что не похожей «вживлённостью» в окружающий их мир: в деревне – это мир уходящий, кажется, безвозвратно и непоправимо, постепенно и тихо; в городе – мир, рушащийся на глазах, теряющий человеческое тепло, забывающий о добре и зле и устремлённый только к собственному эгоистическому самостоянию. В рассказах и повестях прозаика читатель часто обнаруживает конфликты и эмоции, которые обычно не называются и не показываются в современных книгах. Будь то зияющая нравственная пропасть между совестливым отцом и циничным сыном. Или исподволь зреющая ярость телохранителя, видящего ежедневную низость хозяина. Однажды, пусть только в воображении, служивый выпускает тайный гнев на волю и бьёт о землю своего нанимателя – ещё, ещё и ещё раз…
В записках о современности Киляков запоминается читателю сокрушённым авторским тоном, в котором улавливается горечь и от собственной вины за гибель советского миропорядка – за то, что ранее привычные понятия о любви и чести превратились теперь в пустую риторику.
Однако печаль художника в прозе и заметках оказывается свойством только его скорбящей души. Этот вздох сердца он никому не навязывает, но показывает то, что видят его глаза, что улавливает его слух даже и под земною корой. И одновременно всматривается в книги своих собратьев по перу, в их подвижническую деятельность во благо русской культуры и Православной веры.
В его устах часто звучит имя Михаила Петровича Лобанова, выдающегося критика и мыслителя, профессора Литературного института им. А.М. Горького. Семинар прозы Лобанова не раз называли «семьей», потому что вот так, по-семейному, старший говорил с молодым поколением, которое взялся учить уму-разуму. Он обладал удивительным умением называть вещи своими именами и никогда не боялся этого. Неслучайно многие завидовали ученикам Михаила Петровича белой завистью: редкое счастье входить в «семейный круг» подобного уникального человека.
Василия Килякова по праву можно считать одним из лучших выпускников лобановской литературной школы. Практически все его статьи о творениях наших классиков и лучших произведениях советского периода написаны с этих позиций. Когда речь заходит о современниках – Дмитрии Мизгулине, Николае Бурляеве, Александре Орлове, о других авторах, каждая подобная работа симптоматична для времени и места – Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Красноярска, Пскова, Воронежа… Перечисление географических точек на карте словно бы заживляет ноющие рубцы в окоёме разорванного пространства отечественной культуры и лишний раз позволяет сказать с внутренней уверенностью: русское искусство не собирается умирать, а если его голос на какие-то годы стал тихим, то это значит, что копились творческие силы, и уже близко мгновение, когда этот голос вновь станет уверенным и свободным.
В статьях Василия Килякова много радости от осознания того, что русский художник сегодня менее одинок, нежели в чёрное вчерашнее время. Око творца и мыслителя открыто, ему доступны тайны прошлого, нынешняя меланхолия, видны очертания твердыни духа. И эта книга, кажется, подводит черту под минувшим и будто требует от читателя вглядеться в день завтрашний, во многом холодный и ветреный, но наполненный красотой и неподкупной правдой.
Вячеслав Лютый,
председатель Совета по критике
Союза писателей России
Живи как пишешь
Русский лес Михаила Лобанова
В жизни человека, ищущего сочетания «прекрасного и вечного», кроме дней его рождения, женитьбы, появления на свет детей, этих по-настоящему значительных для него событий, есть ещё и дни незабываемые, определяющие – это встречи с духовным авторитетом. Таким авторитетом, такой личностью стал для меня мой учитель Михаил Петрович Лобанов.
Помню первую встречу с Михаилом Петровичем в августе трагического для моей страны 1991 года, когда я приехал в Литинститут на сдачу экзамена по «мастерству» и, пройдя творческий конкурс с оценкой «отлично», был окрылён этим успехом. Я знал тогда, к кому и зачем поступаю в Литературный институт, вполне определился в своих чаяниях и ждал встречи с автором «Аксакова» и «Островского» в ЖЗЛ – настоящим мастером, человеком, написавшим «Из памятного», «Надежду исканий», «В сражении и любви», книги, в которых тончайшим образом были разобраны и литературные опыты студентов. И то, как они были разобраны, не оставляло никаких сомнений, что учиться необходимо именно у Лобанова.
Если желаешь понять хоть что-нибудь в мире, в литературе, – нужно двигаться вперёд от подлинного, пережитого, только тогда твой путь станет «дорогой к себе». Сегодня, когда прошло пять лет со дня ухода Михаила Петровича, я вижу, что не ошибся. Я поступал к нему три раза, поступал, выбирая именно тот поток, которым руководил он. А тогда, в 1991-м, я прошёл творческие конкурсы по жанру «критика» к Е.А. Сидорову, будущему министру культуры, и по жанру «проза» – к М.П. Лобанову, ни минуты не сомневался, на котором из преподавателей остановить свой выбор, если, конечно, Михаил Петрович примет меня. (Танки, однако, уже пыхтели по брусчатке Москвы…)
«Поднимись во весь свой рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России», – писал Л.М. Леонов. Вот именно: самоуважение, уверенность в себе и в судьбах Родины – и внушал нам Михаил Петрович всем видом своим, образом мыслей и творчества. Он – прямой продолжатель дела Леонида Леонова – отдал годы изучению его творческого наследия, разговаривал с ним, учился у него, перенимал и впоследствии передавал нам, студентам, те каноны жизни и «самостояния», которые несла русская интеллигенция той ещё, «царской» эпохи. Благородная, национально-ориентированная интеллигенция – не прозападнического толка интеллигенцию имею в виду, не «мировую обшмыгу» (по слову Ф.М. Достоевского), а – подразумеваю почвенников, государственников, центристов, жизнь готовых отдать за Россию-Родину не задумываясь.
До сего дня не знаю никого, кто мог бы лучше, подлиннее, «первозданней», что ли, донести до нас, тогдашних студентов «перестроечных» времён и либерального перегиба-перелома, – главную мысль, идею неповторимого романа Л.М. Леонова «Русский лес»: что «лес» – главное богатство страны, а «лес» этот – люди русские. И как же он оказался прав! Сбережение нации, Веры Православной, культивирование русской души и духа в людях, способных слушать и слышать, – вот главная идея и та цель, которой М.П. Лобанов отдал всю жизнь и отдаёт через книги свои и сегодня, высокая традиция, истоки которой – от Батюшкова, Карамзина, Державина.
Он всегда «на передовой» – от Курской дуги, с того страшного боя, в котором танки плавились и горели всей толщей брони, в котором в семнадцать с небольшим был он ранен. Лобанов и сегодня на передовой – своим трудом, живым творческим наследием литератора, критика, преподавателя. Вся жизнь его – Служение с большой буквы Отечеству и Литературе. А сколько ему привелось пережить и передумать – знает не всякий, даже из тех, кто следит за современной литературной жизнью. «Живи как пишешь, и пиши как живешь» – этот старый девиз, который любил Михаил Петрович Лобанов, надо записать и запомнить всему студенчеству, которое и сегодня ищет ответы на вопросы самые важные и необходимые. Я мечтаю, чтобы и мои сыновья, когда подрастут, могли бы слушать Михаила Петровича, питаться от него – «воспитываться», учиться у него. Благодаря ему я получил счастливую возможность разговаривать с Вадимом Кожиновым, о. Дмитрием Дудко, Юрием Кузнецовым, Юрием Лощицем, Глебом Горышиным, Эдуардом Володиным, Николаем Старшиновым, Семёном Шуртаковым. Он открыл во мне человека, который имеет право уважать себя, любить соплеменников, ценить и искать главное в людях: способность к творчеству, умение по-своему мыслить и никогда не расставаться с книгой. Он «влюбил» меня в русский эпос и оживил мою веру – открыл мне окно духовное, притом не навязывая вовсе своего мнения, своего образа мысли, не довлея никогда, но лишь подавал руку, когда мне, в пылу молодости и некоторой наивности, было трудно подниматься вверх, а проще бы, казалось, – вниз.
Благодарю Провидение за этот Дар: познакомиться с Лобановым, за встречи и беседы с ним, за то, что многому научился у него. Низкий поклон памяти его светлой – редкому его таланту – мудрому преподавателю и наставнику. Всегда помню его советы, его милосердие и доброжелательность. В нём удивительно сочетались требовательность и доброта, отцовская нежность – с твёрдостью в вопросах самых сущностных, принципиальных. Он учил ясно видеть, ясно мыслить и уметь обобщать факты, казалось бы, случайные, частные – поднимать их до общезначимых выводов. Учил ответственности и мужеству человечности на примере всей своей жизни. Он благословил нас изучать жизнь, простых людей, претворяя, переплавляя свои наблюдения и сами судьбы наши – в наши книги.
2021
Честно, цело, здраво…
В конце 50-х – начале 60-х в газете «Литература и жизнь» М.П. Лобанов возглавлял отдел «Литература и искусство» и лично встречался с Шергиным. И вот перечитываю дневники Бориса Викторовича Шергина, они так просты, оригинальны, чистосердечны, что хочется их читать и перечитывать. Есть в этих простых, кроме завораживающего языка, записях нечто большее, даже – великое, что хочется взять с собой в житейскую дорогу.
Вот запись от 9 мая, среда, 1944 год: «Развращённый ум мешает видеть, что́ есть стержень и главное в моей жизни и что́ является побочным. Отсюда, наверное, сбивчивое моё поведение. Шаткость моего поведения (рождённая слабостью характера) может поставить меня перед лицом неизбывного отчаяния».
Б.В. Шергин прожил почти восемьдесят лет. Это годы великих житейских испытаний: ампутация ноги в юности, частичная утрата зрения, первые шаги в литературе, первый успех… И тут – вульгарно-социологический наскок на литературу, разгромная критика – и издательства отвернулись от мастера оригинального, самобытного… И – нищета. Сверчков переулок, подвал… зарешёченное окно в полуслепом помещении под лестницей…
Певец северной земли оставил нам божественное наследие – нечто радостное, благостное, как сказал бы он сам. Во многих его писаниях сияет Сам Бог. Язык (например, в «Поморских былинах и сказаниях») – бесценен.
Язык писателя – суть его души. Главная беда сегодняшней литературы не в том даже, что нет хорошего языка, а – в малодушии: нет души, способной излучать язык. От причин – к следствию. И дальше – нечто сокровенное, нечто «касаемое» до нас всех (по дневникам), «расслабленных, хромающих на оба колена» – то есть безъязыких, как он записал, и всё же – идущих по жизни: «Для меня, человека расслабленного, хромающего на оба колена, велик труд – идти правильно и нести ношу, не роняя её. Но если я не приму этот труд, если не буду править (хотя бы остаток жизненного пути) «в мире честно, цело, здраво», для меня начнётся ещё в мире сем – мука вечная».
Итак, чтобы идти правильно и нести ношу, не роняя её, Борис Шергин завещал нам жить «в мире честно, цело, здраво». И какая поэзия – не вымученная, не высиженная в академических залах, а выстраданная – разливается здесь, какая красота души светится в дневниковых его записях!
«26 мая, суббота, – записано в дневнике. – Вечерняя заря ослепительно глядит в подвальное оконце. Оконце открыто настежь, на мостовую. Зеленеют омытые дождичком деревья. Немолчно (целый день!) чирикают воробьи, кричат ребятишки. И над всем, над всем – зов колокола: «Приди ты, немощный, приди ты, радостный: звонят ко всенощной, к молитве благостной…» Завтра – Троицын день».
И вся жизнь Шергина – как яркий июньский Троицын день, солнечный и зелёный. Так озарена душа его, что и меня озаряет.
1992
Предстояние. Памяти учителя
О М.П. Лобанове
«Духовность – это то, что отозвалось в душе порывами милосердия». Так сказал незадолго до своего ухода Михаил Петрович Лобанов. Мне передала эти слова супруга его, наперсница и друг, хранитель огромного наследия – лобановского достояния – Татьяна Николаевна Окулова (Лобанова). Эти трагические, правдивые слова девяностолетнего старца, как слова молитвы – проникновенной музыкой и тайной подсказкой для жизни звучали, не отпускали всю долгую дорогу в ночи из Екшура до самой Москвы, до метро «Котельники». И даже в ночном московском метро я всё связывал с ними, вспоминал, процеживал сквозь сито этих слов воспоминания о нём, видел внутренним взором его улыбку, жесты, слышал-вспоминал ненавязчивые, но всегда глубочайшие напутствия и советы при прощании… Вот и теперь, даже покинув этот мир, он давал мне совет. Теперь уже через близкого и дорогого человека – супругу.
Так что же такое жизнь? В самом деле – «Луковка» Достоевского? Но как же сурово, жёстко и безжалостно противостоит нынешний мир всем им, классикам нашим: и Достоевскому, и Лобанову, и Астафьеву, и Абрамову, и Распутину… И Бунину, и Куприну… И Льву Толстому даже! Этот «новый мир» противостоит всей нашей русской культуре.
Той русской культуре, которая объединяла малые народы воедино, и в СССР, и прежде. И весь мир читал на русском Гамзатова и Айтматова, Лесю Украинку и Шота Руставели. Мир осиротел, съёжился. Теперь эти республики, кажется, овдовели… «Порывами милосердия» по отношению ко всем людям, к читателю была во многом «та литература». Порывы милосердия, по Лобанову, – это и есть любовь, сострадательная, деятельная любовь к людям, и все писания Лобанова как редчайшего её, любви, представителя – вовсе даже и не «луковичкой» они оказались, а чем-то гораздо более важным, бо́льшим – и долгим, на века. И для мира, и для тех же «малых народов».
Но вот уже стали забывать имена великих писателей и принимать навязанные привычки и правила. Сегодня, к сожалению, почти всё – не то и не так. И в этой беспросветной тьме сегодняшней жизни, бытового и литературного «раздрая» – как яркая лампочка зажглась, как чудо: Дворец культуры в Екшуре имени М.П. Лобанова!
Несомненно, что он сам, покинув этот мир несколько лет назад, молится о нас теперь, напоминает о себе. И праведной молитвой его о своей земле и Родине, о его родном селе близ Спас-Клепиков, случился этот подарок, это напоминание о том, что мы – люди. Что у нас много обязанностей, а не только права. И о том, что нужно видеть во всяком человеке, даже незнакомом прохожем – «Замысел Божий», по слову Достоевского. И любить именно этот Замысел о человеке. Любить человека, несмотря ни на что, даже если «по делам его» – любить ну никак невозможно!..
И мне всё не верилось, что в России даже теперь можно назвать район, улицу, Дом культуры именем не либерального болвана или оборотистого банкира, проворовавшегося мэра или чиновника, который всю жизнь свою «празднует блистательно», а именем героя, фронтовика, почвенника («русофил» – негодное слово, «русолюб» – лучше). Именем человека, вся жизнь которого – Предстояние, Служение Отечеству и культуре, учительство, литература и нравственное делание; передача опыта и жизненного, и литературного, бескорыстие и молитва…
Как радостно за эту победу среди бесконечной череды поражений и раздора, и неприятия друг друга, и мести, и взаимных упрёков в рядах наших… И за нас самих, всё-таки любящих свою землю, хоть каждый – и по-своему.
Когда прощались в Екшуре с Татьяной Николаевной, я с тайной радостью (не был прежде знаком с ней лично) – любовался ею. Знать, «и один в поле воин, коли ладно скроен!». Дочь фронтовика, участника обороны Сталинграда, она, конечно, знает, что почём в этой жизни. И как трогательна забота её о каждом из нас, обрадовавшихся возможности встречи и участию в освящении, открытии мемориальной доски на Доме культуры имени Михаила Петровича и внимавших празднику и молитве за «благоденствие и чистоту» екшурского недавно отстроенного ДК… Родные черты рязанцев… музыка хорошего, чистого слова… добросердечие принимавших нашу делегацию в Ек-шуре… Видишь, слышишь, угадываешь в «своём» человеке всегда – своего. Глава администрации Клепиковского муниципального района Николай Владимирович Крейтин (который тоже недавно покинул этот мир – как всё зыбко, непредсказуемо!.. А тогда – деятельный, полный сил и замыслов, забавно остроумный) – встретил нас с нескрываемой радостью, как дорогих гостей. И предупредительность, и внимание его к каждому – этого большого, богатырского сложения человека – были особенно милы и трогательны. Как и – чисто женская заботливость и скрупулёзное вникновение в мельчайщие детали в подготовке этого большого события заместителя Главы администрации по социальным вопросам Елены Викторовны Панкратовой.
Среди встречавших нас радушных хозяев этого праздника запомнилось: колоритная фигура ещё одного русского богатыря, земляка Лобанова, давнего его друга и почитателя, Евгения Поликарповича Кочеткова. Бывший начальник районной милиции, полковник, почетный гражданин Клепиковского района, он снимал документальные фильмы о родной Мещерской природе (показанные по Рязанскому телевидению), стал настоящим хранителем культуры этого края. Делом чести считает он сохранение памяти о выдающемся русском писателе, мыслителе. Михаил Петрович всегда остаётся для него (как он сам говорит) «воплощением честности, порядочности и скромности» (знаю, что земляки Лобанова ведут речь и о том, чтобы назвать его именем одну из улиц в Клепиках)..
…И вот Дом культуры в Екшуре имени Михаила Петровича Лобанова открыт, дело сделано. Памятная доска (к которой в скором времени добавится мемориальная, с барельефом писателя) гласит: «Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры муниципального образования – Клепиковский муниципальный район», филиал № 15. Екшурский сельский дом культуры имени М.П. Лобанова. 391022, Рязанская область, Клепиковский район, Екшур, ул. Красный Октябрь, д. 15/6».
Открытие памятной доски на новом ДК освятил и благословил священник отец Геннадий Рязанцев-Седогин, один из учеников Лобанова. Есть в этом глубокий смысл, нечто провиденциальное: ученик-писатель освящает Дом культуры имени своего учителя. О. Геннадий Рязанцев-Седогин – Председатель Правления Липецкой писательской организации «Союз писателей России», протоиерей… (Я время от времени открывал в полутьме автобуса подаренную им книгу, читал первое, что открывала рука, читал из его нового романа: «“Становящийся смысл” – это строящийся храм, место на земле, через которое проходит ось мироздания. Вся полнота жизни – и земной, и небесной – вращается вокруг этого таинственного сооружения. А между тем люди, душой и телом привязанные только к земному, не замечают присутствия глубины, которая, впрочем, не умаляется от этого»). Такая перекличка с книгой «Внутреннее и внешнее» Лобанова поразила меня. Рукоположенный священник, настоятель храма Михаила Архангела в Липецке, который построен им с помощью Божией и тщанием прихожан, – он взял груз со всей тяжестью его… И вот – несёт опыт учителя дальше, в будущее.
«По делам их узнаете их». По делам учеников познаётся величие учителя. И тотчас вспомнилась давняя, начала 2000-х годов, переписка Лобанова, опубликованная в его книге «Твердыня духа», с отцом Феодором, монахом Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, который теперь уже и сам наставник. Их дивная переписка исповедальна: разговор душ… С каким уважением, даже почтением в этой переписке Лобанов-учитель обращался к ученику-монаху!.. Как высоко ставил он Веру, духовный сан!
А нам на семинарах, уже в 1991-м, Лобанов разъяснял суть «атак времени» на священников, на военных-офицеров – в ту, «пригорбачёвскую», бытность. Яростные наскоки на Церковь и на храмы в прессе – от «Московского комсомольца» до «Смены» и «Огонька», от либералов… Он говорил так: «Во-первых, необходимо отделять саму Веру от персоналий (и в героическом строю попадаются неважные воины). Во-вторых, они, священники, рукоположены, а это значит, что те, кто оступился (из священноначалия), – каждый по иному счёту сам за своё ответит перед Богом, и ответят (о том напоминают и святые отцы церкви Православной) на суровом суде иначе, чем миряне. И, наконец, ещё одно, и главное – даже из ржавого крана течёт святая вода». (Благодать через рукоположение действует независимо от человеческих характеристик священника).
…Вечер памяти Лобанова на родине его открыл глава Екшурского сельского поселения Олег Викторович Закалюкин. Затем выступил глава администрации Клепиковского муниципального района Николай Владимирович Крейтин, поднимались на сцену и многие другие. Радушные хозяева подготовили замечательную литературно-музыкальную композицию – поистине творчески руководит Екшурским Домом культуры (и, в частности, – вокальной группой ДК «Кумушки») певица Елена Яранцева. Выступали профессиональные артисты, была яркая, переливающаяся всеми красками родной клепиковской сторонушки художественная самодеятельность.
Выступили литераторы, в том числе и мы, приехавшие из Москвы, очные и заочные ученики Михаила Петровича.
Тепло и хорошо говорили, тревожа аудиторию самыми насущными проблемами писателей и читателей, об эстафете поколений – от Леонида Леонова, М.А. Шолохова, преемственность так много значила для Лобанова: от леоновского «Русского леса» – и первой работы о нём Михаила Петровича – до последнего романа «Пирамида». Тревожили, потому что невозможно говорить о Лобанове и не соотносить его мировидение – с нашим взглядом на современность. И это соотношение, конечно, не в нашу пользу, не в пользу веяний нынешнего времени – не радует. Заместитель председателя Союза писателей России Н.И. Дорошенко вспомнил именно об этом, рассказал залу о проблемах творческого становления молодого писателя – они известны ему, как мало кому (он с давних пор в СП России – ответственный секретарь по работе с молодыми авторами). Ему есть о чём сказать, чем поделиться с аудиторией; было предложено, в частности, в будущем проводить в этом прекрасном культурном центре Лобановские чтения.
Вспоминал Михаила Петровича и Александр Евсюков – молодой, но уже крепко, уверенно пишущий автор. А вслед за ним взяла слово и легко, и свободно выступала и читала свои рассказы Софья Гуськова, актриса Театра Российской Армии и тоже ученица Лобанова. Передавали эстафету другие: читали стихи, исполняли песни на стихи Сергея Есенина…
Русские сарафаны, замечательные светлые лица… Праздник, даже при многочисленности приглашённых и присутствовавших в зале, получился камерным, уютным, почти семейным. Из родных Лобанова в зале присутствовали: брат по материнской линии Николай Агапов, дочь Михаила Петровича – Марина Могутина и его внук Глеб, сказавший много хороших слов об открытии Дома культуры.
Впечатления остались самые добрые. И не только потому, что здание ДК на родине Лобанова так ново, так чисто и уютно: построен и оборудован корпус – на перспективу, с широкими возможностями показа фильмов, с цифровыми технологиями, всегда отныне готов для встреч с писателями от СП России, желающими посетить Екшур, – с будущими посланниками, которые пойдут теми же дорогами от ДК Лобанова к храму, теми же путями, где хаживал Михаил Петрович. Сердце утешалось в Екшуре этим милым, мягким гласным, рязанским протяжным наречием с выговором – на «е» и «а»: округляют, бегут словеса, катятся, освежают интонациями; удобряют речь рязанцы метким народным словечком, метафорой, пословицей щедро, даже с избытком порой. Так заметны, памятны мне эти говоры с детства, особенно в присказках и в поговорках. «Я люблю этот край подсвешный, / Где на взгорок через луга / На молебен рядком неспешным. / Как монахи, идут стога», – написал очарованный «Мещерскими бродами», замечательными людьми этого края поэт, секретарь Правления Союза писателей России Евгений Юшин, много потрудившийся для того, чтобы памятное событие на родине Лобанова состоялось.
…Мы впервые в Спас-Клепиках. Припомнились записи Михаила Петровича «Из памятного» об этих местах, где он говорит в раздумьях о родине – из поездок с чужбины, записывает из какой-то азиатской страны примерно так: дождь, дождь и дождь несколько дней. Включил телевизор. Там прыгающая цветная обезьяна – скорее выключить!.. Почему так просится душа домой, на родину, в чём дело? А дело в том, что моя память здесь, на чужбине, – пуста. Не цепляется, не может ухватиться сердечная память за события. Всё там – на родине – узнаваемо, всё сокровенно: увидел куст – там бегал в детстве босиком… а у тех кустов – мама обморозила ноги, когда рубили дрова в лесу… Всё цепляет, всё тревожит на родине, всё наполняет воспоминаниями душу. За границей же, среди пальм, нет родовой памяти, оттого и тянет так домой – к полноте сердца. Воспроизвожу его мысли по памяти, но суть именно такова.
Теперь и я побывал в родных местах его, о которых столько сказано и с такой любовью. Здесь он родился, здесь жил. К этой земле сердечно был привязан… «На родной сторонушке – рад своей воронушке…» – метко замечено в народе. Даже и вороне-воронушке – и той рад! Михаил Петрович если и отъезжал за границу, то всегда ненадолго и стремился скорее вернуться домой.
…Как поразительно талантлив наш народ, наша земля: километров в тридцати пяти от дома Есенина (если напрямую) – родина Лобанова. Оба учились в Спас-Клепиках. Ходили одними тропинками, купались (с небольшой временной разницей: Лобанов родился в ноябре 1925-го, а Есенин ушёл в декабре того же года) – в одной реке (и она недалека от ДК, река Пра). Как удивительно, как выразительно богата наша Почва: в какой Калифорнии или в каком предместье Альп возможна такая корневая система, такой «симбиоз» таланта, мудрости и добра? Два крыла: с одной стороны – есенинская порывистость, чувственность, необычайная «моцартианская» лёгкость слова, афористичность – «Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете…». Яркость и свежесть – в жизни и в литературе. Другое «крыло» – и смысл всей жизни – в служении русскому делу Михаила Петровича Лобанова, фронтовика, мыслителя, преподавателя, критика; мудрость, центризм, государственность, глубокая Православная вера, имперское мышление с акцентом на сбережение народа. Сдержанность и взвешенность во всём. Есенинская задорная «удаль забияки и сорванца» и «…я более всего весну люблю…» – в сочетании с лобановским полнейшим безразличием к славе, с идеей нравственного вдумчивого воспитания и поддержки человека труда, с определённой, ясно выраженной идеей сохранения народа, в особенности народа русского – главного достояния. (Русский лес, по Л. Леонову – народ, который необходимо сберегать… И первая книга Лобанова, повторим, – о Леонове, о его романе «Русский лес»). Два крыла, без которых нет взлёта и не может состояться полёт.