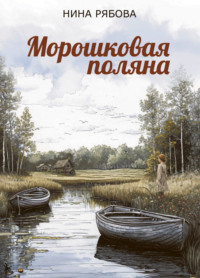Read the book: «Морошковая поляна»
© Нина Рябова, 2025
© Интернациональный Союз писателей, 2025
Дизайн обложки Александра Уханёва
* * *
Вступление
Автобиографические рассказы и очерки Нины Рябовой для меня в мощной струе сегодняшней литературы, которая живительно восполняет пробелы родовой памяти русского человека. Она, эта литература, в основе своей не профессиональная, любительская, пришла к нам в девяностых годах и продолжается до наших дней. Плечом к плечу с опытными краеведами, историками, писателями стали работать сотни и сотни людей, стремящихся сохранить память о предках, о своей малой родине, запечатлеть в своих текстах навсегда уходящие в небытие деревни и сёла, судьбы людей, их жизнь, быт, нравы, взаимоотношения.
Читая рассказы Нины Рябовой, вновь и вновь остро переживаешь нашу трагическую историю, колхозы, войну, нечеловеческий труд женщин и детей, голод, простые радости деревенских людей. Казалось бы, что нового? Но каждый из таких собирателей родовой памяти – это ручеёк, который впадает в полноводную реку истории наших северных деревень. Он собирает судьбы и жизни людей, имена и фамилии безвестных доселе героев.
Написанные искренне, талантливо, записки Нины Рябовой ярко воскрешают жизнь людей Вологодчины, прежде всего сельской, воскрешают жизнь в мельчайших деталях, в оформлении слов редких, полузабытых или вовсе ушедших.
Я уверен, что такие книги могут стать в будущем для учёных, писателей, музейных работников основой фундаментальных трудов, будут питать их, насыщать всё новыми и новыми незабываемыми фактами нашей истории.
Хочу поблагодарить всех бескорыстных собирателей нашей родовой памяти и среди них яркого их представителя, автора Нину Рябову из Череповца Вологодской области.
Николай Васильев,член Союза писателей России, редактор ежемесячной литературной газеты Архангельской области «Графоман»
Часть 1
О былом
Безотцовщина
День начинался весело. Кошка прыгнула на лавку, где я спала, но, видно, не рассчитала и провалилась на пол вместе с одеялом. Забарахталась на полу.
– Не даёшь девчонке понежиться! – Бабушка Ираида взяла вичку1, которая была прикреплена к стенке шкафа, и слегка ударила баловницу.
– Всю ночь мурлыкала, перемыкала2, уснуть не давала, а теперь бы поспать в тепле, убирайся.
– Не гоняй! – взмолилась я.
– Не дело это – обнимать кошку, брать под одеяло. Она с мышью играла всю ночь.
Бабушка Ираида знала мою слабость – спать с кошкой – и всегда ворчала. А мама молча выкидывала замурлыкавшую кошку из-под одеяла. Но кошка всё равно приходила ко мне. Когда она начинала мурлыкать, я легонько шлёпала её по носу, и она затихала на какое-то время. Потом снова начинала петь мне свою песенку. Мама просыпалась, прогоняла кошку, и мы все засыпали. Постель была расстелена на полу, кошка устраивалась у нас в ногах.
Сегодня я спала на другом месте, на лавке, но она всё равно нашла меня. Правда, свидания не получилось.
– Спи, ещё рано вставать, – продолжала ворковать бабушка. – Я тоже не выспалась: Галина встала ни свет ни заря, кропала твои катаники3. Да что толку? Вар кончился, а тебя разве удержишь, побежишь кататься на Епри, а обутку надо берегчи. Ещё не конец зимы.
Она ещё что-то говорила, но я не слушала. Представила, что возьму лыжи, встану на них – и до вечера! Ну, не совсем до вечера, но всё равно долго буду кататься. Я поплотнее укрылась одеялом и стала мечтать, как еду с горы, не падаю, миную куст, потом лыжи едут уже медленно, поворачиваю вправо, еду вдоль Талицы. Парни что-то кричат одобрительное, смеются. Счастливая, я уснула.
Спала недолго, быстро встала.
– И куда опеть бежишь, егоза? Не напасёшься обутки.
Я вынесла лыжи, вставила в самодельные крепления ноги в валенках – и прямо от крыльца по родной Алфёровской!
О! Мои лыжи – зависть подружек. Широкие, короткие, красивые. Когда-то они были гордостью охотника, бежали быстро, не проваливались в снег: они же широкие, длинные! Потом сломались. Вначале отломился конец одной лыжи. Хозяин чего только не придумывал! Он пытался удлинить всякими способами, но ничего не получалось: высохшая сосна раскалывалась. Вот тогда и решил охотник укоротить и вторую лыжу. Получилось просто смешно: короткие лыжи годились только ребёнку, и то не для катания – для забавы.
– Возьми подарок от меня для твоей дочки, – протянул лёгкие лыжицы дедушка Егор маме. – Мои детки не оставили мне внуков – погибли в первые дни войны, наверное, вместе с твоим мужем… в псковских лесах.
Палок не было, я их потеряла на Талицкой горе. Сил хватало бежать без палок. У последнего дома стояли запасные палки.
– Для неумех и забытох, – шутили ребята.
И вот я уже качусь по дороге, что ведёт к реке. Глянешь вниз влево – дух захватывает! «Но это уже пройденный этап, – говорили наши парни, – трамплинов нет, катишься тихо, без ветерка».
«На Епри!» – решила я.
Епри – высокая гора. Вообще наша местность гористая, позднее я узна́ю, что недалеко от нас, в деревне Семениха, центре Вологодской области, самое высокое место. А вокруг нашей деревни горы: Лисья, Злобишная (по названию деревни Злобиха), Пу́пки Большие, Пу́пки Маленькие, Мочище (их тоже два: Мочище Большое и Мочище Маленькое), Пулово, Горка, Горочка. И наши мальчишки объездили все горы, везде сделали трамплины. А вот Епри – это до конца зимы. Вершина горы голая. Снег там не держится, буйные ветры сдувают всё, обнажая песок и камушки. Когда начинает припекать, потом морозить, образуется лёд. Казалось бы, откуда взяться льду? Снега почти нет. Но ледяная корка никогда не исчезает. Эту гору не обойти, не объехать, и забираются на неё на четвереньках. Никто не стесняется, хотя зрелище забавное: доходят до вершины, плюх на землю, перекрестились – и вперёд. У самой вершины палки. Если идут двое, первый, кто взобрался, подаёт палку и тянет. Читатель уже догадался: эту вершину осваивает ловкий, смелый и сильный.
Мне же шестой год, заморыш, но я смело хожу на эту гору, правда, катаюсь на санках. Санок у меня практически нет. Иногда мама разрешает взять большие санки-чунки, на которых возим воду. Они громоздкие, длинные и тяжёлые, занимают чуть не полгоры, всегда всем мешают. Они всегда обледенелые, их заносят в избу, чтобы растаял лёд, просушивают. Словом, вещь нужная для семьи, не для забав. Мама их ремонтирует сама, связывает полозья проволокой, ивовым прутом. Просит аккуратнее ездить. И на Епри нельзя, потому что там около дороги куст, разросшийся куст ивы, а рядом с ивой шиповник. Сколько раз возвращались мы с синяками, царапинами, потому что санки всегда норовили въехать в самую середину этого куста.
Теперь же – на лыжах!
Беру левую лыжу, исправляю крепление, вставляю ногу, поглядывая вниз, куда покачусь. И что вижу? Правая покатилась сама, подпрыгивая на неровностях горы, набирая скорость! Катилась быстро, минуя куст! И вот уже её не видно… Я бегу за ней, но разве догонишь, если она набрала скорость сразу на вершине горы? Подбегаю к речке, не надеясь её увидеть. Наверное, плывёт к большой реке Кубене, наслаждается свободой. И вдруг замечаю: нет у неё свободы, зацепилась за прут, покачивается на струйках воды, лежит поперёк речки. Что делать? Первое, что приходит на ум, – скинуть валенки и в воду! Но вот лыжа развернулась по течению, могу не успеть словить её. Ложусь на сугроб и ползу к речке, хватаю беглянку. А как обратно? Встать нельзя: могу провалиться под снег, там же вода! К мокрой лыже пристал снег, она стала тяжёлой, но мне удаётся выкинуть её на берег. Какими-то необъяснимыми движениями ползу, ложусь на кромку снежного берега. Переворачиваюсь… Встаю. Беру лыжу – и вперёд, на гору! Кругом никого. Но откуда-то берутся силы, не замечаю скользкого льда. Я на вершине! И не падала на четвереньки, и никто не протягивал палку, не помогал! Сама! Сама! Но ехать на лыжах с горы нельзя, беглянка моя обледенела, надо нести её домой, ждать, когда растает лёд, она высохнет и станет лёгкой…
– И что-то быстро ты сегодня вернулась! Замёрзла? – Бабушка Ираида начинает хлопотать: берёт тазик, блюдо.
– Ноги – в тазик! Руки – в блюдо! Вот так и сиди! А потом на печь. Зима ещё не кончилась, не заболеешь – успеешь покататься.
– Ага, успеешь! Вот сегодня уже день пропал.
– Надо высушить катаники. Хорошо, что высохнут до завтрашнего дня, потом мама будет снова их кропать. Сиди дома два дня спокойно, а Епри никуда не уйдут.
– А что, на Епри ходила? – Это мама вернулась со скотного двора.
– Не рассказывает, а, по-моему, накупалась в Талице.
Я притихла. Лежать на печи не хотелось. Что, если целых два дня никуда не выйти? Два дня! Конечно, меня могли наказать, вообще не отпускать кататься, ведь на Епри запретили ходить, тем более на лыжах.
Хотелось заплакать, но слёз не было. Перед глазами стояла маленькая весёлая речка Талица, сверкали её струйки, напевая чудную тихую песенку. Я уснула. И снились мне лыжи, медленно плывущие по течению, и не одна, а обе, друг за другом.
Проснулась я от возмущённого голоса бабушки Ираиды:
– Ты только подумай, Еня, – жаловалась она моей родной бабушке, которая жила в доме рядом с нами, – только подумай! На Епри уносило, каталась на лыжах, пришла замёрзшая. Я думала, мне показалось: идёт в обнимку с двумя лыжами, обледеневшими, тяжёлыми, улыбается, руки, как у голубка, красные, еле отогрела, катаники только что подшила Галина… Стельки отвалились. Но это оказалось явью: внучка твоя совсем отбилась от рук, делает что хочет: на Епри унесло! На лыжах! Ничего не боится! Безотцовщина. Галине взять бы вицу и отхлестать, так нет! Она осмотрела лыжи, поставила их оттаивать, просушить и говорит: «Вечером буду ремонтировать крепление…»
И ведь починит! И не запретит ездить по горам…
Январь – ноябрь 2024 г., деревня Черёмухово (бывшая Чертунья) Харовского района Вологодской области, Череповец
Не женское дело, не женское…
Галине нравилось, что дочка растёт не неженкой, любит кататься на санках, на лыжах. Ей самой в детстве не пришлось так резвиться: отдали в няньки, где приходилось терпеть ругань хозяйки, даже побои. Одежды, обуви не было, жили бедно и трудно. Не до забав.
Галина осмотрела лыжи: «Ой, ненадёжное это дело – крепления. Они должны были входить в лыжу, отверстие было аккуратно выдолблено, но, видимо, отломался кусочек дерева, и бывший хозяин приколотил крепление сверху прямо к лыже… Гвоздики маленькие, а нагрузка большая, сейчас это делать бесполезно, не будут гвоздики держать брезентовое крепление».
Галина рассматривала лыжи, вздыхала, вспоминала своего умельца – брата Лёню. «У него на лыжах был приколочен кусочек жестяной крышки от банки… Ну и что? А ведь катался, и лыжа не ломалась… У меня ни гвоздиков, ни долота, ни жести… Пойду к своему спасителю, только он может помочь».
Дедушка Финаен был единственным мужчиной в деревне.
– Знаю, болеешь, но не могу без твоего совета. Жалко девчонку, сидит дома, смотрит, как катаются сверстники, а у нас и чунки сломались, и вот… лыжи.
– Чунки я тебе сделал новые, как без них? Вода не близко, с коромыслом не походишь по снегу. А вот над лыжами надо поколдовать. Мне приказано лежать, так уж ты не сердись, что день-другой буду мастерить. Надо долотом сделать паз для крепления, это надо делать осторожно: лыжица тонкая, может сломаться. А ещё хуже – пойдёт трещина вдоль. Конечно, это охотничьи лыжи, широкие. Отколется частичка – это ничего, но она может пойти посередине, тогда всё: выбрасывай лыжи!
Дедушке стало полегче, и его внучка принесла отремонтированную лыжу на другой день. Радость была беспредельная. На наметившемся сломе был прикреплён кусочек жестяной крышки. Оставалось молиться за здоровье дедушки и бережно кататься по ровному полю. О Епрях, высокой горе, к сожалению, надо было забыть.
2024 г., Череповец
Луковка
Сейчас, когда вышла моя книга «Дети войны», меня спрашивают, что помню о войне, начале войны, Победе.
Я была обыкновенным маленьким ребёнком, радио не было, телевизора тем более не было. Взрослые были хорошими психологами: они окружили нас вниманием, заботой, любовью. Информации негативной не было. Слово «война» звучало крайне редко. Мы, дети, просто чувствовали тревожность, страстное желание выжить, пережить трудное время. Деревня замерла в каком-то ожидании. Было очень тихо, не пели и не плясали, как раньше.
Мы, дети, работали вместе со взрослыми, молча переносили голод, были дружными. Какое-то напряжённое ожидание новой жизни охватило всех. Но об этом не говорили, просто ждали молча.
– Нина, а ты сегодня именинница. – Бабушка Ираида присела рядом со мной у маленькой печки. – Вот тебе от меня, – она протянула маленькую луковку. – Испеки, побалуй себя.
Печка маленькая, её сложила мама из камней, битых кирпичей.
– Намёрзлись в прошлую зиму, лошадь за дровами ехать в лес давали по очереди. Дрова кончились, а очередь не подошла. Когда настал мой черёд ехать, упряжи нет, всё изорвалось. Корову надо поить холодянкой4 – закашляла наша кормилица. А уж как старый и малый мёрзли, страшно вспомнить, – говорила она, колдуя над печкой.
Маленькую печку топили не каждый день: берегли дрова. Когда топили, надо было сидеть рядом, смотреть, не стрекнёт ли (не упадёт ли) уголь, не прогорит ли трубак. Трубаки – это какие-то старые трубы, их мама вставила в отдушник большой печи. Изба низкая, трубаки близко к потолку. Конечно, рисковали. Топили недолго.
Моя обязанность – топить печку. Иногда разрешалось сварить кашку.
А в день именин бабушка преподнесла необыкновенный подарок – маленькую луковку.
И я размечталась: когда будет много золы, разгребу, сделаю углубление и положу луковку, запахнет волшебно. Луковка испечётся быстро, достану, очистим, разделим с бабушкой, оставим лакомство маме.
Всё сделала, как и мечтала… Почувствовала приятный, неземной запах, невольно заулыбалась… Запах пленил. Не пропустить мгновение – не сжечь луковку! Вдруг…
Вдруг резко распахнулась дверь. Обдало холодом, видимо, не закрыли ворота на улицу.
Я с трудом оторвала взгляд от устья печки – что-то неуклюжее, громадное, чёрное, чужое промелькнуло передо мною. Я заметила неровные края подола сожжённой шинели. Это чудовище заслонила наша соседка Галина, она раскинула руки в стороны, как хищная птица, и резким неприятным голосом гаркнула:
– Это твой отец! – и сразу исчезла.
Вошедший сел на переднюю лавку. Запах его одежды был нестерпимым. Он пропах весь чем-то застарелым, гнилым, куревом, костром, железом…
Забыв про луковку, истошным голосом я закричала:
– Это не мой отец! Это не мой отец! Это не мой отец!
Других слов не было.
Бабушка Ираида схватила ухват и вплотную подошла к пришельцу. Он быстро встал и молча вышел. Я, в чём была, босиком, выскочила на улицу и побежала к родной бабушке. Ворота были не закрыты. Сил подняться по обледенелой лестнице не было – взбиралась на четвереньках.
– Бабушка! Это не мой отец! Это не мой отец! Это не мой отец!
Что поняла бабушка Еня, не знаю. Мои крики были не просто сквозь слёзы, я рыдала.
– Иди. Я приду к вам, – сказала она сухо.
Я бежала по снегу, по утоптанной зимой дороге, она не успела растаять.
Мне казалось, что это был кошмарный сон, который надо забыть, надо перестать рыдать.
«Иначе будешь заикаться», – разобрала я сквозь туман слова бабушки Ираиды.
Болела я долго. Помню, часто приходила фельдшерица, добрая и знающая, по фамилии Бебнева. Приходили Рафаша, друг бабушки Ираиды, Саша Ишеневская, нищенка, Августа, жена Омелинча.
Все как один спрашивали:
– Ираида, чем таким пахнет у вас? – и отвечали сами себе: – Падеретиной5 какой-то.
Привыкшая к чистоте Ираида расплакалась:
– Не поверите, щёлок варили, всё вымыли, проветривали, я одеялом махала, а дух как был, так и остался от пришельца.
Только Августа ничего не сказала, посидела недолго и ушла. Вернулась с лампадкой, ладаном.
– Зажги, я помолюсь, – тихо сказала.
Галине по прозвищу Шаровна всё сошло с рук.
Ноябрь 2024 г., деревня Черёмухово (бывшая Чертунья) Харовского района Вологодской области
Ожидание
«Ждать да догонять – нет хуже», – начинала свой день бабушка Ираида.
Рассказывали, что в молодости она была красавица: высокая, статная, с пышными волосами, белозубой улыбкой. Глаза у неё были голубые, а вернее, один глаз голубой, другой – зелёный. Родилась она в Кузовлёве, далеко от наших мест. Семья была богатой, приданое собрали, сваты не раз приезжали, но замуж брать не спешили: слабовата глазами. В деревне это считалось большим пороком. Взял в жёны девку-старку отслуживший двадцать пять лет в царской армии Дмитрий, далёкий родственник моего отца. Семья Ираиды помогла бывшему служивому построить дом, приобрести сапожный инструмент. Дмитрий славился в округе своим мастерством чеботаря (сапожника). «И жили бы мы с ним, бед не знали, но Господь Бог детушек не дал, да и здоровье подкачало, крышу не успел закрыть на доме, – сетовала старушка. – Шуру пригласил, да не как работника, а как хозяина нового дома. Так я и осталась с его семьёй. Нина родилась, я – за няньку, а Галина мне – как дочь. Жизнь прошла, хотелось бы умереть летом, по теплу, чтобы ко́пали не ругались, когда будут рыть могилу. Но Бог смерти не даёт. А жду, жду…»
Мы, дети, тоже ждали весну, но молча, терпеливо, не досаждая вопросами взрослым.
Мальчишки ждали весну, когда можно найти сорочьи гнёзда, ловить рыбу, играть в футбол. Они шили мячи из старых шапок, мастерили рыболовные крючки.
Все ждали тепла, зелёной травы, крапивы, пестиков, гигельков6.
Я устала болеть, хотелось бегать со всеми, играть и ещё хотелось картошечки: «Дожить бы, чтобы бабушка Ираида выставила чугунок картошки и сказала: “Ешь, Нина, досыта”».
Картошку посадили глазками. Своих семян не было, женщины поехали в соседний колхоз – и там нет лишнего. Добрались до совхоза «Харовский». Наш колхоз «Смычка» взял в долг немного семенного картофеля на посадку. Мы, дети, ждали своих матерей на дороге, даже немного прошли навстречу уехавшим за семенами, но наши мамы не возвращались. Самые маленькие плакали, дети постарше крепились. Мальчишки рассказывали страшные истории про разбойников на дорогах.
Наконец заскрипела телега, показалась повозка, наши матери шли сзади. О! Что это? Где же долгожданная картошечка? На телеге лежали тощие узелки, завязанные верёвочками. Все расстроились: ждали напрасно. То, что привезли, конечно, отдадут на семена, картошечку варить не будут.
– Ну что же, будем ждать осени…
– Давайте, бабы, нарежем жопок, сварим по две картошинки ребятишкам.
Высыпали всё из узелков в общую кучку, стали резать картошечки, те, что покрупнее. Осторожно клали в сторону обрезки.
– Нет, бабы, не дело затеяли, изрежем, а что нарастёт? Сгниёт всё, если пойдут дожди.
– Вы говорите, учёные предложили? А где живут эти учёные? Что они знают о нашей земле? Глазки? Кто видел эти глазки у обыкновенных картошин?
– Всё верно, бабы: от худого семени не жди хорошего племени.
И всё-таки разделили по две картошинки на каждого. Без глазков.
– Где варить будем? Может, в овине?
– Ну что тебя понесло? Дрова надо поберечь для осени. Сварим у Ираиды. Каждый принесёт ей по полену дров, чугунки у них есть…
Пир состоялся. Частички картошинок были такими маленькими, сморщенными. Бабушка Ираида выкладывала их на чайные блюдца. Чтобы никого не обидеть, один из нас отвернулся и называл имя, кому полагалась очередная порция.
Пахло завораживающе! Ели не спеша, по крупинке, улыбались.
Ночью мне приснился чудный сон: бабушка Ираида достаёт из печки чугунок с разварившейся картошкой, сливает воду, закрывает скатёрочкой и… несёт на стол! «Пожалуйста, ешь досыта!»
Сон повторялся.
Мы убегали на поле, видели, как растёт картошка. Ждали урожая.
Наступило время копать картошку.
– Как-то неровно выросли кустики картошки, одна вымахала и стоит зелёная, другая уже завяла, – сетовали женщины, – но копать надо.
Мы приготовили хворосту, чтобы испечь лакомство, но мамы наши не спешили давать часть урожая детям.
– Набираем вначале, чтобы отдать долг, потом оставляем на семена, – говорили нам.
Наконец и до нас дошла очередь. На поле запахло печёной картошкой. Чудеснее этого запаха ничего не помню. Праздник продолжался недолго.
Стали ждать следующую осень.
А я по-прежнему мечтала, чтобы мои сны сбылись: бабушка выставила из печи чугунок картошки и сказала: «Ешь, Нина, досыта…»
Сейчас я сама выращиваю картошку. Вначале отбираю на семена клубни от самых лучших кустов, большие и красивые по форме. Городские друзья восхищаются: «Очень вкусный картофель!»
Зелёные кусты – это из моего детства. Плодов много, но они такие мелкие, как горох. Пробую считать: всегда больше пятидесяти. Что за сорт, не знаю, стараюсь, чтобы не попал в семенные.
А ещё хотелось мне тогда, в далёком детстве, чтобы выросла луковка, маленькая луковка, какую бабушка Ираида дала зимой в день моих именин. Затопили бы маленькую печку, я бы села и стала ждать, когда будет много золы. Потом бы я положила её в самое глубокое место, прикрыла золой. Я очень хочу вдохнуть тот чудесный запах, когда она печётся, потом очистить, угостить бабушку Ираиду, оставить маме, а себе взять совсем немного, чтобы вспоминать ту, которая сгорела тогда. Мне до сих пор страшно вспоминать тот зимний день. А сейчас я на все крючки закрою ворота, двери, чтобы никто не пришёл, не принёс нестерпимый запах в нашу маленькую избу…
Мама молча слушала, не вступала ни в какие разговоры. Она ждала своего Шуру.
А когда придёт её Шура? Я знала: это мой папа. Но я его ни разу не видела. Правда, мама часто вспоминала: «Взял тебя, десятимесячного ребёнка, подкинул высоко, поцеловал: “Приеду, уже будешь ходить”».
Он уезжал в Кущубу на сборы… О войне сразу не говорили. Боялись паники.
Потом были письма из Пскова, спрашивал, стала ли ходить, как улыбается, и давал советы: «Корми Нину кашей».
Писем было немного, но мама читала их постоянно, плакала. Старшая сестра, опасаясь за её здоровье, посоветовала… сжечь. До сих пор помню пылающий огонь в русской печи и маленькие треугольнички, которые сразу были объяты жарким пламенем. И, конечно, не верю в примету: сожжёшь – и печаль пройдёт.
Печаль не прошла. Мама всю жизнь ждала мужа, она прожила девяносто три года. Её утро начиналось молитвой: «Если, Шура, ты жив… А если тебя нет на этой земле…» Она сразу в конце июня 1941 года сердцем почувствовала неладное. В июле, когда собралась бригада на колхозный праздник, когда получили подарок – четвертинку водки, когда поставили на стол натолчённый зелёный лук, полив его чайной ложкой масла, все услышали её голос:
Задушевная подруга,
Моего-то милушку
Двадцати шести годков
Положили в могилушку.
Наступила такая тишина, что казалось, слышно, как бьётся её сердце. Она молча села. Женщины плакали.
Потом, когда мама брала меня с собой, я держалась за её юбку и просила: «Не пой!»
Праздников не было, хотя и сенокос закончили, и урожай собрали, её стали отправлять на лесоповал, весной – на сплав. Она очень похудела, была молчалива.
В редкие свободные минуты она садилась поближе к окну и кропала, то есть зашивала изношенную одежду. На передней лавке разложены заплатки. Ей удавалось подобрать что-то похожее по цвету платьишка, которое ремонтировала.
Заплатки были разные по форме, часто почти незаметные. Иногда на изорванную заплатку она накладывала новую, от этого ремонтированная вещь была тяжёлой, объёмной.
– Галина, и где ты этому научилась? – спрашивали её.
– В Москве, когда жила с братом Николаем. Жена его была мастерицей перелицевать, сделать вещь как новую, продать. Это были времена НЭПа.
Когда мама кропала, она пела частушки. Пела вполголоса, для себя.
Спала она очень мало: поздно приходила со двора, рано уходила. Во время бессонницы бабушка Ираида старалась отвлечь маму от тяжёлых мыслей, она рассказывала о различных обрядах, чаще – о свадебных. Сама она многого не испытала, зато в памяти сохранилось чужое счастье.
«Ой, девка, вспомнила я, – начинала бабушка, – как мы пели о тысечкём7:
Тысецкий хорошенёк,
Тысецкий пригоженёк,
А на тысецком тулуп —
Девяносто один руп. —
А если не пондравился, – продолжала бабушка Ираида: —
Тысецкий не хорошой,
Тысецкий не пригожой,
И на тысецком халат да
Девяносто семь заплат».
«Хорошо, я запомнила. – Маму мучило другое. – Я сама замуж пошла, без сватов, не ревела».
Бабы сказали: «За столом не поревела, за столбом отревёшь». Так и получилось.
Шла война, начались осенние дожди, зимой бушевали метели, летняя жара выматывала, а на сердце те же думы – о нём, Шуре. Она ждала.
Умом понимала: июль – октябрь 1941 года – период тяжёлых переходов дивизии.
Много позднее, когда мамы уже не было в живых, я узнала: мой отец воевал на Лужском рубеже.
Лужский рубеж.
На сорок пять суток был задержан враг на подступах к Ленинграду.
Здесь погибли 55 535 человек.
Противник бросил в этом направлении две танковые и пять мотопехотных дивизий, которые поддерживались авиацией. Все усилия немцев опрокинуть Лужскую оборону и прорваться к Ленинграду успеха не имели.
Не имея успеха на Лужском направлении, враг сильными ударами с направлений Кингисепп и Псков вышел на Красногвардейск, на Новгород, Чудово, поставив этим части Лужской обороны в полуокружение. 24 августа 1941 года дивизия попала в окружение. В окружении оказалось более двадцати тысяч бойцов.
Сентябрь 1941 года. Иссякли боеприпасы. Дивизия начала выход из окружения противника, который к этому времени замкнул кольцо.
Уничтожив свою материальную часть, дивизия тремя отдельными колоннами к началу октября вышла на западный берег реки Волхов, в район Мясного Бора, по которому проходила линия обороны.
The free sample has ended.