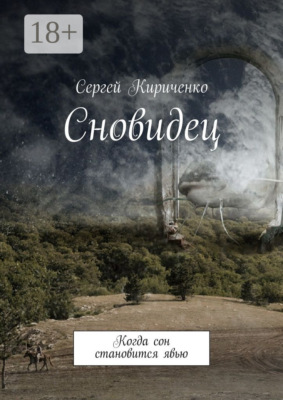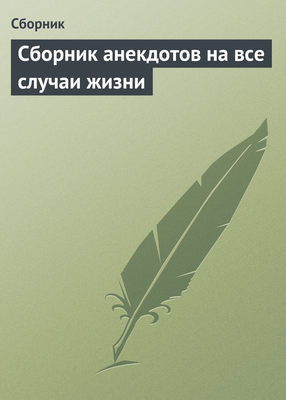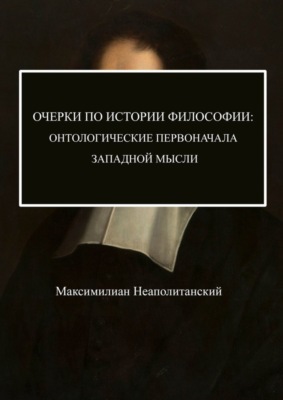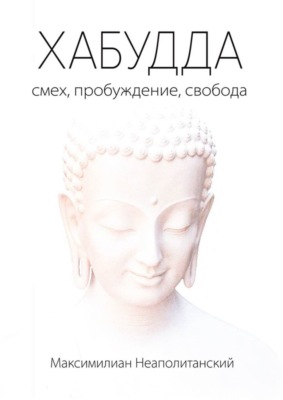Read the book: «Однокомнатное небо»
© Максимилиан Неаполитанский, 2019
ISBN 978-5-4496-8069-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Можно так: проза есть пересказанная поэзия. В этом случае весь сборник «Однокомнатное небо» представляет собой собрание историй, в основе которых лежит поэтическая мысль. Поэтическая мысль как первая или последняя строчка стихотворения, как ёмкий афоризм или цитата, как народная частушка или японское хокку. Для определения поэтической мысли у каждого рассказа есть эпиграф – идейная концентрация и предвосхищение будущей истории.
Можно так: рассказ есть выражение любви к жизни. Или лучше: ощущение своего родства с жизнью. Потому что рассказчик – автор, наблюдатель, экспериментатор, – чтобы описать хотя бы малую часть жизни, должен сначала полюбить её. Сделать так, чтобы жизнь стала его сестрой. Отсюда некая всеобщность и ликование – отсюда мысли о закате прошлого и предвкушение нового. Ещё: предвкушение лета. Потому что лето – второе рождение каждого года. Год наступает с началом января – рождается, наступает лето – год рождается второй раз, наконец получая право ожить по-настоящему, не астрономически. В каждом рассказе есть традиционная (как известный приём) деталь – и в этих деталях, аллюзиях, ссылках и отсылках тоже скрыто ощущение радости перед всем миром и всей жизнью.
Можно так: рассказ смывает рамки между реальностью и сном, между бытием и сознанием. Что же я (автор) сделал? Описал наш общий мир или придумал свой? Если придумал свой, то там вполне мог и стереть случайные рамки: преднамеренно ввести героя в состояние гипноза. И вот он – мой герой – ищет что-то, ищет и наконец находит – идею, смысл, цель, высокую болезнь. Когда герой ищет – это называется сюжет, когда находит – жизнь. Потому что найдя, он уже не мой герой, он принял мою помощь, позволил провести его, но потом отдалился от меня и стал сразу для всех. Герой нашёл – сюжет закончился, и уже каждый читатель вправе продолжить вести героя, вправе впустить его в свою память, предложить ему где-нибудь место и там оставить. Это опять же стирание рамок.
Можно так: рассказ есть наша жизнь, запечатлённая в слове. Художественная фотография художественных моментов жизни. Потому что в каждом рассказе: человек, друг, брат, знакомый, коллега – все они настоящие. Все они когда-либо были мной или были со мной. И в каждом было что-то оригинальное, поэтическое, историческое, открытое миру и художнику. Если бы они знали много художников, то – я уверен – каждый из этих художников запечатлел бы их, сохранил: на холсте, на бумаге, в слове, в памяти… Отсюда обращение к каждому индивидуально, отсюда послание, сообщение, намёк, внутренний диалог на расстоянии.
Диалог с помощью символов, смыслов, высказываний и открытых мыслей.
Безначальный диалог художника с жизнью, с миром и – самое главное – с читателем.
Друг пространства
Льёт дождь. Да будет так же свят…
Б. Пастернак
Помню – осенний холодный воздух. Воздух не может падать, но в тот день он именно падал – падал на тротуары прямых улиц, на прямые мосты, на прямые перила, на прямые дроги и – на сгорбившихся прохожих. Прохожих, похожих на настоящих людей – они смотрели вниз, но были живыми, не серыми – разно серыми, серыми с мыслью, с размышлением, со смыслом. Воздух падал на них, и казалось, давил – с тяжестью, с грузностью, беспощадно и уже – бессмысленно. Зачем воздуху это надо? Прохожие – люди – точно рады были бы отказаться от такого воздуха.
По тротуару прямых улиц шёл Еремеев – друг многих прохожих, в том числе и наш друг. Такие друзья – особенные, редкие. Редкие – потому что торопятся и всегда пропадают, могут пропасть надолго. Особенные – потому что их, таких, как Еремеев – мало. Все всегда рядом с нами, часто – излишне близко, а он – и тут одновременно, и нет.
Еремеев и в тот день торопился. Торопился, обгонял своих друзей, не поддавался воздуху, иногда даже слишком ускорялся. Когда слишком ускорялся – ловил недовольные взгляды прохожих, которые ещё не успели стать его друзьями. Если бы стали, то всё бы поняли – и заодно стали бы нашими друзьями, потому что Еремеев следовал правилу: друг Еремеева – друг его друзей. Благодаря этому правилу образовалась целая сеть – друзей.
Осень рождала некоторые иллюзии в Еремееве – ему хотелось повспоминать тёплые вечера, уходящую жару, те приятные и загадочные сумерки. Густые сумерки с густой тёмно-зелёной листвой. Тогда было хорошо: листва была пространством, сумерки – светом, люди – кораблями, и всё это создавало систему – космическую ли, летнюю ли?
Иллюзии не мешали идти – наоборот, заставляли. Точнее – тянули, поднимали и вели. Из-за них, наверное, Еремееву не был страшен тяжёлый воздух. Он вспомнил ещё и летний дождь – самый лучший из дождей. Ибо этот дождь, который оживляет всех и всё, шумом своим, мощью своей перекрывает внутренний дождь грустных людей, – и Еремеев знал это. И ему хотелось, чтобы сейчас пошёл такой дождь, потому что вокруг было много грустных.
Еремеев сел в автомобиль. Он сказал слова приветствия шофёру, назвал ему своё имя и крепко пожал ему руку, как новому другу. Здания стали плыть за окном – волнительно, криво, разворачиваясь, отдаляясь и приближаясь. Поворот – и Еремеев чувствовал свободу, улица расширялась. Выехали на мост. Мост обнял автомобиль – и вода очень приблизилась. За мостом, тоже у самой воды – дворец. Автомобиль остановился на площади. На площади была толпа – особенная толпа из туристов, экскурсоводов и городских путешественников.
Оказавшись рядом с дворцом, Еремеев захотел взглянуть на него как бы в первый раз. Будто он – турист. Но не получилось – дворец тоже был другом Еремеева, даже могу сказать: лучшим другом. Мы разве можем вновь познакомиться с лучшими друзьями?
Вдруг начался дождь. К сожалению, не летний – морской. Он не был солёным, но цвет его, тяжесть его, томность, – всё это приближало дождь – ливень – к состоянию морской бури. Еремеев был без зонта, в одном плаще, но не торопился скрываться от воды. Вода, знал Еремеев, – жизнь. Другие люди укрывались, утеплялись, ускорялись и – исчезали. Некоторые из них тоже были друзьями Еремеева и предлагали ему зонт, но он отказывался.
Минут через семь Еремеев взглянул на часы: пора. Он направился к жёлтому зданию, на встречу.
Его уже ожидали – высокий человек с тёмными глазами и ровным взглядом. Или – лучше – с ровными глазами и тёмным взглядом. Потому что – глаза хоть как-то можно было определить, а взгляд – нет. Было смешно – разве могут эти вещи существовать отдельно?
Высокий человек был удивлён промокшему виду Еремеева, но Еремеев всё объяснил. Оказалось тоже смешно. Они пошли по длинному коридору – вглубь, вдаль, вместе, ровным шагом. На стенах – картины, на картинах – вожди. Не только одной страны, не только одного периода или эпохи – вожди истории. Те люди, которые за собой историю ведут, как собаки-поводыри слепых. И за этими вождями – слова, идеи, идеологии, идиомы, слова, люди. Слова и люди – вот где хранятся вожди. Ещё на картинах, но больше – нигде. Еремеев думал об этом и хотел начать про это беседу с высоким человеком, но опоздал – подошли к нужной двери.
За дверью – большой зал. Большой зал с пустым круглым столом. Точнее, пустой зал с полным столом, потому что вокруг стола всё сосредоточено. Все девять человек – вокруг стола. И им кажется, думал Еремеев, что весь мир тоже – вокруг стола. И в пиджаке. Таких – застольных – друзей Еремееву иметь не хотелось, но он всё равно пожал всем руки, назвал своё имя.
Начались вопросы: вопросные вопросы о вопросах. Долго – очень, бессмысленно – очень – и очень скучно. Еремеев нашёл себе развлечение – придумал каждому пиджаку новое имя. С пиджаками – и их хозяевами – стал сочинять сюжет. Получилось интересно. Получилось даже несколько уровней, но Еремеева отвлекли. Спросили – опять вопрос: что делать? Точнее спросили, конечно, уточнили, но по смыслу – исключительно это. Еремеев тоже ответил вопросом: а что дальше? Он назвал пути планового и внепланового развития, корреляцию общих процессов, но по смыслу – исключительно это. А что дальше?
А дальше встреча закончилась. Мир стал чуточку шире – больше, чем круглый стол. Люди стали расходиться, ещё о чём-то договаривались. Кто-то предложил подвезти Еремеева, но Еремеев отказался – торопился. Пешком было быстрее.
Уже стемнело. Точнее, свечерело. Потому что стемнеть может в деревне, в лесу, в поле, а в городе, к сожалению, ночь светлее дня. Поэтому определение по времени – уже был вечер. Еремеев с благодушием вспомнил деревенские ночи. Ночи смольные, иногда свежие, иногда – душные, летние. Дождь к вечеру перестал, иссяк. Но стало холоднее – жить стало лучше, потому что холод загоняет в дом. А дома в городе часто лучше, чем на улице. И Еремеев знал про это, и торопился – домой.
Теперь ветер добавлял скорости. Ветер прогнал тяжёлый воздух, поставил на его место колья и копья. Ветер стрелял стрелами – холодно, со всех четырёх сторон стрелял. Еремеев вышел на улицу с киосками. Улица была одинокой, хотя на ней было множество людей – всё потому, что люди были одинокими. Ну кто же в такой холодный вечер будет разглядывать витрины киосков? Такое: развлечение; такое: одиночество.
Интересно, что такие вечера очень плохо запоминаются. Еремеев, друг наш, тоже неожиданно оказался один. Один – на одной из тихих улиц. Вдруг – рука. Кто-то взял его руку. Друг? Скорее – подруга. Взяла и ничего не сказала. Но знала: наверняка – можно. Шли долго, шли вместе, молчали. Фонари – молчали, жёлтый свет – молчал. Еремеев хотел сказать, что он почти пришёл и ему пора заворачивать, но – промолчал. Рука в руке – говорить нельзя.
У моста всё пропало. Приблизилась вода – вновь – и всё забрала. Точнее, прогнала. А ветер ей помог. Еремеев теперь шёл один. И был – один на один с мостом. Нужно было его преодолеть – для прогулки, а потом – сразу домой. Сразу в тепло.
Ветер усилился, мост, казалось, удлинился. Стал длиннее того коридора, важнее круглого стола. Мост был интересным, но на нём – снова – не было ни одного друга Еремеева.
Вдруг кто-то появился. Друзья ли? Три силуэта – стремительных, неузнаваемых. Куда они? Они – к Еремееву, за Еремеевым. Теперь его взяли крепкие руки. Целых шесть рук – грубых рук, тёмных. Сейчас бы вернуться к той руке, которая привела его сюда, к мосту.
Шесть рук не по-дружески взяли Еремеева, и ему нельзя было двинуться – невозможно. Конец? Нет, ещё мгновенье – вода ещё ближе. Мост – всё дальше, земля, твердыня – дальше, жизнь – дальше. Воздух будто сопротивлялся, Еремеев – летел. Вниз. И вот – в низу самом – удар, и больше ничего, никаких мыслей.
Нет, одна мысль – где он, Еремеев? А он – в автомобиле, по-прежнему. И воздух из открытого окна бьёт по нему. А он – в автомобиле, едет туда же – на площадь. Стало радостно – и страшно. На предстоящую встречу Еремеев решил не ходить.
Снежная поляна
И грань, и света след…
Геворг родился близ Кавказских гор. Самым ярким воспоминанием о его юности было происшествие на озере. Как раз тогда он столкнулся со странной гранью: с одной стороны этой грани была жизнь – со смехом, с радостью от солнца, со стремлениями, с играми, с песнями весёлыми, а с другой стороны – смерть. Они вошли в воду все вместе – пять соседей. Геворг плавал плохо, но хотел быть первым в соревновании – кто дальше. Он отплыл к середине озера – к чёрной середине, беззвучной – и вдруг почувствовал, что не может двигаться. Многое пролетело в мыслях Геворга, многое вылетело, ушло из его мыслей – все лишние вопросы. Но родились два вопроса, которые были больше – в десять тысяч раз больше – всех предыдущих: что будет дальше и зачем это? Без пояснений, в такой изначальной форме. Геворга спас турецкий рыбак.
Геворг родился близ Кавказских гор, но всегда тяготился местом своего рождения, и поэтому, достигнув нужного возраста, уехал из дома родителей. Он по-прежнему был в атмосфере юности, вокруг него была юность – внешним планом. Внутри же – состояние перехода, поиска нужных ответов на ненужные вопросы. Или наоборот? Геворг пытался это определить, обращался к горным отшельникам, к священникам, к учителям, но вокруг них была юность, и внутри них – в словах, в мыслях, в мотивах – тоже. Геворг думал, что люди севера другие. Что так влияет солнце, природа, животные, быт – всё расслабляет, обновляет постоянно и делает юным. Геворгу хотелось узнать твердь, мёрзлую землю, лёд, вьюгу… И он поехал учиться на север. Учиться и вместе с этим – работать.
Он поступил в институт и устроился работать сторожем. Было очень удобно – маленький домик, почти будка, стал настоящим домом. Геворг занимался своими делами – читал, конспектировал, писал, учил и попутно следил за порядком. Следить за порядком на самом деле приходилось мало: его сторожевой дом находился за чертой города, в большом, даже не огороженном забором поле. Кому принадлежало поле и зачем нужно было его охранять, Геворг не знал. Это заснеженное, вечно холодное поле было огромным – белый океан, – и казалось, что за ним кончается всё: город, страна, планета, жизнь. Горизонт был ровным, уходил далеко, края поля – тоже. Только знающий человек мог понять, что справа, километров через десять, можно увидеть первые жилые и нежилые дома – окраину города. Дорога упиралась в поле и дальше не шла. Смена Геворга начиналась вечером пятницы и заканчивалась утром понедельника. Остальное время он был в городе, учился. Он любил в воскресное утро выходить из своего сторожевого дома и смотреть вдаль – на снежную поляну. Так он назвал это белое неясное пространство. А что, если на другом конце действительно всё кончается? Это очень интересовало Геворга, у него был мировоззренческий интерес – самый опасный из всех интересов. Вдруг это поможет ответить на большие вопросы? Большое поле – снежная поляна – и большие вопросы.
В одну из смен, в субботний день, Геворгу позвонили на служебный телефон. Голос в трубке неразборчиво кричал, приказывал – именно приказывал – как можно быстрее идти. Геворг удивился:
– Куда?
Голос пояснил, что нужно срочно одеться, выйти из будки и идти прямо, как обычно. Но дело было в том, что Геворг никогда не ходил прямо. Он приезжал с восточной части поля, справа, заходил в свой сторожевой дом и больше не передвигался, хотя очень хотел. А тут такое – властное – распоряжение. Геворг был удивлён и рад. Он быстро надел тёплые сапоги, длинную рабочую шубу, шапку, шарф, свои кожаные перчатки и затем вышел, заперев дверь на ключ. В тот день насилу рассвело, и вся снежная поляна до сих пор была покрыта дымкой. Не было видно горизонта. Геворг взял с собой компас – в первый раз он использовал этот инструмент. Была середина зимы – холод.
Он шёл очень долго, шёл прямо. Но со временем снег становился всё глубже, а твёрдая истинная земля – всё дальше. Ноги пропадали, проваливались почти до колен. Долго Геворг был рад вызову – вызову пространства. Он начинал верить, что там, за снежной поляной, действительно всё кончается. А может быть, там он опять встретится с той самой гранью? В какой-то момент Геворгу стало казаться, что идёт не он – идёт история, эпоха, век идёт. А он просто смотрит и не понимает, когда всё закончится. Началась вьюга. Эта была первая настоящая вьюга на памяти Геворга – колкая, сносящая, сильная, страшно поющая, точнее, завывающая. С такой вьюгой Геворг давно желал встречи. Он не планировал, правда, что встреча так затянется, так утомит его. Вьюга оказалась невежливым, неучтивым собеседником. Вскоре радость, ликование Геворга сменились радостью упорства – вот дойду до конца, и там будет радость, а пока потерпеть, потерпеть. Но и радость упорства была недолгой – каждый шаг как новое рождение, вздох – удар. Мука от каждой новой, однообразной встречи с миром – со снежной поляной. Даже не с поляной уже – с полем, с покровом, с планетой. Слишком много – долго. Геворгу начало казаться, что скоро он уже дойдёт, потому что он чувствовал приближение той грани. Назад возвратиться нельзя – следы замело, уже всё далеко. Он начал проваливаться, казалось, по пояс. Но всё равно шёл. Вдруг – вторая встреча с гранью, уже тут, на севере, в холоде, даст ответы на большие вопросы? Но пригодятся ли ему уже эти ответы? Последние шаги, думал он, силы последние. Геворг, хотя и медленно, ещё двигался вперёд, взгляд его был опущен. Вдруг – момент – он увидел на снегу следы, которые вьюга ещё не успела скрыть. Эти следы – спасение. И самое главное – они шли прямо.
Иные облака
Н. Ж.
…смотри случайно
Вс. Некрасов
Тогда был странный вечер: летний, но с осенью, тёплый, но с порывами свежести. Кто нёс эту свежесть? Точно не ветер, точно не закатное солнце. Мы шли уже долго, шли степью, один раз переправились через реку. Нас было мало, трое: я, профессор и его помощник. Большую часть пути молчали. Не хотелось говорить. Сказать слово тут – значит оказаться под подозрением природы. Зачем покой нарушаешь, суетишься? – может спросить она. Отвечать ей будет неловко, у нас нет оправданий.
Дошли до низкого холма. Этот холм – рубеж. Посмотрели друг на друга и всё-таки решили рискнуть, и одновременно как-то заговорили. Я предложил остановку. Остальные согласились. Поставили рюкзаки на сухую землю, стали доставать постилки и провизию. Приятен был такой отдых. Хотя даже не отдых – труд. Просто труд не своими силами, а силами земли. На этой земле почти ничего не растёт – короткая травка песчаных оттенков, колкие кустарники с серо-лиловыми листьями и бирюзовыми бутонами, которые отдают силу, набранную за весь день, ароматами дикого розмарина и каменной влаги. Откуда здесь такое разнообразие? Море, любые водоёмы далеко, высокогорная местность – тоже. Тогда был странный вечер…
Походного костра у нас не было. Казалось, закат затянулся. Долго розовело небо, долго солнце стояло над степью. Стали говорить об археологических раскопках. Затем профессор обратил внимание на облака и начал свой рассказ. Рассказ был связан с облаками. В молодости профессор не раз оказывался на юге. Он имел там друга – хорошего друга, но грешного. Друг звал профессора к себе в небольшой домик у моря, но всегда оказывался пьян, когда приходил профессор. Пьян не напитками – южным угаром. Желанием петь, говорить и радоваться без ликования. Плоха такая радость, знал профессор. Они часто сидели на балконе и смотрели в бинокль на прохожих, на лодки, на пейзажи. Но один раз друг предложил профессору поднять бинокль на небо и посмотреть, как исчезают облака. Как исчезают? Неужели облака зависят от нашего взгляда, от того, что мы за ними наблюдаем? Оказалось – да. Бинокль оказался ружьём, от выстрелов которого небо теряет своих белых воинов. Человек – прекрасный стрелок, если умеет сосредоточенно смотреть.
Я не поверил рассказу профессора. Слишком романтично и мистично. Не могут облака исчезать от нашего взгляда. Почему, если смотреть на них долго, они растворяются, расплываются, распадаются? Что с ними происходит? Этого профессор не стал объяснять, но предложил мне самому проверить и убедиться в правдивости его истории. У нас не было с собой бинокля. Помощник профессора сказал:
– А я и так верю.
Не помню теперь, чем закончился тот странный вечер, но через шесть лет, после праздника в моём доме, я заметил, что кто-то из гостей забыл бинокль. Зачем было его приносить? Плато воспоминаний надвинулось на меня – не только наш поход с профессором и его помощником, но и многие события того времени – времени ясной юности и матовых перемен. К чему привели те перемены? Я поторопился взять оставленный бинокль, надел пальто и вышел на участок. Никого не было – пустая беседка, клумбы и облака. Я стал всматриваться. В объектив попала небольшая белёсая горка, которая никуда не двигалась. Даже не плыла, как бывает обычно. Через минуту – исчезла. Я убрал бинокль, без дополнительной помощи посмотрел на то место в небе. Я повторил действие. То же самое произошло ещё с несколькими облаками – они пропадали из-за моего взгляда. Но куда? Меня постигло ликование; не радость – ликование. Рассказать об этом – вновь не поверят, как я сам когда-то. Что же это? Наверное, на людей тоже так смотрят, только наоборот – с неба, и они исчезают. И никто этому не верит, пока сам не посмотрит в бинокль. Человек – прекрасный стрелок, если умеет сосредоточенно смотреть.
The free sample has ended.