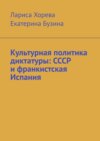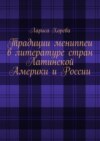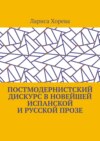Read the book: «Испанская новелла в Средние века»
Рецензент – доктор филол. наук, профессор Нина Васильевна Семенова
© Лариса Хорева, 2020
ISBN 978-5-4498-9806-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Учебное пособие «Испанская новелла Средних веков» включает в себя материал по учебной дисциплине «История литературы Испании» для студентов филологических факультетов. Актуальность данного пособия обусловлена отсутствием системного анализа процесса становления новеллистического жанра в Испании, существованием многочисленных концепций жанра новеллы, часто противоречащих друг другу: в подавляющем большинстве работы по теории новеллы рассматривают жанр как совокупность формальных признаков, оставляя без внимания взаимоотношения, складывающиеся между тремя участниками процесса: автором, читателем и героем, которые становятся краеугольным камнем формирования и развития любого жанра. Представления об этих отношениях получили свое развитие в теории коммуникативных стратегий в литературоведении XX века. Изучение и анализ конкретных текстов испанских авторов убедительно доказывает, что жанровую сущность новеллы и ее качественное отличие от смежных жанров мы можем выявить, опираясь, прежде всего, на взаимоотношения (которые складываются в процессе формирования и развития жанра) между участниками процесса. Нарративы, которые априори относят к жанру новеллы только потому, что они включены в широко известные новеллистические сборники, очень часто новеллами не являются, так как событийность в таких текстах отражает либо притчевое начало (дуализм выбора), либо фаталистическую картину мира сказания. Включение же подобных нарративов в новеллистические сборники помогает понять исторический контекст произведения, связь с культурной традицией, к которой оно примыкает. Изучение испанской новеллы неотделимо от рассмотрения картины мира испанцев XIV – XVI вв., которая определяет концепцию жанра испанской новеллы.
В результате изучения курса обучающийся должен:
Знать
· теорию новеллистического жанра
· смежные жанровые образования, участвующие в образовании новеллы как жанра
· теорию коммуникативных стратегий
Уметь
· применять полученные знания на практике при анализе текста
· исследовать составы новеллистических жанровых комплексов периода Средних веков
· актуализировать признаки исторически существующего жанра
Владеть
· навыками анализа художественного текста с применением теории коммуникативных стратегий
· навыками анализа литературного жанра, заключающийся в сопряжении теории инвариантных жанровых стратегий с рассмотрением его генезиса в исторически конкретных условиях бытования
Методология работы определяется ее принадлежностью к исторической поэтике и опирается на концепцию «памяти жанра» и жанрового «хронотопа» М. Бахтина, на положение Ю.Н.Тынянова о том, что жанр должен определяться и изучаться в рамках современной произведению литературной системы и о нецелесообразности и даже невозможности изучения изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся; на категорию коммуникативных стратегий протолитературных нарративов, разработанную В.И.Тюпой; на понятие «внутренней меры», введенное в научный язык современного литературоведения Н.Д.Тамарченко.
Материал пособия поможет обучающимся усвоить материал по исторической и теоретической поэтике, по истории литературы Испании.
Направленность учебного пособия определила его структуру. Пособие состоит из двух глав, теоретической и практической. В теоретической части работы дан обзор концепций теоретиков жанра. В практической части дан анализ произведений литературу Испании периода Средних веков с учетом рассмотренных выше теоретических концептов.
Автор благодарит кафедру романской филологии и кафедру теоретической и исторической поэтики ИФИ ИФиИ РГГУ за ценные замечания и комментарии.
Глава I. Генезис новеллы и его жанровое поле
Обзор национальных научных традиций изучения новеллы как жанра
Данная работа посвящена процессу формирования жанра новеллы в Испании в период Средних веков и Возрождения и роли анекдота в этом процессе. Однако прежде чем перейти собственно к вопросу об особенностях генезиса и бытования данного жанра в указанный период истории литературы, необходимо выявить основные черты этого жанра.
Как пишет Поль Зюмтор в «Опыте построения средневековой поэтики», «начиная с XII века, слово nouvelle часто встречается во французском языке как определение (песни, повести или какого-либо сходного термина). В субстантивированной форме (nova) оно возникает в окситанском языке XIII века для обозначения рассказа, созданного на каком-либо заново обработанном материале. Отсюда – итальянская novella, вернувшаяся около 1400 года во Францию. Отправной точкой для предварительного определения новеллы может служить та идея, которая, по-видимому, была первичной для окситанского слова: притом, что изложенные темы имеют традиционную (фольклорную, или „литературную“ и „ученую“) основу, существует определенный повествовательный дискурс, который воспринимается как оригинальный – в противоположность либо своим предшественникам (народной сказке или латинскому анекдоту) либо прочим повествовательным дискурсам».1
Так что же представляет собой новелла в жанровом отношении? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уточнить специфику изучения жанра как формально-содержательно-коммуникативной единицы. Е.И.Зейферт в своей работе2 выделяет пять подходов к изучению жанра.
1. Формальный подход, при котором любой жанр и жанр новеллы в частности исследуется как «сумма приёмов». Такой подход к изучению жанрового целого был заявлен представителями формальной школы российского литературоведения в 20-ые годы XX века.
2. Типологический (содержательный) подход. Принадлежность произведения к тому или иному жанру определяет, прежде всего, его содержание, общая эстетическая тональность, проблематика, тематика.
3. Формально-содержательный подход. Исследователями в равной мере учитываются и содержание, и форма произведения: жанр предстаёт здесь как единство содержания и формы. Подобного понимания жанра придерживался В. Жирмунский.
4. Генетический формально-содержательный подход. Учёные исследуют жанр с точки зрения его генезиса. Подобный принцип изучения жанра прослеживается в трудах М. Бахтина, Г. Гачева, В. Кожинова.
5. Коммуникативно-генетический подход, в основе которого лежит обращенность жанра к адресату. Такой подход базируется на теории речевых жанров и генезиса жанра М. Бахтина. Подобного подхода придерживаются С.Н.Бройтман, Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, Д.М.Магомедова.3
В процессе изучения новеллы как жанра присутствовали все пять подходов. Рассмотрим их более подробно.
Поскольку данная работа будет посвящена истории формирования жанра новеллы в Испании, обратимся сначала к работам испанских теоретиков. Однако прежде чем перейти к разбору конкретных работ, необходимо отметить, что термин «novela» в Испании используется для обозначения другого прозаического жанра – романа. Термином «novela corta» пользуются, когда говорят о повести. Жанровая принадлежность классических новелл Э. По описывается в испанском литературоведении термином «cuento». Таким образом, мы можем предположить, что сuento эквивалентен новелле. Diccionario de Autoridades определяет cuento следующим образом: «Es también la relación o noticia de alguna cosa sucedida. Y por extensión se llaman asi las fabulas, o consejоs, que se suelen contar a los niños para divertirlos». («Это также сообщение или повествование о произошедшем. Из-за объема его часто называют также басней, советом, которые обычно рассказывают детям с целью развлечь их»).4 Испанские теоретики и историки литературы (Максим Шевалье, Энрико Пупо-Валькер, Хайме Алазраки, Энрике Андерсон Имберт, Мануэль Дуран, Эдуардо Гонсалес) исследовали основные черты этого жанра в своих работах, отмечая трудности четкого определения. К сожалению, большая часть этих работ касается литературы XX века, причем литературы латиноамериканской, поэтому особый интерес для нас представляет исследование Максима Шевалье, который в своей работе «Cuentos españoles de los siglos XVI y XVII» («Испанские новеллы XVI—XVII вв.») рассуждает, что означал термин cuento в эпоху Золотого века. Так, он пишет, что первые писатели XVI столетия, которые использовали термин cuento по отношению к собственным произведениям, были Боскан, Луис Милан, Вильялон. Именно Боскан дает первое определение cuento и проводит параллели с новеллой. Согласно Боскану, существуют два типа фацеции (которую в Испании также именовали cuento): первый тип – фабелла – более длинное повествование (хотя на самом деле отличается краткостью изложения), повествует об одном событии, второй тип – диктум – представляет собой остроумное высказывание. Именно первое легло в основу cuento, которое, как пишет Боскан5, также называют новеллой в Италии.
Однако испанские литературоведы не углубляются в детальное вычленение структурных черт новеллы как жанра. Последнее является скорее прерогативой немецких и русских ученых.
Большинство работ по теории новеллы были созданы на протяжении ХХ века в Германии. Эти работы базируются на трудах Гете, Фр. Шлегеля, Клейста, Штифтера, Шпильгагена. Последние обычно отталкивались от определения Гете, который в «Беседах немецких эмигрантов» и в «Разговорах с Эккерманом» дал фактически первое определение новеллы как одного необычайного происшествия. В среде формалистов это определение было подвергнуто критике. Так, М. Петровский в статье о повести в двухтомной «Литературной энциклопедии» утверждал, что «не только необычайное, но и заурядное происшествие может быть положено в основу новеллы, как мы это видим, например, у Чехова и Мопассана».6
Тем не менее, определение Гете долго тяготело над умами теоретиков, оказав значительное влияние на все последующие изыскания.
Говоря о теории новеллы нельзя обойти молчанием и так называемую «соколиную теорию» Пауля Гейзе, о которой считает своим долгом упомянуть каждый, кто приближается к этой проблеме. П Гейзе, исходя из анализа новеллы Дж. Боккаччо о соколе, вывел следующие обязательные признаки новеллы: единство действия, резкость ситуации и четкость обрисовки, иными словами, в одном кругу должен быть один конфликт.
В статье о Дж. Боккаччо (1801) Фр. Шлегель развил романтическую концепцию новеллы: «Новелла по своему происхождению – это анекдот, история, новость, фактическое происшествие или даже независимая фабула, но такая, которая существовала до художника, и поэтому, когда он приступает к работе, новелла связывает его либо фактичностью сюжета, либо традиционностью своей редакции. Отсюда следует, что мастерство новеллист может выказать только своеобразием трактовки, что именно на авторской субъективности лежит ударение, когда оценивают обработку бродячего анекдота. Анекдот обыкновенно ничтожен, оторван от великих исторических интересов. Художник же умеет придать ему значительность. На этом основано все искусство Боккаччо и Сервантеса – новеллиста. В их новеллах самое главное – это не предшествующее состояние сюжета, но знаки, отметки, полученные сюжетом, когда он проходит через руки мастера».7 Признавая существование неких априорных фабульных положений, которые обрабатывает новеллист, Фр. Шлегель в то же время отстаивает независимость художника от этих схем, утверждая возможность практически неограниченной воли автора в обработке фабулы.
Эту идею, правда, несколько видоизменив ее, поддержали и формалисты, поскольку она отвечала их теории художественного произведения как «внеположной сознанию данности». Сама мысль Шлегеля о неизменности сюжетных схем, только перекомбинируемых в различных вариантах, была им далеко не чужда, что признавал впоследствии В. Шкловский.8
Все названные ученые сходятся во мнении, что новелла является набором технических приемов, к которым относятся неслыханное происшествие, поразительный поворотный пункт и персонажи, подчиненные игре судьбы.
В литературоведении начала XX столетия мы можем проследить две тенденции в подходе к определению сущности жанра. Первая тенденция – рассмотрение структурообразующих, по сути, формальных, признаков новеллы – представлена в работах формалистов. Практические проблемы литературного развития заставили многих задуматься об особенности этого жанра. Стало понятно, что простое описание какого-либо события еще не дает новеллы.
В. Шкловский, в поисках ответа на вопрос об особенностях новеллистического сюжетосложения, пришел к выводу, что «для образования новеллы необходимо не только действие, но и противодействие, какое-то несовпадение».9 Остальные сторонники формалистической теории принимают это положение уже как не требующее доказательств.
Из современных зарубежных литературоведов к подобной точке зрения наиболее близка американская исследовательница Джудит Лейбовиц. В своей работе10 она обращается к концепции новеллы, разработанной немецкой школой. Эта концепция, по ее глубокому убеждению, страдает рядом недостатков, поскольку предлагаемые ее немецкими оппонентами критерии определения жанра новеллы позволяют лишь составить ряд повторяющихся приемов, но не определить природу жанра, которая обуславливает использование этих приемов. Джудит Лейбовиц ставит перед собой задачу подойти к определению жанровой природы новеллы, доказав, что на первое место при определении жанровой принадлежности того или иного произведения выходит определенный специфический эффект, который это самое произведение должно произвести. Эффект новеллы, по мысли исследовательницы, заключается в одновременности сжатости и полноты производимого впечатления. Этот специфический эффект достигается, как пишет Дж. Лейбовиц, с помощью тематического комплекса. Главные темы, составляющие основу сюжета любой новеллы, соединяются в тематический комплекс, благодаря которому все мотивы взаимосвязаны и на протяжении всей новеллы сохраняется единый фокус, из которого исходят все ассоциации. Следовательно, мастерство истинного мастера-новеллиста заключается в организации и развитии материала таким образом, чтобы дать ощутить читателю широкий подтекст одновременно с концентрированной подачей материала. Надо сказать, что Джудит Лейбовиц не была оригинальна в этой идее, поскольку подобные мысли высказывал уже И. Виноградов. В статье «Борьба за стиль» рассуждая о выдвинутом формалистами противоречии как основе новеллы, он говорит следующее: «Можно было бы без конца приводить примеры, показывая, как какие-то жизненные противоречия раскрываются в противоречиях сюжетных ситуаций и в их движении. <…..> Новелла дает эти противоречия в сконцентрированном виде, как бы сведенному к резкому и отчетливому противопоставлению. И в романе мы всегда можем найти какие-то противоречия в той совокупности фактов и событий, которую показывает романист. Но в новелле нет такого детального развертывания каждого из членов этого противоречия, какое имеется в романе, – развертывания в ширину и во времени. Здесь эти противоречия даны более „собранно“, сведены к какому-то сконцентрированному простому определению. Новелла, если можно так выразиться, демонстрирует это противоречие, в то время как роман раскрывает его с широтой и обстоятельностью».11 В этом заострении, интенсификации противоречия, крайнем «сосредоточении» жизни проявляется сущность новеллы как жанра, основа ее внешней количественной стороны. По словам И. Виноградова, «новелла в состоянии огромные горизонты, всю мировую историю включить в свои пределы».
Однако концепция Дж. Лейбовиц ценна для нас тем, что американская исследовательница выдвинула свою теорию, анализируя новеллы Брентано, Томаса Манна и Генри Джеймса, заранее подчеркнув то обстоятельство, что новеллистика Возрождения должна рассматриваться и анализироваться отдельно от образцов этого жанра нового и новейшего времени, поскольку является самостоятельным жанровым образованием. Здесь уже намечается попытка констатировать эволюционный характер новеллы, хотя Дж. Лейбовиц (в этом ее взгляды совпадают с позицией немецкой школы и с позицией формалистов) рассматривает новеллу вне исторического контекста, выделяя только устойчивые формальные признаки жанра.
Несколько дальше пошел в своем исследовании В. Гоффеншефер,12 который решительно отвергал любые попытки найти единые композиционно-сюжетные схемы и определить первофеномен новеллы, утверждая, что «теорией новеллы является для нас история новеллы»13. В соответствии с этим утверждением, В. Гоффеншефер последовательно рассматривает и анализирует новеллы Дж. Боккаччо, Вольтера, философские повести Д. Дидро, находя в них новеллистическое ядро, новеллы Гете, новеллу XIX века, отмечая общие аспекты структуры и тематики новелл, столь далеко отстоящих друг от друга хронологически и пространственно. Для В. Гоффеншефера все это один жанр (в этом он согласен со своими предшественниками), но изменяющийся с течением времени вследствие исторического развития общества. Этот вывод В. Гоффеншефера очень важен, поскольку содержит идею эволюционирующего характера жанра новеллы, которая будет разрабатываться в данной работе.
Говоря о проблеме жанра, нельзя оставить без внимания теоретические работы М. Бахтина, которые в литературоведении XX века стали основой для большинства теоретических исследований. Рассматривая жанр как «типическую форму целого произведения, целого высказывания», М. Бахтин в книге «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» особо отметил, что жанр – это «целое завершенное и разрешенное». «Проблема завершения – одна из существеннейших проблем теории жанра <…> распадение отдельных искусств на жанры в значительной степени определяется именно типами завершения целого произведения. Каждый жанр – особый тип строить и завершать целое, притом <…> существенно, тематически завершать, а не условно, тематически кончать».14
Проблема завершенности новеллы в литературоведении XX века неоднократно становилась проблемой изучения. Прежде всего, конечно, этой проблемой заинтересовались представители формальной школы. «Замкнутость» новеллистического сюжета была для них признаком первостепенной важности. Однако ограниченность методологии привела к тому, что в поле зрения формалистов попал лишь один из аспектов завершения – композиционный и его типы, поскольку, по словам, Б. Томашевского «основным признаком новеллы как жанра является его твердая концовка».15
Главным приемом окончания новеллы считался резко очерченный момент завершения сюжета, разновидностью которых считался так называемый «ложный конец», о чем писал В. Шкловский, приводя в качестве примера «ложного конца» описание природы.
Б. Эйхенбаум определяет своеобразие концовки новеллы, сопоставляя ее с романом и утверждая в этой связи, что если в романе финал является пунктом ослабления сюжетной напряженности, то в новелле он, напротив, становится пунктом усиления. «По самому своему существу новелла, как и анекдот, накопляет весь свой вес к концу. Как метательный снаряд, брошенный с аэроплана, она должна стремительно лететь книзу, чтобы со всей силой ударить своим острием в нужную точку».16 Эта теория трансформировалась в теорию «неожиданных концов», согласно которой новелла «тяготеет к максимальной неожиданности финала, концентрирующей вокруг себя все остальное».17 Сам Б. Эйхенбаум понимал неожиданный финал как благополучное окончание развития событий. Поскольку принцип неожиданной развязки, по мнению Б. Эйхенбаума, « сам по себе ведет к тому, что развязка эта должна быть благополучной или даже комической <…>. Трагическая развязка требует специальной мотивировки (вина, рок или «характер», как обычно в трагедии), – вот почему она естественнее в психологическом романе, чем в сюжетной новелле. Читатель должен заранее примириться с нею, понимать ее логическую неизбежность, а для этого она должна быть тщательно подготовлена, так, чтобы ударение падало не на результат (т.е. иначе говоря – не на самый конец), а на движение к нему. Благополучные концы у О'Генри, как и в «Повестях Белкина», – вовсе не вынужденный ответ на «заказ» американской публики, как об этом принято говорить, а естественное следствие принципа неожиданной развязки, несовместимой в сюжетной новелле с детальной мотивировкой».18
Теория pointe19 как неожиданного финала, который должен завершать собой новеллу, была очень популярна в кругах формалистов. Это утверждение можно увидеть в работах В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, М. Петровского. По-другому взглянул на эту проблему М. Кенигсберг, предложивший в своей статье «Об искусстве новеллы» выделять два типа повествования. Первый тип представляет собой череду эпизодов из жизни, который вполне может быть продолжен при желании автора новым событием. Второй же тип повествования – это, по мнению исследователя, событие, где «в сюжете будет пункт, в котором сойдутся все нити, образующие этот сюжет, и тогда этот эпизод будет обладать особой законченностью, что всякое дальнейшее его продолжение окажется невозможным, ибо наш эпизод тогда существенно изменится в своем сюжетном развитии».20 Повествование второго типа и предлагается считать новеллистическим, поскольку оно обладает «пуэнтировкой». Термином pointe М. Кенигсберг предлагает считать «такой момент в композиции, который специфически объединяет все тематические и сюжетные элементы и придает эпизоду характер законченности».21
Эта точка зрения представляется более широкой, хотя М. Кенигсберг, подобно другим формалистам, понимает жанр как совокупность формальных приемов и не рассматривает новеллу в контексте ее исторического развития. Тем не менее, проблема завершенности жанра не упирается здесь в проблему финала, которую абсолютизировали формалисты так, что это вызвало отрицательную реакцию многих писателей против справедливого требования завершенности жанра. И хотя позже эта позиция уже не вызывала сомнений у большинства литераторов, было ясно, что без рассмотрения вопроса о герое и авторе эта проблема не может быть разрешена до конца. Эта проблема и не могла быть поднята в кругах формалистов, поскольку последние отрицали значимость роли героя в новелле, утверждая в качестве канона одну из разновидностей этого жанра – новеллы положений. Характер, по мнению Б. Эйхенбаума, служит лишь поводом для создания каламбуров и стилистических парадоксов. Хотя эта теория была подвергнута критике уже современниками формалистов, в частности, В. Гоффеншефером, утверждавшим, что в центре новеллы всегда и всюду должен стоять характер и что без характеров этот жанр существовать не может,22 она привела к тому, что в литературоведении 20-х гг. вопрос о герое не разрабатывался сколько-нибудь серьезно, что означало в свою очередь, что все рассмотренные нами выше подходы к изучению жанра и жанра новеллы в частности, имеют в своей основе двоякий подход к жанру. Вопрос о жанре как форме целого, который должен учитывать, по мнению М. Бахтина, предмет, цель и ситуацию высказывания, при таком подходе остается открытым и ответ на него был получен только во второй половине XX века в теории коммуникативных стратегий нарративов.
The free excerpt has ended.