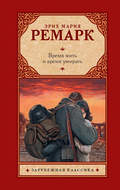Read the book: «Англия и англичане (сборник)»
Серия «Зарубежная классика»
George Orwell
THE ENGLISH PEOPLE AND OTHER ESSAYS
Перевод с английского
Компьютерный дизайнВ. Воронина
Печатается с разрешения The Estate of the late Sonia Brownell Orwell и литературных агентств A M Heath & Co Ltd. и Andrew Nurnberg.
© George Orwell, 1930,1939,1941–1947
© Перевод, текст. В. Голышев, 2017
© Перевод, текст. А. Зверев, наследники, 2017
© Перевод, текст. Г. Злобин, наследники, 2017
© Перевод, стихи. Н. Эристави, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
Лев и Единорог: социализм и английский гений1
Часть I: Англия, твоя Англия
1
В то время как я пишу, весьма цивилизованные люди летают над моей головой и пытаются меня убить.
Они не испытывают враждебности ко мне, как к индивиду, и я к ним тоже. Они, как говорится, «только выполняют свой долг». Большинство из них, не сомневаюсь, незлобивые, законопослушные люди, которым и в голову не придет совершить убийство в частной жизни. С другой стороны, если кому-нибудь из них удастся разнести меня на куски точно сброшенной бомбой, он сна из-за этого не лишится. Он служит своей стране, и она вправе отпустить ему грехи.
Увидеть современный мир таким, как он есть, нельзя, не осознав всепобеждающей силы патриотизма, национальной лояльности. В определенных обстоятельствах она ослабевает, на определенных уровнях цивилизации не существует, но как с позитивной силой, с ней не может сравниться ничто. Христианство и интернациональный социализм против нее – как соломинки. Гитлер и Муссолини захватили власть у себя в значительной степени потому, что осознали этот факт, а их противники – нет.
Кроме того, надо признать, что расхождения между нациями обусловлены реальной разницей в мировоззрении. До недавнего времени полагалось делать вид, будто все люди очень похожи, но всякий, кому не отказало зрение, знает, что в среднем человеческое поведение сильно меняется от страны к стране. То, что может произойти в одной стране, не может произойти в другой. «Ночь длинных ножей», например, не могла бы произойти в Англии, а англичане сильно отличаются от других западных людей. Косвенный признак этого – нелюбовь почти всех иностранцев к нашему национальному образу жизни. Немногие европейцы примиряются с жизнью в Англии, и даже американцам часто бывает уютнее в континентальной Европе.
Когда возвращаешься в Англию из чужой страны, сразу возникает ощущение, что дышишь другим воздухом. Об этом тебе дают знать тысячи мелочей. Пиво горше, монеты тяжелее, трава зеленее, реклама крикливее. Толпа в большом городе – спокойные, угловатые лица, плохие зубы, мягкие манеры – отличается от европейской толпы. А потом огромность Англии доходит до вас, и на время вы теряете ощущение, что вся нация имеет единый, узнаваемый характер. Да и есть ли действительно такая вещь, как нация? Разве мы – не сорок шесть миллионов индивидуумов, очень разных? А разнообразие ее, а хаос! Стук деревянных подошв в промышленных городах Ланкашира, мчащиеся грузовики на магистрали Лондон – Эдинбург, очереди перед биржами труда, треск механических бильярдов в пивных Сохо, старые девы на велосипедах, едущие к заутрене в осеннем тумане, – всё это не просто фрагменты, но характерные фрагменты английской жизни. Как сложить целое из этой неразберихи?
Но поговорите с иностранцами, почитайте иностранные книги или газеты, и вы вернетесь к той же мысли – да, есть что-то особенное и своеобразное в английской цивилизации. Это культура, такая же самобытная, как в Испании. Почему-то она ассоциируется с плотными завтраками и хмурыми воскресеньями, дымными городами и извилистыми дорогами, зелеными полями и красными почтовыми ящиками. У нее собственный аромат. Кроме того, она непрерывна, она простирается в будущее и в прошлое, что-то в ней не умирает, она сохраняется, как живое существо. Что общего у Англии 1940 года и Англии 1840-го? А что общего у вас с пятилетним ребенком, чью фотографию ваша мать держит на камине? Ничего, кроме того, что вы один и тот же человек.
И главное, это ваша цивилизация, это вы. Вы можете проклинать ее или смеяться над ней, но вдали от нее никогда не будете счастливы. Пудинги на сале и красные почтовые ящики запали вам в душу. Хорошее или плохое – это ваше, вы часть этого, и до гроба будете носить отметины, которые оно оставило на вас.
Вместе с тем, Англия, как и остальной мир, меняется. И как все остальное, меняться может только в определенных направлениях, которые, до какой-то степени, можно предвидеть. Это не значит, что будущее предопределено, просто одни варианты возможны, а другие нет. Семя может прорасти или не прорасти, но из семени репы никогда не вырастет свекла. Поэтому, прежде чем гадать о том, какую роль может играть Англия в нынешних грандиозных событиях, очень важно попытаться определить, что такое Англия.
2
Национальные характеристики трудно выделить, а если и выделишь, они зачастую оказываются тривиальными или как будто бы никак не связанными между собой. Испанцы жестоки, как животные, итальянцы ничего не могут сделать, не подняв страшный шум, китайцы склонны к азартным играм. Очевидно, что такие определения сами по себе ничего не значат. Однако ничто не бывает без причины, и тот факт, что у англичан плохие зубы, может кое-что сказать о реалиях английской жизни.
Вот несколько обобщений касательно Англии, на которых сойдутся почти все наблюдатели. Одно – англичане художественно не одарены. Они не музыкальны, как немцы или итальянцы, живопись и скульптура никогда не переживали такого расцвета в Англии, как во Франции. Другое – среди европейцев англичане не интеллектуалы. Абстрактная мысль вызывает у них отвращение, смешанное с ужасом, они не испытывают нужды в какой-либо философии или систематическом «мировоззрении». И не потому, что они «практичны», как они любят себя характеризовать. Стоит только присмотреться к их методам городского планирования и водоснабжения, к тому, как упрямо они цепляются за все устарелое и неудобное, к системе правописания, не поддающейся никакому анализу, к системе мер и весов, понятной только составителям учебников по арифметике, – и сразу видно, как мало они озабочены простой эффективностью. Но у них есть некая способность действовать не размышляя. Их всемирно прославленное лицемерие – например, двуличное отношение к империи – с этим связано. Кроме того, в моменты тяжелого кризиса весь народ способен вдруг сплотиться и действовать как бы инстинктивно, а на самом деле в соответствии с кодексом поведения, почти каждому понятным, хотя никогда не формулируемым. Фраза, которой Гитлер охарактеризовал немцев, – «народ лунатиков», больше подошла бы англичанам. Хотя такое определение не повод для гордости.
Стоит отметить одну второстепенную черту англичан, ярко выраженную, но редко обсуждаемую, – любовь к цветам. Это чуть ли не раньше всего бросается в глаза, когда приезжаешь в Англию из-за границы, особенно из Южной Европы. Противоречит ли это английскому безразличию к искусствам? На самом деле, нет, потому что эту любовь обнаруживаешь в людях, напрочь лишенных эстетического чувства. Однако она связана с другой чертой англичан, настолько для нас характерной, что мы ее почти не замечаем, – это приверженность к разного рода хобби и досужим занятиям, с глубоко частным характером английской жизни. Мы – народ цветоводов, но также собирателей марок, голубятников, столяров-любителей, вырезателей купонов, метателей дротиков, разгадывателей кроссвордов. Вся подлинно близкая сердцу культура сосредоточена вокруг вещей, если даже и общественных, но не официальных: пивная, футбольный матч, садик, кресло перед камином и «добрая чашка чая». В свободу личности верят до сих пор, почти как в девятнадцатом веке. Но это не имеет ничего общего с экономической свободой, с правом эксплуатировать других ради прибыли. Это – свобода иметь собственный дом, делать что хочешь в свободное время, самому выбирать для себя развлечения, а не чтобы их выбирали для тебя наверху. Самый противный для англичанина персонаж – тот, кто сует нос в чужие дела. Очевидно, разумеется, что эта частная свобода – дело проигранное. Как и все современные народы, англичан уже нумеруют, классифицируют, мобилизуют, «координируют». Но инстинкты англичан направлены в противоположную сторону, и регламентация, которую им могут навязать, примет несколько иные формы. Без партийных съездов, без молодежных союзов, без одноцветных рубашек, без травли евреев и «стихийных» демонстраций. И без гестапо, по всей вероятности.
Но обыкновенные люди во всех обществах должны жить более или менее вопреки существующему порядку. Подлинно народная культура Англии есть нечто существующее под поверхностью, неофициально, и власти смотрят на нее скорее неодобрительно. Приглядевшись к простым людям, особенно в больших городах, замечаешь, что они отнюдь не пуритане. Они неутомимые игроки, пьют столько пива, сколько позволяет заработок, обожают грязные анекдоты и сквернословят, наверно, больше любого народа на свете. Эти свои вкусы они вынуждены удовлетворять при наличии поразительно ханжеских законов (законы о продаже спиртного, закон о лотереях и т. п.), которые написаны так, чтобы вмешиваться в жизнь каждого, но на практике ничему не мешают. Кроме того, простые люди лишены определенных религиозных убеждений – и таковы уже не первый век. Англиканская церковь никогда не имела над ними настоящей власти, она была просто заповедником мелкопоместного дворянства, а нонконформистские секты влияли только на меньшинство. И все же народ сохранил глубокое христианское чувство, при том что почти забыл имя Христа. Культ силы – новая религия Европы, заразившая английскую интеллигенцию, – не затронула простых людей. Они никогда не следили за державной политикой. «Реализм», проповедуемый итальянскими и японскими газетами, привел бы их в ужас. Об английском духе можно многое понять по комическим цветным открыткам, которые видишь в витринах дешевых канцелярских магазинов. Это нечто вроде дневника, в котором англичане бессознательно изображают себя. Здесь отразились их старомодные взгляды, их классовый снобизм, смесь похабства и лицемерия, их мягкость, глубоко моральное отношение к жизни.
Мягкость английской цивилизации – возможно, самая заметная ее черта. Ее замечаешь сразу, едва ступив на английскую землю. Это земля, где кондукторы автобусов не раздражаются, а полицейские не носят револьверов. Как ни в одной другой стране, населенной белыми, тут можно безнаказанно столкнуть прохожего с тротуара. Отсюда же происходит и то, что европейские наблюдатели списывают на «вырождение» или лицемерие, – английское отвращение к войне и милитаризму. Оно коренится в истории и сильно выражено у рабочего класса и в более бедных слоях среднего. Войны могли его поколебать, но не уничтожили. Еще свежи в памяти те времена, когда «красномундирных» ошикивали на улицах, а хозяева приличных заведений не пускали солдат. В мирный период, даже при двух миллионах безработных, трудно укомплектовать крохотную регулярную армию, где офицерами служат мелкопоместные дворяне или особая прослойка среднего класса, а рядовыми – сельскохозяйственные рабочие и пролетарии из трущоб. В массе же народ лишен военных познаний и традиций, и по отношению к войне позиция его оборонительная. Ни один политик не вылезет наверх, посулив завоевания или воинскую «славу». Никакой гимн ненависти еще не находил у людей отклика. В прошлой войне песни, которые сочиняли и пели по собственной воле солдаты, были не воинственными, а насмешливыми и мнимо-пораженческими2. Единственным врагом, которого называли вслух, был старшина.
«Не хочу вступать в проклятую армию,Не хочу идти на войну;Больше не хочу скитаться,Я бы лучше сидел домаИ жил на содержании у шлюхи». Но воевали они не с таким настроением. –Примеч. авт.
The free sample has ended.