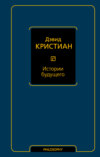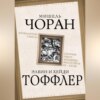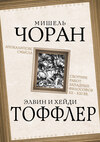Read the book: «Шок будущего»
© Alvin Toffler, 1970
© Перевод. А. Анваер, 2025
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025
* * *
Посвящается Сэму, Роуз, Хайди и Карен, моим самым близким в жизни людям…
Введение
Это книга о том, что происходит с людьми, когда их потрясают перемены. О способах, какими мы адаптируемся – или не адаптируемся – к будущему. О будущем было написано очень много. Но книги о нем буквально издают холодный металлический скрежет. Книга же, которую вы сейчас держите в руках, наоборот, посвящена «мягкой», или человеческой, стороне завтрашнего дня. Это скромное сочинение описывает шаги, и мы с помощью них, вероятно, достигнем этого «завтра». Они включают в себя самые обыденные повседневные дела и вещи – продукты, которые мы покупаем и выбрасываем, ускоряющееся мелькание проходящих через нашу жизнь людей. В книге детально рассматриваются дружба и семейная жизнь. Исследуются странные новые субкультуры и стили жизни вместе с целым сонмом других тем: от политики и спорта до прыжков с парашютом и секса.
Все эти вещи – и в книге, и в жизни – связывает одно: бурный поток перемен, ставший сегодня настолько мощным, что он опрокидывает учреждения, меняет человеческие ценности и засушивает наши корни. Перемены – это процесс, в ходе которого будущее вторгается в нашу жизнь, и к ним следует внимательно приглядеться, и не с дальней исторической перспективы, но и с точки зрения того, как живет и дышит человек, их переживающий.
Ускорение изменений в наше время – стихийная сила. Оно порождает как личностные и психологические, так и социологические следствия. На следующих страницах автор впервые попытается систематически исследовать эти эффекты ускорения. Уверен, что если человек быстро не научится управлять скоростью изменений в своих личных и общественных делах, то мы обречены на масштабный адаптационный провал.
В 1965 году в статье, опубликованной в Horizon, я впервые употребил термин «шок будущего» для описания сокрушительного потрясения и дезориентации, какие мы порождаем в индивидах, подвергая их мощным изменениям в течение слишком короткого времени. Под влиянием этого термина я провел следующие пять лет посещая десятки университетов, центров, лабораторий и государственных ведомств; я прочитал множество статей и докладов; побеседовал буквально с сотнями экспертов по различным аспектам изменений, по адаптивному поведению и футурологии. Своей озабоченностью изменениями, тревогами по поводу адаптации и страхами в связи с будущим со мной делились нобелевские лауреаты, хиппи, психиатры, врачи, бизнесмены, профессиональные футурологи, философы и педагоги. Набравшись опыта, я проникся двумя тревожными убеждениями.
Во-первых, шок будущего перестал быть отдаленной потенциальной опасностью, нет – это реальная болезнь, которой уже страдает неуклонно возрастающее число людей. Такое психобиологическое страдание можно описать медицинскими и психиатрическими терминами. Это болезнь перемен.
Во-вторых, я постепенно осознал, как мало на самом деле знают о способности к адаптации и те, кто призывает к великим переменам, и те, кто якобы готовит нас к навыкам справляться с ними. Серьезные интеллектуалы храбро толкуют об «обучении переменам» или о «подготовке людей к будущему». Но мы практически ничего не знаем о том, как это делается. В ситуации стремительных перемен, равных которым человечество прежде не переживало, мы остаемся весьма невежественными в вопросе о том, как приспосабливается к переменам животное, называемое человеком.
Наши психологи и политики явно озадачены иррациональным сопротивлением, каким встречают перемены определенные индивиды и группы. Глава корпорации, желающий реорганизовать свой отдел, педагог, мечтающий внедрить новый метод преподавания, мэр, стремящийся добиться расового примирения в городе, – все они в тот или иной момент сталкиваются с этим слепым сопротивлением. Но мы мало знаем о его источниках. Иными словами, почему одни люди стремятся к переменам, делая все, что в их силах, для этого, а другие бегут от новшеств, как от чумы? Я не нашел готовых ответов на эти вопросы, но обнаружил, что у нас даже нет адекватной теории адаптации, а без нее мы едва ли сможем когда-либо найти ответы.
Таким образом, цель этой книги заключается в том, чтобы помочь нам наладить отношения с будущим, то есть более эффективно справляться с личными и социальными изменениями за счет углубления нашего понимания того, как люди на них реагируют. Для достижения поставленной цели необходимо создание новой обобщающей теории адаптации.
Это также заставляет обратить внимание на важное, однако часто недооцениваемое различение. Исследование воздействия перемен сосредоточено на цели, к какой они направлены, а не на скорость движения к ней. В этой книге я постарался показать, что скорость изменений имеет иное, а подчас и более важное значение, нежели их направление. Не увенчается успехом ни одна попытка осознать природу адаптивности, пока не будет понят и принят этот факт. Любой способ определить «содержание» изменения должен включать влияние его темпа, как части содержания.
Уильям Огборн в своей знаменитой теории культурного лага показал, как социальные стрессы возникают из-за разной скорости изменения в секторах общества. Концепция шока будущего – и производная от нее теория адаптации – позволяет с вероятностью предполагать, что баланс должен существовать не просто между скоростями изменений в разных слоях общества, но и между высокой скоростью внешних изменений и ограниченной скоростью человеческой реакции на них, поскольку дело в том, что шок будущего вырастает из увеличения лага между этими двумя скоростями.
Однако в этой книге я намерен сделать нечто большее, нежели просто представить новую теорию. Я хочу продемонстрировать и метод. Прежде люди изучали прошлое, надеясь пролить свет на настоящее. Я развернул временное зеркало, будучи убежденным в том, что связный образ будущего тоже сможет пролить свет бесценного прозрения на наше настоящее. Нам будет невероятно трудно постичь наши личные и общественные проблемы без использования будущего как полезного инструмента. На следующих страницах я обдуманно и целенаправленно буду использовать этот инструмент, чтобы показать, на что он способен.
И последнее, однако не менее важное: эта книга должна изменить и читателя, пусть в малозаметном, но весьма важном смысле. По причинам, которые станут понятными в ходе дальнейшего изложения, умение успешно справляться со стремительными изменениями потребует от большинства из нас усвоения иного отношения к будущему, нового, способного к адекватной оценке осознания роли, какую будущее играет уже сегодня, в настоящем. Эта книга задумана как средство усиления осознания читателем надвигающегося будущего. Степень, в какой читатель после прочтения книги задумается о нем, попытается его предвидеть и предвосхитить, станет одним из аспектов ее полезности.
Покончив с этими положениями, я хочу перейти к оговоркам. Нам всегда приходится иметь дело с вероятностью факта. Каждый репортер со стажем имеет опыт работы со стремительно делающими крутые повороты сюжетами, которые меняют форму и смысл, прежде чем первое слово ложится на бумагу. Сейчас весь мир представляет собой быстро меняющийся сюжет. Разумеется, в книге, процесс написания которой длился несколько лет, кое-какие факты могли устареть и потерять актуальность за период, прошедший между подготовкой и написанием и выходом книги в свет. Профессора университета А за это время перешли в университет Б. Политики, придерживавшиеся позиции X, стали придерживаться позиции Y.
При всех добросовестных усилиях, предпринятых в период написания книги ради ее актуальности, некоторые факты, приведенные в «Шоке будущего», безнадежно устарели и должны быть оставлены. (Конечно, это характерно для многих книг, хотя их авторы не любят об этом упоминать.) Устаревание данных имеет, однако, особое значение, поскольку само по себе подтверждает отстаиваемый в книге тезис о быстроте изменений. Авторам становится труднее идти в ногу с реальностью. Мы пока не научились задумывать, исследовать, писать и публиковать написанное в режиме «реального времени». Таким образом, читателям следует сосредоточиться на главной теме, а не на мелких деталях.
Надо сделать еще одну оговорку относительно глагола «будет». Ни один серьезный футуролог никогда не опускается до «предсказаний». Их оставляют телевизионным «оракулам» и газетным астрологам. Ни один человек, имеющий хотя бы отдаленное представление о сложностях предсказания, не станет претендовать на обладание абсолютным знанием завтрашнего дня. Говорят, что на эту тему есть изысканно-ироничная китайская пословица: «Пророчествовать трудно – особенно в отношении будущего».
Это означает, что каждое высказывание о нем должно быть, по справедливости, оснащено гирляндой спецификаторов, таких как «если», «и», «но» и «с другой стороны». Однако для того, чтобы добиться соответствующего качества в книге такого рода, автору придется «затопить» читателя лавиной всяческих «может быть». Я избрал иную тактику, я выражаюсь твердо, без колебаний, полагаясь на стилистическое чутье умного читателя. Слово «будет» надо всегда читать так, словно ему предшествует невидимое слово «вероятно» или выражение «по моему мнению». Точно так же, все данные, приложенные к будущим событиям, следует воспринимать с известной долей критики.
Неспособность точно и определенно рассуждать о будущем не является, однако, оправданием молчания. Там, где доступны «железные данные», их, конечно, необходимо брать в расчет. Но там, где их нет, ответственный автор, будь он даже ученым, имеет право и обязанность полагаться и на другие виды доказательств, включая привлечение данных впечатлений и описания отдельных случаев, а также использовать мнения хорошо информированных людей. Я поступаю так на протяжении всей книги и не прошу за это извинений.
Имея дело с будущим, по крайней мере в контексте целей этой книги, важнее проявлять воображение и интуицию, нежели стараться всегда быть на сто процентов «правым». Теориям необязательно быть «правыми» для того, чтобы стать полезными. Пользу можно отыскать даже в ошибках. Карты мира, рисованные средневековыми картографами, были совсем неточными, переполненными такими фактическими ошибками, что сегодня, когда на них нанесена практически вся поверхность земного шара, могут вызвать лишь снисходительную улыбку. Но без этих карт великие мореплаватели никогда не открыли бы Новый Свет. Сегодняшние, улучшенные карты не были бы составлены, если бы люди, работавшие с ограниченными, доступными им данными, не дерзнули нанести на бумагу свои смелые представления о мирах, которых они не видели.
Те, кто исследует будущее, во многом похожи на этих древних составителей географических карт, и именно в их духе в этой книге представлена концепция шока будущего и теории диапазона адаптации – не как окончательная картина мира, а как первое приближение к новым реальностям, исполненным опасностей и обещаний, реальностям, созданным неустанно действующим ускоряющим толчком.
Часть первая
Смерть стабильности
Глава 1
Восьмисотое поколение
Через три десятилетия, отделяющих нас от двадцать первого века, миллионы обычных, психически здоровых людей внезапно столкнутся лицом к лицу с будущим. Граждане богатейших и технологически наиболее развитых стран в большинстве своем ощутят нарастающую болезненность необходимости идти в ногу с переменами, что является характерной чертой нашего времени. Для таких людей будущее наступит слишком скоро.
Это книга о переменах и о том, как к ним приспосабливаться. Она о тех, кто благоденствует на них, кто с наслаждением скользит по их волнам, а также о множестве других людей, которые будут сопротивляться им или пытаться убежать от них. Это книга о нашей способности к адаптации. Она о будущем, о том шоке и потрясении, какие оно принесет с собой.
На протяжении последних трехсот лет западное общество охвачено огненным штормом перемен. Он далек от прекращения, наоборот, как выясняется, шторм только теперь набирает силу.
Перемены прокатываются по индустриально развитым странам ускоряющимися волнами невиданной мощи. Они оставляют за собой самую разнообразную социальную флору – от психоделических церквей и «свободных университетов» до наукоградов в Арктике и клубов обмена женами в Калифорнии.
Волны эти выводят также особые породы странных личностей: детей, в двенадцать лет не похожих на детей; взрослых, которые в пятьдесят остаются двенадцатилетними детьми. Появились богатые люди, изображающие нищих, и компьютерные программисты, увлекающиеся ЛСД. Существуют анархисты, под их грязными джинсовыми куртками скрываются отъявленные конформисты, и конформисты, под безупречными костюмами которых прячутся настоящие анархисты. Появились женатые священники, священники-атеисты и иудеи-буддисты. У нас есть поп-культура и оп-культура… есть «кинетическое искусство»… Возникли клубы кутил и кинотеатры гомосексуальных фильмов… Есть гнев, изобилие и забвение. Очень много забвения.
Можно ли объяснить эту странную сцену, не прибегая к сленгу психоаналитиков или малопонятным клише экзистенциалистов? Какое-то новое общество, очевидно, внезапно рождается прямо среди нас, на наших глазах и при нашем участии. Можно ли его понять, придать какую-то форму его развитию? Как с ним поладить?
Многое из того, что поражает нас своей необъяснимостью, станет намного понятнее, если мы свежим взглядом оценим невероятную скорость изменений, которая порой заставляет реальность смотреться как сломавшийся калейдоскоп. Дело в том, что ускорение изменений не просто больно бьет по отраслям экономики или целым странам. Это конкретная сила, глубоко проникающая в нашу личную жизнь. Она заставляет нас разыгрывать новые для нас роли и угрожает нам опасностью новой и катастрофической психической болезни. Эту болезнь можно назвать «шоком будущего», а знание ее причин и симптомов поможет объяснить многие вещи, которые в противном случае ускользнут от рационального анализа.
Неподготовленный посетитель
В популярный лексикон уже начинает проникать параллельный термин – «культурный шок». Культурным шоком называют воздействие, оказываемое на неподготовленного человека его погружением в незнакомую и чуждую культуру. Волонтеры «Корпуса мира» страдают от него на Борнео и в Бразилии, вероятно, культурный шок поразил и Марко Поло в Катаи. Культурный шок – то, что происходит, когда путешественник внезапно оказывается в месте, где «да» означает «нет», где о «фиксированной цене» можно поторговаться, где долгое ожидание в приемной не считают оскорблением, где смех служит признаком гнева. Культурный шок – то, что происходит, когда знакомые психологические сигналы, помогающие индивиду адекватно действовать в обществе, заменяются другими – странными и непостижимыми.
Феномен культурного шока лежит в основе смущения, фрустрации и дезориентации, преследующих американцев при их столкновении с другими обществами. Культурный шок приводит к нарушению адекватного общения, к неверному пониманию реальности, к неспособности справляться с ситуациями. Тем не менее культурный шок относительно мягок в сравнении с более серьезной болезнью – с шоком будущего. Шок будущего – это головокружительная потеря ориентации, вызванная преждевременным наступлением будущего. Вероятно, это самая серьезная болезнь завтрашнего дня.
Шок будущего не удастся найти в Index Medicus или в перечне психических отклонений. Тем не менее, если не будут предприняты разумные меры по борьбе с шоком будущего, миллионы человеческих существ ощутят нарастающую дезориентацию, почувствуют неспособность рационально поступать в окружающей их среде. Соматические болезни, массовые неврозы, иррациональность и разгул насилия, которые присутствуют в нашей современной жизни, являются лишь предвестниками того, что ждет нас впереди, если мы не разберемся в этой болезни и не начнем ее лечить.
Шок будущего – это временной феномен, производное от быстро ускоряющегося темпа изменений в обществе. Возникает он в результате наложения новой культуры на старую. Это культурный шок в пределах собственного, «родного» общества. Но воздействие его намного хуже. Дело в том, что большинство волонтеров «Корпуса мира», да и многие путешественники утешаются тем, что они скоро вернутся в культуру, которую оставили лишь на короткое время. Жертвам шока будущего это утешение будет недоступно.
Заберите индивида из его родной культуры и внезапно переместите его в окружение, сильно отличающееся от привычного, в окружение с другим набором социальных сигналов, на которые ему приходится реагировать – на иные концепции времени, пространства, работы, любви, религии, секса и всего остального, – затем лишите его всякой надежды на возвращение в более привычный социальный ландшафт, и он получит расстройство. тяжелое вдвойне. Более того, если эта новая культура сама находится в постоянном хаотичном смятении и если – что еще хуже – непрерывно меняются ее ценности, то чувство растерянности и дезориентации усилится. Имея мало ориентиров, подсказывающих, какое именно поведение является разумным в абсолютно новых условиях, жертва шока будущего может стать источником опасности для себя и других.
Теперь вообразите не только индивида, но и целое общество, целое поколение, включая его слабейших, наименее образованных и наиболее иррациональных членов, неожиданно перенесенное в этот новый мир. В результате возникнет массовая дезориентация – широкомасштабный шок будущего.
Такова перспектива, с которой сегодня человек сталкивается лицом к лицу. Перемены, словно лавина, обрушиваются на наши головы, и большинство людей совсем не готовы справляться с ними.
Разрыв с прошлым
Не является ли все сказанное мною преувеличением? Думаю, нет. Стало модным говорить, что переживаемые нами сейчас феномены есть «вторая промышленная революция». Этой фразой предполагается впечатлить нас скоростью и глубиной происходящих вокруг перемен. Но, помимо того, что это утверждение абсолютно банально, оно вводит в заблуждение. То, что происходит сейчас, при всем сходстве, является намного более масштабным, глубоким и важным, нежели промышленная революция. Действительно, все более весомым становится мнение, согласно которому нынешнее движение является не чем иным, как вторым водоразделом человеческой истории, а он по своей величине может сравниться только с первым великим переломом в историческом континууме, с переходом от варварства к цивилизации.
Эта идея все чаще находит отклик в работах ученых в области науки и техники. Сэр Джордж Томсон, британский физик и лауреат Нобелевской премии, в своей книге The Foreseeable Future предполагает, что ближайшей исторической параллелью сегодняшнего дня является не промышленная революция, а скорее «изобретение земледелия в эпоху неолита». Джон Дибольд, американский специалист по автоматизации, предупреждает, что «воздействие технологической революции, которую сегодня мы переживаем, будет глубже воздействия любого социального изменения, пережитого нами в прошлом». Сэр Леон Багрит, британский производитель компьютеров, настаивает на том, что автоматизация сама по себе являет собой «величайшее изменение за всю историю человечества».
Не одни только ученые и инженеры придерживаются подобных взглядов. Сэр Герберт Рид, специалист по философии искусств, утверждает, что мы переживаем «революцию столь фундаментальную, что нам будет трудно найти адекватную параллель в прошлых веках. Вероятно, единственное, с чем ее можно сравнить, это изменения, происходившие на рубеже между палеолитом и неолитом». А Курт Марек, больше известный под псевдонимом К. В. Керама, автор книги «Боги, гробницы и ученые», отмечает, что «в двадцатом веке мы завершаем продолжавшуюся пять тысяч лет эру человеческой истории. Мы не предполагаем, вслед за Шпенглером, что находимся в ситуации Древнего Рима в эпоху зарождения христианского Запада; нет, сейчас мы в ситуации четвертого тысячелетия до новой эры. Теперь мы, как доисторический человек, открываем глаза и видим абсолютно новый мир».
Одно из самых поразительных утверждений прозвучало из уст Кеннета Боулдинга, выдающегося экономиста и оригинального социального мыслителя. В поддержку своего утверждения о том, что настоящий момент представляет собой решающий. поворотный пункт в человеческой истории, Боулдинг замечает, что «в том, что касается совокупности статистических данных о человеческой деятельности, дата, разделяющая человеческую историю на две равные части, имела место на памяти ныне живущих людей». Наш век представляет собой великую разделительную полосу, проходящую через центр человеческой истории. В подтверждение он говорит: «Сегодняшний мир отличается от того мира, в котором я родился, как он, в свою очередь, отличался от мира эпохи Юлия Цезаря. Я родился, на сегодняшний день, в середине человеческой истории. С момента моего рождения произошло намного больше нового, чем до него».
Это поразительное заявление можно проиллюстрировать множеством примеров. Было подсчитано, что если последние пятьдесят тысяч лет существования человечества разделить на сроки продолжительности жизни приблизительно по шестьдесят два года каждый, то мы получим в сумме около восьмисот поколений. Из этих восьмисот люди провели в пещерах полных шестьсот пятьдесят.
Только в течение последних семидесяти поколений, благодаря изобретению письменности, стала возможной полноценная связь между поколениями. Только в течение последних шести поколений массы людей впервые познакомились с печатным словом. В течение жизни лишь последних четырех поколений стало возможным с приемлемой точностью измерять время. Прошло только два поколения с тех пор, как был впервые использован электромотор. Но подавляющее большинство материальных благ, которыми сегодня мы пользуемся в обыденной жизни, были придуманы и сделаны в течение жизни последнего, восьмисотого поколения.
Это восьмисотое поколение практически порвало со всем прошлым человеческим опытом, потому что именно в течение жизни этого поколения коренным образом изменилось отношение человека к ресурсам. Особенно заметно это в экономическом развитии. В течение жизни всего одного поколения сельское хозяйство, некогда бывшее основой цивилизации, теряет свое доминирующее положение во многих странах. Сегодня в дюжине развитых стран в сельском хозяйстве занято менее 15 процентов экономически активного населения. В Соединенных Штатах, где фермы кормят 200 миллионов американцев и еще 160 миллионов человек по всему миру, в сельском хозяйстве занято менее 6 процентов населения, и эта доля продолжает быстро сокращаться.
Более того, если сельское хозяйство является первой стадией экономического развития, а промышленность – второй, то сейчас мы наблюдаем уже третью стадию, в которую мы вошли внезапно. В 1956 году Соединенные Штаты стали первой страной, в которой более 50 процентов рабочей силы, не занятой в сельском хозяйстве, перестало трудиться на фабриках и заводах, то есть заниматься физическим трудом. Синие воротнички были по численности оттеснены на второй план так называемыми белыми воротничками, людьми, занятыми в розничной торговле, администрации, связи, науке, образовании и других сферах услуг. В течение жизни всего одного поколения общество впервые в человеческой истории не только сбросило с себя ярмо сельского хозяйства, но и за несколько промелькнувших как одно мгновение десятилетий сумело избавиться и от ярма физического труда. Родилась сервисная экономика, экономика услуг.
С тех пор в том же направлении начали двигаться и другие развитые страны. Сегодня в тех странах, где уровень занятости в сельском хозяйстве составляет 15 процентов и ниже, белые воротнички по численности превзошли синих воротничков; это произошло в Швеции, Британии, Бельгии, Канаде и Нидерландах. Десять тысяч лет на сельское хозяйство. Столетие или два на промышленность. Теперь же на наших глазах рождается супериндустриализм (постиндустриальное общество?1).
Жан Фурастье, французский экономист и социальный философ, объявил, что «ничто не может быть менее индустриальным, чем цивилизация, рожденная промышленной революцией». Значение этого потрясающего факта нам еще только предстоит осмыслить и усвоить. Вероятно, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций У Тан точнее других оценил значение сдвига в сторону постиндустриального общества (супериндустриализма), когда заявил, что «главная, исполинских масштабов истина о развитых современных экономиках заключается в том, что они могут получить кратчайшим путем ресурсы любого типа и размера, которые они решили иметь… Теперь не ресурсы ограничивают решения, а решения создают ресурсы. Это фундаментальное революционное изменение – возможно, самое революционное из всех пережитых до сих пор человечеством». Монументальные сдвиги произошли в течение жизни одного восьмисотого поколения.
Это поколение отличается от всех других еще и удивительным масштабом и объемом изменений. Конечно, в прошлом жили и другие поколения, на жизнь которых пришлись эпохальные сдвиги. Войны, эпидемии, землетрясения и голод потрясали и намного более ранние социальные порядки. Но те потрясения и сдвиги были ограничены одним сообществом или захватывали небольшую группу расположенных по соседству обществ. Требовались поколения или даже века на то, чтобы влияние этих перемен распространилось за свои первоначальные границы.
При жизни нашего поколения границы буквально взорвались и лопнули. Сегодня сеть социальных связей сплетена так туго, что последствия происходящих событий мгновенно распространяются по миру. Война во Вьетнаме меняет основы политических отношений в Пекине, Москве и Вашингтоне, вызывает протесты в Стокгольме, влияет на финансовые операции в Цюрихе, запускает тайную дипломатическую активность в Алжире.
На самом деле быстро распространяются не только современные события – можно сказать, что сегодня мы по-новому переживаем воздействие событий далекого прошлого. Прошлое снова воздействует на нас. Нас захватывает феномен, который можно было бы назвать «смещением во времени».
Событие, которое затронуло горстку народов в то время, когда оно происходило, сегодня может иметь масштабные последствия. Например, по современным меркам Пелопонесская война может считаться мелкой вооруженной стычкой. В то время как Афины, Спарта и несколько близлежащих городов-государств сражались, остальное население земного шара либо вообще ничего не знало об этой войне, либо относилось к ней абсолютно равнодушно. Индейцев, живших в Мексике в то время, та война вообще не затронула. На древних японцев она тоже не влияла.
Тем не менее Пелопонесская война решительно и глубоко изменила дальнейший ход греческой истории. За счет перемещения людей, географического перераспределения генов, ценностей и идей эта война повлияла на дальнейшие события в Риме и во всей Европе. Сегодняшние европейцы стали в определенной степени другими людьми именно потому, что произошел тот древний конфликт.
В свою очередь, в нашем тесно переплетенном мире эти европейцы влияют на мексиканцев так же, как и на японцев. Какой бы след ни оставила Пелопонесская война на генетическом портрете народов, идеи современных европейцев переносятся сейчас во все уголки мира. Таким образом, сегодняшние мексиканцы и японцы ощущают отдаленное воздействие той войны, несмотря на то что их жившие в ее время предки этого не чувствовали. Таким вот образом события прошлого, казалось бы надежно отделенные от нас поколениями и веками, снова восстают, догоняют и меняют нас сегодня.
Когда мы думаем, например, не о Пелопонесской войне, а о строительстве Великой Китайской стены, об эпидемии чумы, о битве банту с хамитами – обо всех событиях прошлого, – всегда нарастает важность накопительного воздействия, оказываемого принципом временного смещения. То, что происходило в прошлом лишь с некоторыми людьми, сегодня влияет практически на всех. Вся наша история всегда пребывает с нами, и парадоксальным образом именно это нарастание масштаба акцентирует трудность разрыва с прошлым. Происходит фундаментальное изменение масштаба перемен. Они захватывают пространство и пронзают время, добиваясь в восьмисотом поколении того, чего им не удавалось достичь прежде.
Но в этом окончательном, качественном отличии нынешнего поколения от предыдущих есть одна особенность, которую часто упускают из виду. Дело в том, что мы не просто расширили границы и увеличили масштаб изменений, а радикально поменяли темп их наступления. Сейчас, в наши дни, мы высвободили совершенно новую социальную силу – поток изменений ускорился настолько, что подействовал на наше чувство времени, произвел революцию в темпе обыденной жизни, решительно повлиял на способ, каким мы «чувствуем» окружающий нас мир. Теперь мы уже «чувствуем» жизнь не так, как ощущали ее люди прошлого. Именно это и есть кардинальная разница, которая отделяет современного человека от всех остальных людей. Дело в том, что это ускорение лежит в основе нестабильности переменчивой скоротечности, пронизывающей содержание нашего сознания, сильно влияя на способы наших отношений с другими людьми, с материальными предметами, с вселенной идей, искусства и ценностей.
Чтобы понять, что с нами происходит по мере нашего движения в направлении эры супериндустриализма, мы должны проанализировать процессы ускорения и испытать на прочность концепцию текучести и быстротечности, а без понимания роли, которую ускорение играет в поведении современного человека, все наши теории личности, да и психология, застрянут на пороге модерна, так и не переступив его. Психология без концепции текучести и скоротечности никогда не сможет с требуемой точностью учесть те феномены, которые являются по преимуществу современными.
Изменяя наше отношение к окружающим нас ресурсам, насильственно раздвигая горизонты перемен, ускоряя темп их развития, мы необратимо порвали с прошлым. Отрезали себя от старых способов мышления, чувствования и адаптации. Мы оснастили сцену общества абсолютно новыми декорациями и стремительно движемся к созданию иного общества. Это главный вопрос, основная проблема восьмисотого поколения. И именно это заставляет ставить вопрос о способности человека к адаптации – какую цену заплатит он за вход в это новое общество? Приспособится ли к его императивам? И если нет, то сможет ли он каким-то образом изменить эти императивы?
Излюбленный термин Кеннета Боулдинга «постцивилизация» употребляется как противопоставление будущего общества «цивилизации» – эре стабильных обществ, сельского хозяйства и традиционных войн. Трудность с этим термином заключается в том, что он якобы намекает на то, что после цивилизационной стадии развития общества наступит эпоха варварства. Боулдинг отрицает эти обвинения с тем же жаром, с каким отстаивает свой термин Белл. Выбор Збигнева Бжезинского – «технотронное общество». Этим термином он обозначает общество, в первую очередь основанное на передовых средствах коммуникации и электронике. Против этого можно возразить, что выпячивание роли технологии, причем специфической отрасли технологии, не оставляет места для социальных аспектов общества.
Затем, конечно, существуют «глобальная деревня» и «электрический век» Маршаллa Маклюэнa – еще одна попытка описать будущее в терминах пары весьма узких измерений: коммуникации и коллективизма. Возможно применение и других терминов: трансиндустриальное, постэкономическое и т.д. Я считаю, что с учетом всего сказанного и сделанного наилучшим термином является «супериндустриальное общество». У него тоже, разумеется, есть недостатки. Им я намерен обозначить сложное, быстро развивающееся общество, зависящее от передовой технологии и основанное на постматериалистической системе ценностей.– Здесь и далее примеч. автора.