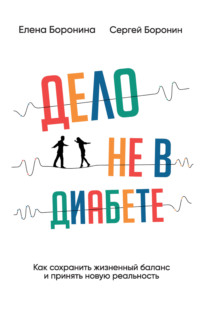Read the book: «Дело не в диабете. Как сохранить жизненный баланс и принять новую реальность», page 2
Глава 1. Манифестация
Первое, что чувствует человек, у которого манифестирует сахарный диабет 1-го типа, – страх. Непонимание: «Что со мной будет дальше? Что делать? Почему именно я?»
Когда диабет приходит, важно вовремя и правильно среагировать, потому что именно в этот момент закладывается будущее отношение человека к своему диагнозу: будет ли он воспринимать его как болезнь или нет, будет ли он относиться к нему как к препятствию или, наоборот, это станет для него вызовом.
Сергей:
– Заболеть диабетом в 80-е годы означало столкнуться с тем, что большинство окружающих тебя людей даже не знают, что это за болезнь. Справляться с ней в те годы было сложно: очень много ограничений. Нет человеческих инсулинов, только животные: свиной, говяжий. Но их качество и степень очистки не позволяют поддерживать хороший уровень глюкозы в крови. И поэтому тебе назначают безуглеводную диету, 9-й стол. Нельзя даже яблоки. Инсулин колешь огромными шприцами с толстыми иглами, которые нужно было стерилизовать самостоятельно, на плите. Никаких шприц-ручек тогда не было, как и глюкометров. Жили по ощущениям: оперативно проверить уровень сахара было просто невозможно…
Поэтому отношение к людям с диагнозом «сахарный диабет 1-го типа» было соответствующим. Казалось, столько ограничений – ну как поверить, что жизнь не изменится? Сейчас люди с диабетом ведут активный образ жизни, стремятся повышать ее качество, а тогда перед заболевшим в первую очередь стояла задача выжить.
Елена:
– Это два разных мира – мир, когда заболел Сережа и когда заболела я. В 90-е годы (а я заболела в 1994-м) было уже значительно легче. Уже появились шприцы с тонкими иглами, шприц-ручки, глюкометры, быстродействующие человеческие инсулины. Поэтому ограничения в питании были не такие строгие. Да, жизнь после манифестации болезни менялась, но уже не так драматично, как за 5–10 лет до этого. Мне было уже проще справляться с заболеванием самостоятельно.
Раньше диагноз «сахарный диабет 1-го типа» был довольно редким, и поэтому человеку было страшно: ему казалось, что он теперь инвалид и жизнь навсегда полна запретов. Сейчас все больше людей понимают, что с диабетом можно заниматься спортом, создавать семьи, рожать детей. Болезнь больше не определяет, какой будет твоя жизнь, – это определяешь только ты сам.
КЛЮЧИ ДЛЯ ЖИЗНИ: диабет не определяет, какой будет твоя жизнь, – это определяешь ты сам.
Мы с мужем заболели в разных условиях и в разное время, но, несмотря на разницу обстоятельств, отношение к диагнозу у нас сложилось очень похожее: мы не воспринимаем диабет как диагноз, который мешает нам и управляет жизнью. Отношение к заболеванию закладывается в момент манифестации и зависит от того, как он был прожит.
КЛЮЧИ ДЛЯ ЖИЗНИ: мы не воспринимаем диабет как диагноз, который управляет нашей жизнью. Мы подстраиваем диабет под нашу жизнь.
История Елены
«Я благодарна, что меня никто не водил за ручку после того, что произошло»
– Какой сахарный диабет? У вас прекрасный ребенок, что вы тут, мамочка, нервы себе делаете? – Врач в тушинской больнице успокаивала мою маму, которая привела девятилетнюю меня сдавать кровь на сахар. Я пила много воды, каждые 10 минут бегала в туалет, похудела, осунулась, и моя бабушка-медик забила тревогу. Мама отвезла меня в больницу.
К врачу меня повезли сразу после школы, взяли кровь на сахар. Медсестра передала результаты моих анализов врачу, у той моментально округлились глаза: уровень глюкозы 32,7 при норме до 5,5! При этом я не впала в кому: у меня не успел развиться кетоацидоз. Я оставалась вполне активной, перекусила бананом и даже собиралась после приема врача ехать на занятия в музыкалку!
Естественно, никуда я не поехала. Меня в этот же день положили в больницу – и не в какую-то, а в главный научный эндокринологический центр, куда на тот момент было не так просто попасть. Здесь изучали детский диабет, поэтому родители сделали все, чтобы меня положили на обследование именно туда.
Папа примчался ко мне уже вечером, после службы. Когда я увидела очертания его большой фигуры в дверном проеме – фуражка, форма, в спешке накинутый медицинский халат, – мгновенно расслабилась, обрадовалась, что он рядом. Значит, все будет хорошо. А потом посмотрела на его лицо – таким я его никогда не видела. Растерянность, шок, страх… Он очень испугался за меня тогда, как и мама.
Спустя годы я понимаю, что стало триггерным событием для развития диабета. Моим «спусковым крючком» был стресс из-за разлада в семье.
Долгое время, маленькая, я по ночам не могла уснуть, то проваливаясь в сон, то просыпаясь от напряженных споров родителей в соседней комнате.
– Почему они опять ругаются… – бормотала я сквозь сон, укрывая уши подушкой, чтобы не слышать из раза в раз повторяющееся слово «развод» из родительской спальни. Потом начинала плакать. – Как хочется, чтобы они не разводились. Чтобы все было хорошо, как раньше…
Так продолжалось около года. Все это время родители находились на грани развода. На меня как на ребенка, легко считывающего эмоции близких, это сильно повлияло: я плакала ночами, переживала, была в постоянном стрессе. Все это, скорее всего, привело к появлению первых симптомов диабета. Уже много позже мы узнали, что стресс может стать спусковым крючком к развитию некоторых аутоиммунных заболеваний.
Когда меня положили в центр на обследование, я даже обрадовалась: ура, середина весны, на улице теплеет, а я пропускаю школу! Таким уж я всегда была человеком: во всем искала плюсы, даже в том, что у меня обнаружили диабет. С другими детьми мы несколько раз в день сдавали кровь, стояли в очереди на посту медсестры. На второй день мне это надоело.
– Ты не знаешь, быстро эта болезнь лечится? Сколько еще нужно лежать в больнице? – спросила я у девочки, стоявшей передо мной в очереди. Она посмотрела на меня сочувственно:
– Тебе что, не сказали, что это неизлечимое заболевание? – Так я узнала, что СД1 – это на всю жизнь. Меня это шокировало. Я заплакала: подумала, что навсегда останусь в больнице.
Уже потом ко мне в палату пришел врач, успокоил меня, сказал, что другие ребята прекрасно живут с диабетом, что врачи поправят мне здоровье за недельку и отпустят. Меня это действительно утешило.
Я проходила обследование в 1994 году, и уже на тот момент у врачей в центре был очень грамотный подход к детям с диабетом. Нам не делали никаких поблажек, наоборот, объясняли: самое важное, чему мы должны научиться, – справляться со своим заболеванием самостоятельно. Неважно, сколько тебе лет – шесть, восемь или девять, – ты должен научиться измерять сахар, сам себе делать уколы. Конечно, этому обучали и родителей: мама проходила вместе со мной школу диабета, помогала рассчитывать углеводы и дозировки инсулина, но уколы я делала себе сама, как и остальные манипуляции.
Время в больнице пролетело очень быстро, скоро я вернулась в школу. Когда я достала глюкометр и поставила его на парту, ко мне сбежался весь класс.
– Что это у тебя?
– Покажи!
– А где ты была, в больнице? – любопытные одноклассники не унимались. Я решила объяснить им все сама, иначе поток вопросов не иссякнет.
– У меня сломалась поджелудочная железа, – гордо объявила я, обведя товарищей серьезным взглядом. – Я теперь буду колоть инсулин.
Больше меня никто ни о чем не спрашивал.
Учителя спокойно восприняли новость о моем диабете. Мама переживала, провожала меня в школу, объясняла педагогам, что у меня может быть гипогликемия на уроках, что я буду носить с собой глюкометр, а иногда прямо во время занятия могу выпить сок или перекусить. Поэтому в школе к этому относились спокойно, никто меня не обижал и не акцентировал внимание на том, что я теперь «какая-то другая».
Домашняя жизнь нашей семьи тоже не особенно изменилась. Думаю, немаловажную роль сыграла правильная позиция врачей: родителей никто не запугивал, не рассказывал ужасы формата «ваш ребенок теперь инвалид», «у вашей дочки не будет детей»… Доктора грамотно и спокойно объяснили им, что такое СД1 и как с ним жить.
– Ваше счастье в этом несчастье в том, что ваша дочь заболела сейчас, а не пять или десять лет назад, – как-то сказала врач моей маме.
И это чистая правда. Мир изменился, и помогать самому себе с диабетом стало намного проще. Меня никто не водил за ручку, не мучил гиперопекой, не лишал самостоятельности. Да, мы всей семьей стали питаться правильнее, но на семейных праздниках по-прежнему всегда на столе были торт и газировка. Да, родители за меня переживали, заботились обо мне, но они занимались и своей жизнью. А у меня были и личное пространство, и возможность самостоятельно сориентироваться в заболевании. Поэтому я научилась заявлять о себе и своем состоянии, не стеснялась поднять на уроке руку и выйти из класса, чтобы вовремя купировать гипогликемию и не упасть в обморок.
Бывает и по-другому. Я знаю истории, когда жизнь ребенка диаметрально меняется после того, как становится известно о его диабете. Происходит это не из-за самого заболевания, как могло бы показаться. Очень сильно влияет отношение к ребенку со стороны взрослых: родителей, учителей, врачей. Дети, к которым взрослые относятся как к инвалидам, чаще чувствуют себя жертвой обстоятельств и болезни, им труднее адаптироваться к переменам в жизни. Если с момента манифестации жизнь ребенка кардинально меняется, если из-за диагноза к нему начинают иначе относиться родители, учителя, одноклассники, то он неизбежно станет воспринимать диабет как болезнь, которая управляет его жизнью. Но в действительности диабет управляет жизнью человека только в том случае, если тот позволяет ему это сделать.
КЛЮЧИ ДЛЯ ЖИЗНИ: важно не дать жизни ребенка после манифестации кардинально измениться. Если из-за диагноза к нему начинают иначе относиться близкие, то он неизбежно воспримет диабет как болезнь, которая управляет его жизнью.
История Сергея
«Я не мог позволить себе быть слабым. Мне было важно быть лучшим, несмотря на диабет»
Я достаточно рано понял, что диабет не будет занимать первое место в моей жизни. Да, безусловно, важное – но точно не первое. Он не сможет помешать мне создать семью, пробежать марафон или взойти на вершины гор. Все возможно, если я этого по-настоящему хочу.
Не знаю, когда эта мысль впервые пришла мне в голову. Наверное, она зарождалась постепенно, по мере того как я учился справляться с диабетом. А столкнулся я с ним достаточно рано – мне было пять лет.
КЛЮЧИ ДЛЯ ЖИЗНИ: «Я достаточно рано понял, что диабет не будет занимать первое место в моей жизни. Да, безусловно, важное – но точно не первое».
Я был хулиганистым мальчишкой, с годовалого возраста жил с родителями в военном городке в Германии. С самого детства меня окружали солдаты, которые рассказывали армейские истории, подкармливали конфетами, катали на машинах…
У меня была большая компания друзей, все – дети военных, ребята разных возрастов. У тех, кто постарше, было любимое развлечение: выбегать из военного городка и дразнить местных подростков. Ничего криминального, просто безобидные шутки. Как-то я выбежал вместе со всеми и тоже кричал разные обзывательства, это было очень весело. Но в какой-то момент за мной погнался мальчишка лет пятнадцати – по сравнению со мной, пятилеткой, настоящий бугай. Я жутко перепугался, вернулся домой и проспал 12 часов, не просыпаясь.
Этот испуг и стал триггером, запустившим манифест моего диабета. Родители не могли понять, что со мной. Врачи из военного госпиталя толком не знали, что такое диабет, даже не могли его заподозрить и продолжали кормить меня конфетами. Мне поставили диагноз «энурез». Так все и продолжалось, пока кто-то из докторов не решил взять у меня кровь на сахар. Пришли анализы, сахар – 24! Мне тут же поставили капельницу, потом положили в военный госпиталь.
И вот я лежу с капельницами на обеих руках, по другую сторону ширмы – солдат с простреленной ногой. Можно себе представить, как интересно мне было с ним разговаривать. Так я лежал целую неделю, и единственным моим развлечением были разговоры с этим солдатом…
– Мы не знаем, что делать. Тут военный госпиталь, мы не до такой степени разбираемся в детской эндокринологии, чтобы вести такое сложное заболевание. Вам надо ехать в Москву. – И врачи посоветовали отцу Морозовскую больницу. Меня повезли туда.
Все для меня было шоком. Я был резвый ребенок, хулиган, все свое время проводил на улице. Солдаты, военный городок, постоянно какие-то развлечения. А тут – бац! – и московская больница, огромные шприцы с толстыми иголками, свиной, говяжий инсулин… Когда мне впервые делали укол, меня, пятилетнего, держали человек шесть – так сильно я сопротивлялся.
Уже потом я переехал в Нальчик, жил там с бабушкой, папиной мамой, она была медсестрой. Пока родители заканчивали дела в Германии и готовились к возвращению в Союз, я жил в доме, где рос мой отец. Музыка с пластинок дедушки и бабушки, горные реки, дружелюбные и улыбчивые кабардино-балкарцы… И горы, конечно: величественные, они восхищали меня еще в детстве так, что дыхание перехватывало, – кажется, уже тогда впервые появилась мечта взойти на Эльбрус. У меня сохранились очень приятные воспоминания об этом периоде, но жить с диабетом тогда было очень сложно. Сейчас думаю: как я тогда выжил?
– Бабушка, я очень пить хочу. – Мы ехали в автобусе, и мне нестерпимо хотелось воды.
– Успокойте вы уже мальчика, что он канючит? Доедет до дома и попьет! – Пассажирам казалось, что я капризничаю. Сейчас я понимаю, что сахар в тот момент зашкаливал, но тогда определить это было невозможно. Сейчас проще: измерил сахар прямо на ходу, если гипогликемия – выпил сок, если повышенный сахар – ввел инсулин на помпе или сделал укол шприц-ручкой. В 80-е ничего из этого не было, жить с диабетом было намного сложнее.
В Советском Союзе, а тем более в Нальчике, никто не знал, что такое гипогликемия. Глюкометров не было, оперативно проверить сахар было нельзя… Сахарный диабет 1-го типа был редким заболеванием, люди не знали о его симптомах, не могли понять даже элементарное требование организмом воды. Больницы были плохо оборудованы, обработка инструментов хромала на обе ноги: однажды мне занесли гепатит через капельницу и потом еще полгода от него лечили.
Когда родители вернулись из Германии и забрали меня, мама не стала выходить на работу, чтобы ухаживать за мной. В условиях того времени ребенку с диабетом действительно требовалось больше внимания и ухода: мама кормила меня практически безуглеводной пищей, порционно. Это требовало времени и сил, но, возможно, это меня спасло: по-другому жить с диабетом без глюкометров и современных инсулинов было нельзя.
Впервые я понял, как сильно мама за меня боялась, когда случайно зашел в ее комнату и увидел, как она сидит на кровати со шприцем в руках. Помню, как ее тонкие пальцы дрожали от страха, когда она «прицеливалась».
– Мама, а что ты делаешь? – Я испугался, подумал, что она тоже заболела. Иначе зачем ей делать себе уколы?
– Сережа, все хорошо. Я просто готовлюсь уколоть тебе инсулин. Подожди немного, пожалуйста. Я тренируюсь. – Мама старалась казаться спокойной, но я видел, что ей страшно. Она боялась за меня, боялась делать мне эти уколы, не меньше меня боялась огромных иголок и шприцев… Делала все, чтобы я этого страха не заметил. Но я замечал всё: и страх, и синяки на ногах, которые она себе наставила, пока тренировалась вводить иглу подкожно.
Отец, как и мама, переживал, старался дать мне все лучшее, особенно если это касалось лечения. Папа – человек военной выправки, офицер, живший по принципу «меньше слов – больше дела». Он сохранял холодный рассудок, старался не показывать своих эмоций. Но сейчас я понимаю, как ему тяжело было тогда: поддерживать и меня, и маму, при этом и самому не давать слабину, и мне не позволить ее проявлять.
Он умудрялся находить для меня редкие, дефицитные вещи и продукты, которые могли бы облегчить мне жизнь. В позднем СССР с этим было сложно, но он все делал, чтобы я был здоров. Как-то ему сказали: «Вашему сыну нужно пить „Боржоми“». 1985 год, в стране тотальный дефицит, а у меня через несколько дней в палате – целый ящик культовой грузинской минералки…
Воспитывал меня отец по-военному, со строгой дисциплиной.
– Папа, ну суббота же, я хочу поспать… – Но отец не обращал внимания на выходные. Каждое утро будил меня спозаранку, чтобы я сделал зарядку. Я иногда капризничал: хотелось отоспаться.
– Нет, вставай, зарядка! – Приходилось вставать, заниматься. Отлынивать не получалось. И сейчас я благодарен отцу за это: он не считал меня «не таким, как все» и уж тем более инвалидом. Относился ко мне как к обычному мальчишке, был по-военному строг, как и всегда. Поэтому, наверное, я и вырос с убеждением, что диабет не должен ограничивать мои возможности и желания. Все зависит только от меня самого.