Королевство крестоносцев
Text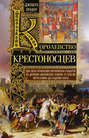


Go to audiobook
- Size: 650 pp. 14 illustrations
- Genre: Medieval history, General history, popular history, Theology, history of religion
Королевская процессия выходила из храма Гроба Господня и шла узкими улицами к храму Господню, где король возлагал свою корону на алтарь, что символически изображало представление Младенца Иисуса, принесенного в храм, старцу Симеону. Отсюда королевский кортеж шел к [разрушенному] храму Соломона (мечети Аль-Акса), где устраивался торжественный пир, поскольку этот храм некогда был королевским дворцом.
Пир устраивали горожане Иерусалима, для которых это было одновременно и обязанностью, и привилегией, под наблюдением сенешаля. Использованные блюда и кубки становились его собственностью. Королевского коня с роскошной сбруей и попоной получал коннетабль. Во время пира перед королем держали скипетр.
Только семь из девяти правителей крестоносцев Первого королевства короновались в Иерусалиме, тогдашней столице страны. Среди них не было Готфрида Бульонского и Балдуина I, короновавшегося в Вифлееме. Только один правитель Второго королевства получил корону в Иерусалиме. Фридрих II Гогенштауфен, отлученный от причастия папой и патриархом, взял корону с алтаря храма Гроба Господня и возложил ее на себя (1299). Все остальные правители были коронованы в Тире, втором городе королевства. В отсутствие патриарха проводил церемонию архиепископ (второй по рангу после патриарха Иерусалимского). Но даже если коронации совершались в Тире, основные торжества проходили в Акре, официальной столице Второго королевства.
Строгое соблюдение закона как королем, так и дворянами было краеугольным камнем в системе управления королевством. Короли Иерусалима, как это имело место в случае со всеми средневековыми властителями, правили и как монархи, и как феодалы. При этом реальная власть имела своим источником феодальные отношения. Знаменательно, что, в то время как во всех официальных документах короли титуловали себя rex или rei (написанные на французском языке акты появляются с 1211 г.), в юридических договорах обычно используется термин chief seigneur (главный сеньор). Он ни в коей мере не имел уничижительного значения. Это просто означало, что в рутинных делах управления страной король осуществлял свою власть, находясь на вершине феодальной пирамиды. Сеть феодальных связей и зависимостей образовывала каркас государства и общества, и право правителя на доминирование в этой структуре было основой его реальной власти.
Власть не была абсолютной и деспотической. Ее характер зависел от того, в какой мере удавалось добиться гармонии противоположных интересов короля и его вассалов. Институциональным инструментом, с помощью которого можно было добиться сотрудничества, а в иных случаях он мог стать и угрозой политике короля, была встреча короля и его прямых вассалов – главных владельцев ленов – в королевском суде Curia regis, названном крестоносцами Haute Cour (Верхняя палата). Каждое новое правление начиналось со встречи короля со своими вассалами в Верхней палате. Связи феодального вассалитета, которые согласно закону переставали существовать с исчезновением одной из договаривающихся сторон (в этом случае речь шла о почившем короле), восстанавливались вновь после принесения клятвы верности и совершения оммажа. В исключительных случаях, когда было неясно, кто может стать наследником трона, для решения вопроса еще до коронации собиралась Верхняя палата, которая устанавливала легитимность претендентов.
Настоящее правление начиналось с принесения феодалами клятв сразу же после коронации. Дворяне, выстроившись согласно своему рангу, опускались на одно колено перед королем и присягали ему на верность. Каждый дворянин признавал себя человеком короля, и затем подтверждалось его право на владение феодом. И вслед за этим приносилась уже сама клятва в верности. В конце XIII в. разница между этими двумя клятвами была незначительной. Клятва в верности приносилась на Евангелии, и она не включала в себя взаимное обещание короля, как было в случае оммажа. Первая клятва носила более общий характер, и ее обязательства были взаимными.
Вассальные клятвы, которые приносили сразу после коронации, давали только высшие чиновники государства, дворяне, владельцы ленов и рыцари королевского домена. Но затем наступало время сорока дней, когда король был особенно занят. Начиная с последней четверти XII в. все владельцы феодов (за исключением только непредвиденных случаев) должны были принести клятву и получить подтверждение их права на земельные владения в течение 40 дней, в противном случае они могли их потерять. В правление короля Амори, когда был принят важный законодательный акт Иерусалимского королевства Assise sur la ligece (Ассиза о принесении обета верности сеньору, около 1 170 г.), не только главные владельцы ленов, но и каждый держатель фьефа должен был приносить присягу. Это значило, что клятву верности должны были принести 600 раз, по числу военнообязанных рыцарей. Возможно, их было больше. Сенешаль мог заменять короля при совершении этой утомительной церемонии, принимая присягу простых рыцарей.
В отдельных случаях, когда король сомневался в лояльности некоторых знатных феодалов, он мог потребовать принесения дополнительной присяги. Теперь уже от жителей городов, находившихся на их землях. Вряд ли все жители клялись в верности; за них это могли сделать присяжные Городской палаты, присягая королю или его представителю, тем самым подтверждая верность всех граждан.
Позднее, во второй половине XIII в., в торжественном заседании Верхней палаты начали принимать участие высшие иерархи церкви и магистры духовно-рыцарских орденов, главы итальянских коммун и, наконец, представители новых общественных институтов, таких как городские братства, которые заняли видное положение в то время анархии, которое наступило после крестового похода Фридриха II. Они отказались от своей пассивной роли и лично сами присягали на верность новому правителю. В тот период, когда феодальные связи ослабли, а государство и общество находились под угрозой распада, такая клятва могла иметь хоть какое-то практическое значение. Но это также свидетельствовало о закате феодального строя.
На протяжении двухсот лет своего существования Иерусалимское королевство прошло через несколько этапов развития. При сравнении с теми событиями, что происходили в то время в Европе, можно сказать, что институт монархии развивался в противоположном европейскому направлении. Европейские монархи накануне 1-го Крестового похода только начинали закладывать основы своей будущей власти. Король Франции Людовик VI был стеснен в передвижениях в пределах границ Иль-де-Франса. Короли Иерусалима обладали гораздо большей властью как в теории, так и на практике. В середине XIII в., когда в Западной Европе правили такие влиятельные личности, как Фридрих II, Святой Людовик X и Эдуард I, от короля Иерусалима осталась только тень.
Несмотря на то что первый правитель Иерусалима принял на себя скромное звание Защитника Гроба Господня, правил он твердой рукой, не проявляя ни малейшей слабости. Социальный состав класса воинов, сложившегося за время 1-го Крестового похода, способствовал существованию сильной монархии. На протяжении жизни более чем одного поколения королевский дом не имел никаких соперников, потому что ни один дворянин не мог похвастаться достаточно благородным происхождением и не обладал сильной властью, чтобы бросить вызов монарху. Поскольку положение класса воинов зависело от щедрости короля, их верность была гарантирована. Тем не менее не только отсутствие могущественной аристократии было положительным фактором для королей Иерусалима. Новое государство, чтобы выжить, прежде всего нуждалось в сильном властителе. Централизованное государство Англия сложилось, как многие утверждают, в результатах двух завоеваний: Нормандии – викингом Роллоном (91 1) и Англии – Вильгельмом Завоевателем (1066). В некотором смысле это было верно и для Латинского королевства. На протяжении первых десяти лет после завоевания Иерусалима королевство постоянно находилось в состоянии войны, и король был первым и основным командующим армии. Все его другие обязанности были вторичны. В этих обстоятельствах было невозможно следовать принципу разделения властей. Тем не менее в условиях формирования феодальной структуры короли Иерусалима проводили очень взвешенную внутреннюю политику, которая часто выражалась в нежелании наделять дворян новыми феодами. Готфрид Бульонский больше надеялся на доходы от городов, чем от феодов, дарованных его верным воинам, и Балдуин I проводил ту же политику. Однако отсутствие административной инфраструктуры, которая могла бы обеспечить эффективное управление на местном уровне, привело к раздаче феодов и созданию сеньорий.
В первой половине XII в. королевский домен был довольно большим. Он включал в себя почти всю древнюю Иудею и Самарию, а также побережье от Яффы до Аскалона, где находились земельные владения (апанаж), раздававшиеся отпрыскам королевской семьи. К домену относились главные порты страны – Акра и Тир, а также отдельные земли и замки. На протяжении пяти царствований от Готфрида Бульонского до Балдуина III земельные владения короны были больше и богаче всех остальных феодов, вместе взятых. Более того, на протяжении некоторого времени после завоевания дворяне редко передавали свои феоды наследникам, которые после их смерти отходили к короне.
Подобное положение начало медленно меняться во второй четверти столетия. Некоторые дворяне, наделенные фьефами, дали начало наследственным династиям. Некоторые отдаленные территории, такие как Трансиордания (образованная в 1115 г. и переданная в феод в 1140 г.), изменили баланс между владениями феодалов и собственностью короны. Но даже в это время перемен королевская власть сохранила свою силу. Законодательные акты, которые, возможно, восходят к временам Балдуина III (1143–1162), правление которого едва ли отличалось чем-либо новым в этой области, давали королю право конфискации фьефов без суда у их владельцев по разным причинам. Некоторые из них, такие как подстрекательство к бунту крестьян против короля, были признаваемы уважительной причиной в любом феодальном суде. Но перечень наказаний за другие правонарушения показывал, насколько королевская власть сохранила свои полномочия в середине XII в. Такие действия, как открытие морского порта и торгового пути в мусульманские страны, чеканка своей монеты и подделка королевских монет, сразу же влекли за собой наказание без решения суда. Это были королевские прерогативы и монопольные права, которые, несмотря на существование независимых сеньорий, монархи Иерусалима сумели удержать за собой. Более того, вплоть до конца XII в. корона сохраняла право надзора за земельными владениями феодалов. Это касалось не только сферы закона, существовали и другие области, в которых сеньоры не были свободны от королевской опеки. Присутствие короля в любом сеньориальном суде сразу же делало его «королевским». Верховенство королевской власти объясняет тот факт, что соглашения с итальянскими коммунами, что касалось также городов, расположенных на землях сеньории, заключала сама корона.
Влияние королевской власти на церковь было значительным. Первые попытки преобразовать королевство в церковное государство провалились, и даже просьбы патриарха передать Иерусалим и Яффу во временное владение церкви, хотя на это было получено согласие Готфрида Бульонского, так и не были удовлетворены. Та же просьба, с которой вновь обратились к королю, теперь уже Балдуину I, была столь же безуспешной. Единственным следствием этих обращений было появление патриаршего квартала в Иерусалиме вокруг храма Гроба Господня. Довольно странно, но церковь так никогда и не обрела политического веса в «королевстве Креста». О конфликте по поводу инвеституры, потрясшем европейское христианство, здесь было неизвестно. Фактически, несмотря на обращения к Риму по спорным вопросам выборов и симонии, король Иерусалима имел решающее влияние на выборы епископа. Следуя традиции, получившей письменное оформление в середине XII в., король имел право выбрать епископа из трех кандидатов, предложенных капитулом. Более того, во многих случаях король непосредственно влиял на выбор кандидатов, выдвигая своих фаворитов.
В середине XII в. аристократия укрепила свое положение за счет короны. Это выяснилось довольно скоро после принятия нового законодательства, которое способствовало росту владений баронов и укреплению их автономии. Споры о наследовании короны, возникшие, когда Балдуин III достиг совершеннолетия, привели к кратковременной гражданской войне (1152) с вдовствующей королевой Мелисендой, стремившейся к власти. Эта борьба, в процессе которой обе соперничавшие партии нуждались в помощи дворянства, сильно скомпрометировала монархию. Минуло одно поколение, и вновь вспыхнули споры за наследство после смерти отважного Балдуина IV Прокаженного (1185). Придворной партии, которую возглавили вдовствующая королева Агнес де Куртене, ее дочь Сибилла, не раз выходившая замуж, и Лузиньяны, противостояли местные дворяне, ведомые Раймундом III Триполийским, правителем Галилеи (граф Триполи с 1152 г., князь Галилейский и Тиверский с 1171 г.). Хотя королевская партия победила, новый король Ги де Лузиньян (1 186–1 190), муж Сибиллы и наследник ребенка-короля Балдуина V (1185–1186), никогда не пользовался уважением своих дворян и так и не смог вернуть утерянный престиж короне.
В этот период, незадолго до катастрофы в битве при Хат-тине (близ Тивериадского озера), проявилась новая тенденция в отношениях между монархией и дворянами. Два больших магната, Рено де Шатильон, правитель Трансиордании, и Раймунд III, граф Триполи и князь Галилеи, вели себя как независимые властители. Каждый из них проводил свою внешнюю политику. Так, Рено де Шатильон разорвал договор о мире, который гарантировал ему права прохода караванов из Египта в Дамаск, а Раймунд позволил мусульманам совершить набег на королевство через территорию Галилеи. Фатальный исход битвы при Хаттине (1187) окончательно подтвердил слабость монархии, и за власть стали соперничать магнаты-крестоносцы.
Ничто так не характеризует сложившееся положение, как тот факт, что вожди 3-го Крестового похода Ричард Львиное Сердце и Филипп II Август согласились поделить свои будущие завоевания, как будто в королевстве не существовало никакой законной власти. Быстрота, с какой европейские короли предложили корону Иерусалимского королевства сначала Конраду Монферратскому (1 190–1 192), а затем Генриху, графу Шампани (1192–1197), являет собой еще один пример беспомощности монархии.
С восшествием на престол Жана де Бриена (1210–1225) начало казаться, что для королевства, теперь сократившегося до одной пятой первоначальной территории, наступают времена стабильности. Но вскоре крестоносцы выступили в поход на Дамиетту в дельте Нила, и папский легат Пелагий заявил, что земли, завоеванные в Египте, не принадлежат Латинскому королевству. Жану пришлось убеждать папу, после того как поход провалился, что необходимо защитить права королевства в случае завоевания новых территорий в будущем крестовом походе.
Приход к власти в королевстве Фридриха II Гогенштауфена (1225–1243) означал окончательный упадок королевской власти. Среди множества титулов, что он носил, – «Император римлян», «Король германцев», «Король Сицилии» – титул «Король Иерусалима» был почетным, но не приносившим материальной выгоды. Прагматичный Гогенштауфен всегда был готов воспользоваться своими привилегиями крестоносца, но не воспринимал достаточно серьезно свои вытекающие из этого обязательства. Когда решалась судьба его германских и итальянских владений, Святая земля больше не фигурировала в его планах. Его известный крестовый поход, его блестящий успех, вызванный им скандал в христианском мире, когда отлученный от причастия крестоносец короновал сам себя в храме Гроба Господня, в то время как Иерусалим находился под интердиктом, – все это, вместе взятое, едва ли могло укрепить позиции монархии в распадавшемся государстве. После отъезда Фридриха из Святой земли в 1229 г. вплоть до 1243 г. правил его сын Конрад IV (скончался в 1254 г.), но королевская власть была фиктивной, потому что новый король так и не посетил ни разу Святую землю. Центральная власть полностью прекратила свое существование, на ее место пришли дворянство, духовно-рыцарские ордена и итальянские коммуны. Фарс с признанием в 1243 г. регентами принцессы Алисы (внучки короля Амори) и ее мужа Рауля де Суасона принес им только ни к чему не обязывающий титул и не дал никакой власти. Дворяне заявили, что это было сделано во имя закона, чтобы защитить права Конрада, сына франкской принцессы Изабели (дочери Жана де Бриена) и высокомерного Фридриха II. Печальный эпилог деяний героических королей.
Последние три монарха из династии Лузиньянов, бывшие королями Кипра, стали по праву наследования королями Иерусалима. Все усилия Гуго III (1268–1284), Жана I (1284–1285) и Генриха II (1285–1291) сохранить земли королевства, которые представляли собой не более чем несколько городов на побережье, были патетическими и напрасными. Все это означало только дополнительное финансовое и военное бремя для Кипра в отсутствие всякой надежды на европейское вмешательство и возвращение потерянных территорий. В 1277 г. корона Иерусалима была продана (с санкции Рима) Карлу I Анжуйскому, что было театральным действом, и совсем не созидательным. Отсутствующий претендент вытеснил на время Лузиньянов, но так и не стал правителем страны. С другой стороны, представители рода Лузиньянов, которые восстановили свое право на трон, правили с согласия духовно-рыцарских орденов и коммун, которые не признавали монарха, когда им это было выгодно. Когда Акру осадили в последний раз (1291), король Кипра и Иерусалима отважно проник в город и защищал его до тех пор, пока не была потеряна последняя надежда. Тогда он покинул последний христианский бастион в Святой земле и отправился на Кипр, свое островное королевство.
Глава 8
Система управления
Королевский двор Иерусалима претерпел много изменений с тех пор, как воины 1-го Крестового похода избрали своего первого правителя в храме Гроба Господня. Рост благосостояния королевства в XII в., соприкосновение с жизнью Востока и наглядный пример сказочных восточных дворов, их атмосфера, кухня и одеяния, сильно повлияли на двор франков на Востоке. Когда в конце XII в. дворы Европы посетила миссия из Латинского королевства, то зажиточные жители западных стран были поражены внешним видом ее участников – женоподобных, в роскошных одеждах, сильно надушенных и увешанных драгоценностями. Это посольство состояло из представителей церкви, которые приехали, чтобы просить финансовой помощи от Запада! Надо заметить, что королевский двор едва ли уступал в блеске церковным посланникам.
Первый дворец королей Иерусалима располагался в великолепной мечети Аль-Акса. Здесь территория первоначального храма выходила к южным стенам Иерусалима. Королевский дворец смотрел на древний город Давида, долину Кедрон и Масличную гору. Мечеть сильно пострадала, когда ее захватил Танкред во время штурма города. Он водрузил свое знамя на куполе и избавил мечеть от всех ее сокровищ. Но суровые воины Франции, должно быть, почувствовали, что сказка о прекрасном Востоке стала явью.
В этом дворце жили Готфрид Бульонский, Балдуин I и Балдуин II. Вероятно, при Балдуине II королевский дворец переехал из прекрасной мечети (недостатком которой было ее изолированное положение в редко населенном городе) в западную часть Иерусалима. Неясно, было ли построено новое здание королевского дворца или использована старая постройка; возможно, дворец разместился в бывшей резиденции главнокомандующего Фатимидов. Нам известно достоверно лишь то, что дворец был расположен вблизи цитадели, так называемой Башни Давида, и связан с ней. Цитадель лежала к северу, в то время как на западе дворец выходил к глубокому оврагу, который отрезал город от окружавшей его равнины, простиравшейся до кладбища Мамиллах. Это было традиционное место погребения горожан, а при крестоносцах оно стало кладбищем для духовенства храма Гроба Господня. На востоке обращенный к городу в пределах его стен дворец смотрел на греческий монастырь Святого Саввы и армянский монастырь Святого Иакова.
Как выглядел дворец, мы не знаем, так как не сохранились его описания того времени, и раскопки, подобные тем, что велись в окрестностях Башни Давида, не открыли нам свидетельств его былого величия. На карте Иерусалима XII в. дворец показан как здание в три или четыре этажа, окруженное стеной и фланкированное двумя круглыми угловыми башнями. Нижние этажи не видны за стеной; верхний этаж представлен в виде открытой галереи с аркадами. Крыша не плоская, что характерно для восточных стран, но западного типа с фронтоном, покрытая свинцовыми пластинами с декоративным узором.
Кроме Иерусалима королевские дворцы были в Акре и Тире. Дворец в Акре располагался в цитадели и стоял в центре внешней северной стены, по всей вероятности, в наиболее уязвимом месте оборонительных сооружений. Позднее он лишился своего военного облика, потому что в XIII в. новый пригород защитили прочным поясом стен. В итоге цитадель и дворец теперь были почти в центре столицы. Обычно замок служил резиденцией кастеляна, но на время визита короля и позже, когда король уже постоянно жил в Акре, он становился королевской резиденцией.
Как и во всех христианских странах Запада, Curia Regis (Суд короля) был главным органом государственного управления. Вероятно, примером в этой области была Франция. Этот факт легко объяснить, если принять во внимание происхождение правившей династии и класса воинов королевства. Однако следует заметить, что в начале XI в. различия между королевскими дворами Европы были незначительными. Двор Иерусалима, имевший консервативную природу, был подобен дворам норманнской Англии, Франции времен Капетингов и герцогов Нормандии, которые обладали реальной властью. Начав свое существование в сходных условиях, в течение XII в. европейские дворы выработали механизм управления, отвечавший процессам сосредоточения всей власти в руках монарха и новым реалиям экономической жизни. Процесс разграничения властных полномочий привел к тому, что Curia Regis стал колыбелью системы государственного управления. Выделились отдельные административная, судебная и законодательная власти. Подобного не случилось в Латинском королевстве. Его централизованная система управления закоснела на той стадии, которую она достигла где-то в 1125 г., поколение спустя с момента завоевания, и не претерпела коренных изменений вплоть до падения королевства в 1291 г. К концу существования Первого королевства (1187) этот механизм управления стал анахронизмом, а во времена Второго королевства он уже окончательно устарел.
Нелегко объяснить заторможенность его развития, а точнее, отсутствие развития. Видимо, сошлись вместе три главных фактора, которые сформировали его характерные особенности. Во-первых, нужно сказать о том, что первое поколение жило в условиях постоянных военных действий, не прекращавшихся с момента завоевания страны, что породило необходимость направить все усилия государства на решение вопросов ведения войны, дальнейшей экспансии и обороны. На этом этапе вопрос функционирования центрального аппарата управления, не говоря уже о необходимости системного развития административных функций, приобрел второстепенное значение. Особое внимание уделялось военным нуждам и эффективному управлению на местном уровне, необходимо было координировать усилия, чтобы обеспечить средствами существования короля и его вассалов, которые кое-как перебивались.
Второй фактор, который объясняет особенности развития Латинского королевства, связан с эволюцией феодализма как системы управления в государстве крестоносцев. Его отправной точкой были сильная монархия и подчинявшиеся ей дворяне-вассалы. Но если в XII в. в Западной Европе росло могущество монархии, боровшейся с центробежными тенденциями, и в итоге автономные административные единицы были интегрированы в состав королевства, то в Латинском королевстве наблюдались обратные процессы. Во второй половине XII в. нобилитет, или, выражаясь точнее, крупные магнаты стали доминировать в управлении страной. Королевские прерогативы были при молчаливом согласии сторон упразднены, и система эффективного управления сложилась на местном уровне, поскольку основные функции управления осуществлялись в рамках феодальных образований, настроенных враждебно к вмешательству центральных властей, и достаточно сильных, чтобы успешно противостоять им. Таким образом, для становления центральной администрации практически не оставалось возможностей.
Наконец, мы можем сделать еще один вывод из всего вышеперечисленного – это как бы иной аспект того же самого явления – и считать его третьим фактором, повлиявшим на развитие Латинского королевства. Этот фактор – образование Верхней палаты (la Haute Court), традиционного места встречи короля, который был ее председателем и судьей, и его вассалов для принятия совместных решений. Этот институт был выражением феодальной системы, для которой характерны патриархальные взаимоотношения. Однако в Латинском королевстве обязанность вассала «оказать помощь и дать совет» своему сеньору стала привилегией. В скором времени она была подтверждена сводом правил, которые обязывали короля не только просить совета, но также и следовать ему. В какой-то степени легитимность королевских решений стала зависеть от согласия Верхней палаты, которая тем самым могла воспрепятствовать планам короля и проведению его политики. Верхняя палата стала главной шестеренкой в механизме управления, который сильно ограничивал реальное правление короля и препятствовал созданию специализированных институтов.
В итоге королевский механизм управления хотя и развивался, но мало чем отличался от первоначального. Сохранялась опора на государственные учреждения, исторически восходившие к каролингской традиции управления вотчинами короля. Когда монархи Европы приступили к упразднению этих учреждений или преобразованию некоторых из них в почетные синекуры, Латинское королевство продолжало опираться на них как на единственные центральные исполнительные органы на протяжении двухсот лет своего существования.
Верхняя палата в наибольшей степени в сравнении с другими институтами характеризует Латинское королевство. Название палаты на латинском языке было Curia generalis (Высокая курия), на французском языке – Parlement. Только в юридических договорах ее называют Haute Court. Начиная с XII в. и до середины XIII в. в ее состав входили исключительно бароны. Впоследствии в нее вошли представители духовенства и горожан. В Верхней палате король встречался с теми ленниками, которые получили фьеф (была ли это сеньория, просто фьеф или фьеф-рента) непосредственно от него. Дарение королем фьефа и принесение его новым владетелем оммажа сеньору устанавливало законную связь между королем и его непосредственными вассалами. Как было принято, на встрече в Верхней палате присутствовали как крупные землевладельцы-бароны, так и вассалы королевского домена, которые были простыми рыцарями из королевской свиты, получавшие свои фьефы на условиях несения ими военной службы. На практике решающий голос имели только «магнаты» королевства. В «недемократичную» эпоху Средневековья имело значение не количество голосов, а их вес. Присутствие простых вассалов со своим мнением, если только они не были фаворитами при короле или входили в его свиту, было чисто декоративным.
Заседания Верхней палаты посещали не более двух десятков дворян (таковым было в основном число крупных землевладельцев), но обычно их было меньше. Согласно закону для кворума было необходимо присутствие только короля и трех крупных землевладельцев, но для того, чтобы успешно провести сессию суда, необходимо было также наличие специалистов.
В составе Верхней палаты в правление короля Амори в 1162 г. произошли значительные изменения. Известный законодательный акт Assise sur la ligese (Ассиза о принесении обета верности сеньору), влияние которого вскоре почувствовалось почти в каждой области общественной жизни, провозглашал, что отныне все владельцы фьефов в королевстве (как крупных, так и мелких) должны были приносить присягу на верность непосредственно королю. Тем самым они становились равными друг другу и получали право участвовать в заседаниях Верхней палаты. Это могло серьезно увеличить количество участников, поскольку в королевстве было более 600 держателей фьефов. Однако на практике простые вассалы посещали заседания палаты только в случае организации военного похода или другого экстраординарного события, и нам известны несколько таких случаев. Вполне возможно, что заседания Верхней палаты в Иерусалиме и Акре посещали местные рыцари, но они не влияли на принятие ее решений; в ней всегда преобладали магнаты.
Состав Верхней палаты изменился снова около 1232 г., когда в процессе революционного движения против Фридриха II Гогенштауфена, возглавляемого могущественными аристократами Ибелинами, возник новый общественный институт, который, оттеснив Верхнюю палату от власти на целых 12 лет, принял на себя его функции. Это была так называемая Коммуна Акры, в действительности собрание владельцев земельных владений, которая представляла «общину королевства» Иерусалима. Используя организационную форму братства, религиозной благотворительной ассоциации, патроном которой стал святой Андрей, это собрание превратилось в легальный революционный орган. Стремясь обеспечить себе широкую общественную поддержку, коммуна открыла свои двери рыцарям и дворянам, которые совместно с горожанами города принесли клятву взаимной верности и избрали руководителей коммуны. Эксперимент продолжался недолгое время, и вместе с исчезновением опасности со стороны Гогенштауфена, который якобы угрожал конституции, коммуна была распущена, и Верхняя палата вновь пришла к власти. Но это событие имело свои последствия. Например, была предпринята попытка ввести в Верхней палате обязательную официальную регистрацию в письменном виде рассматриваемых вопросов и принятых решений. Это имело место в 1250 г. во время пребывания Святого Людовика IX в Святой земле на совместном заседании Верхней палаты и Палаты граждан, представлявшей интересы горожан. Предложение о реформе не прошло, но идея проведения общественных дискуссий была замечательна уже сама по себе. Позднее, когда перестали проводить совместные заседания двух палат, в работе Верхней палаты были отмечены значительные изменения. Начиная с XII в. главы духовно-рыцарских орденов, не будучи вассалами короля в обычном значении слова, участвовали в заседаниях Верхней палаты. Их присутствие могло быть оправдано тем, что они имели большие земельные владения, но основной причиной было то, что они были едва ли не главной военной силой в королевстве. Присутствие высшего духовенства, также владельцев больших феодов, в действительности отражало их традиционное положение в христианском обществе. К дворянам, прелатам и главам рыцарских орденов в конце XII в. присоединились новые члены общества, что было следствием нового расклада сил в политике. Самыми важными среди них, вне сомнения, были представители самоуправлявшихся итальянских коммун. Их также на вполне законных основаниях можно было рассматривать как владельцев больших ленов, но право участвовать в заседаниях им опять же обеспечивала их морская мощь, военные отряды и значительные состояния. Представители Венеции, Генуи и Пизы участвовали во всех важных заседаниях Верхней палаты.
