Королевство крестоносцев
Text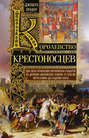


Go to audiobook
- Size: 650 pp. 14 illustrations
- Genre: Medieval history, General history, popular history, Theology, history of religion
Национальные коммуны
Характерной чертой социальной и политической организации королевства было существование национальных коммун: итальянской, прованской и испанской. Их юридический статус и положение в обществе являются отражением типичного колониального духа, который пронизывал все институциональные структуры латинского Востока. Термин «коммуна» был заимствован из Италии, где им называли политически независимые крупные городские центры в XXII вв. Он приобрел расширительное значение, и им стали обозначать коллектив людей той или иной национальности, селившихся в королевстве. Хотя они были европейцами и придерживались латинского обряда и тем самым принадлежали к правившим завоевателям, они не относились ни к дворянам, ни к горожанам, но формировали отдельный класс, имевший особый статус и специфические привилегии, отличные от привилегий как дворян, так и горожан. Если франки составляли небольшую группу завоевателей, основавших колониальное королевство, то коммуны были самыми первыми выразителями своеобразного духа колониализма, который спустя несколько столетий привел к образованию английских, французских и голландских торговых компаний. Но в то время как эти торговые компании были предтечей колониальных держав, коммуны в королевстве крестоносцев существовали в чужом для себя государстве и осознавали, что их члены никогда не станут гражданами страны проживания. Коммуны не подпадали под действие обычного права в королевстве, и им почти удалось стать государством в государстве. Почти все время они существовали в виде автономных политических единиц. Преследуя свои собственные цели, они были больше связаны с теми странами, откуда они вышли, чем со своей новой родиной. Можно сказать, что члены коммун не были постоянными поселенцами и их численность постоянно колебалась. Их целью было отправиться на Восток с явным намерением вернуться на Запад, как только они смогут обогатиться. Но даже те, кто оставался, никогда не считали себя гражданами страны. Если считать королевство крестоносцев европейской колонией на иностранной почве, то коммуны колонизировали колонию.
Они монополизировали обширную внешнюю торговлю королевства, почти все банковское дело и кораблестроение. Однако не их экономическая деятельность определяла их привилегированное положение. Длинный перечень «международных соглашений» между королями Иерусалима (а позднее и отдельными правителями приморских городов) и итальянскими городами определял социальный статус членов коммун. Эти привилегии были результатом итальянского вклада в завоевание. Сначала Генуя и Пиза, а затем и Венеция посылали свои флоты на Восток, которые сыграли важнейшую роль в захвате всего морского побережья. Без их тесного сотрудничества завоевание прибрежных городов потребовало бы более длительного времени или окончилось бы ничем.
За оказанные услуги, или, вернее, за услуги, которые следовало оказать, три больших города-государства потребовали компенсации. Хотя поступок этот выглядел не совсем благородно и в нем был торгашеский дух, в то время как христиане сражались по-рыцарски, но положение было тяжелым, и помощь итальянцев незаменима. Венецианцы высокопарно провозгласили, что они пришли сражаться за освобождение Святой земли. Однако это не помешало дожу, который участвовал в осаде Тира (1 124), потребовать себе во владение одну треть города и окружавших его территорий, а также почти полной отмены таможенных пошлин и других привилегий, благодаря чему Венеция получила такую же власть над этим большим северным портом, как и король. Ни архиепископ Пизы Даимберт, который командовал пизанским флотом у Яффы в 1 100 г., ни Эмбриако (Эмбриаци), одно из знатнейших аристократических семейств Генуи, принявшее участие в осаде Иерусалима, не преминули потребовать политических и экономических привилегий. Вожди крестоносцев настойчиво стремились захватить порты, обеспечить стране экономическое развитие и колонизовать ее, надеясь на будущие большие доходы, и потому вполне могли согласиться с непомерными требованиями итальянцев. Это было в их интересах – привлечь итальянского купца, значимую фигуру в европейской экономике и привязать его к молодому королевству. Если бы итальянцы получили все столь щедро даримые им привилегии, в руках новых правителей и поселенцев осталась бы лишь малая часть городов. Передача почти четвертой части всей собственности и наделение автономией различной степени – постоянная черта всех соглашений о даровании привилегий коммунам. Невозможно сказать, были ли все эти условия в текстах грамот результатом недосмотра дарителей, или же они были чистой формальностью. Однако обо всех этих привилегиях сохранились записи в документах королевства.
Если рассматривать действия итальянских коммун, то можно предположить, что их требования были вызваны как их жадностью, так и незнанием обстановки. На первоначальном этапе освоения земель было невозможно заранее знать, в каких из них будет процветать торговля, а в каких нет. Было проще требовать повсюду привилегий.
Итальянцы учились на ошибках. Важный город Иерусалим не играл никакой роли в экономике страны. Располагавшаяся здесь главная администрация королевства и управление церкви и даже постоянный поток паломников не сделали этот город центром международной торговли, которую могли бы прибрать к рукам итальянцы. В таком же положении, и даже в большей степени, находились более мелкие города, такие как Тиверия и Наблус. Их рынки обслуживали только ежедневные потребности местного населения и не приносили выгоды крупным купцам. Однако в некоторых приморских городах итальянцам представилась возможность вести прибыльную торговлю. Большой порт Акры и северный порт Тир стали их основными базами в королевстве. В сложившихся обстоятельствах (особенно политических) Бейрут был также важен для их торговли. Триполи и Антиохия, столицы княжеств, стали основными центрами коммерческой деятельности итальянцев. Такие порты, как Яффа, естественный порт для Иерусалима, Хайфа, Кесария и Сидон, захваченные с итальянской помощью, не смогли привлечь к себе купцов. Несмотря на то что привилегии гарантировали им владение собственностью и освобождение от таможенных пошлин, они так и не поселились в этих портах.
Каковы бы ни были первоначальные надежды правителей королевства и итальянских купцов, вскоре выяснилось, что Святая земля не сможет потеснить Константинополь или Александрию в торговле со странами Леванта. Большие порты королевства в роли товарных рынков имели вторичное значение. Несмотря на это, существование дружественного христианского государства на Востоке давало некоторые преимущества. Погромы, изгнание и конфискация имущества, зачастую имевшие место в Византии и Египте, не угрожали итальянским купцам в Акре. Их автономные кварталы, имевшие надежную защиту и от врагов, и от друзей, в значительной степени повлияли на эволюцию итальянских поселений. Вначале приморские города, автономные кварталы и городские рынки были не более чем временными базами для экономической деятельности, скорее торговыми постами, чем постоянными поселениями. Небольшое ядро более или менее постоянных обитателей, людей, управлявших собственностью коммуны и церквей, жило в автономных кварталах. Однако средний итальянский купец часто проводил в плавании три или шесть месяцев в сезон навигации (с поздней весны до конца осени), посещая Египет, Константинополь и сопредельные страны. Он покупал на свои золотые и серебряные слитки товары, которые намеревался затем продать во время своего путешествия или позднее в Европе, и останавливался иногда в одном из портов крестоносцев, чтобы провести там зиму. Возвращался он в метрополию в самом начале весны.
Так продолжалось на протяжении XII–XIII вв. В реестре недвижимости венецианцев и генуэзцев перечислены палаццо и меблированные комнаты, пустовавшие большую часть года, которые снимались всего лишь на сезон, когда приходил торговый флот. Но облик итальянских кварталов постепенно менялся.
Начальный период существования итальянских поселений, который можно условно назвать «периодом зимовки», постепенно завершался. Во второй половине XII в. численность итальянского населения стала более или менее стабильной. Иногда процесс заселения зависел от характера привилегий. Примером этого мог служить портовый город Тир. В соответствии с договором, заключенным между патриархом Вармундом в 1123 г. (в отсутствие плененного короля Балдуина II) и дожем Венеции, треть города и его окрестностей была передана коммуне Венеции. Этот договор скрупулезно соблюдался, и треть всех деревень в сеньории стала владением Венеции, как и квартал в северной части города вблизи порта (южный порт, известный в прошлом, к тому времени заилился). Венеция передала своим соотечественникам во владение несколько деревень в обмен на выполнение тех феодальных повинностей (исключительный случай), которые коммуна несла перед королевством. Так, группа венецианских поселенцев, владельцев земли, осталась в Тире, вследствие чего число итальянцев в городе резко увеличилось. Члены коммуны арендовали у местных коммунальных властей дома, дворы, виноградники и места торговли на рынках, тем самым получая статус постоянных жителей. Они исполняли роль посредников между владельцами прибывавших кораблей и приезжими купцами и местными деловыми людьми. Купцы все чаще оставались на зиму на Востоке и селились там. Так поступали агенты крупных купеческих и банкирских домов, часто родственники и партнеры в торговых компаниях.
Из тех купцов, что часто посещали приморские города, правление той или иной коммуны выбирало своих официальных представителей в страны Леванта. Время их пребывания на посту представителя с титулом «консула» или «виконта» было кратким, не более одного-двух лет. Но после падения Первого королевства (1187) и во время реставрации почти сразу же (1 192) всеми основными коммунами была введена более централизованная система. Отныне главный бальи (bailli general) в Акре представлял венецианцев; ему подчинялись все бальи (baillis) в латинском Леванте. В то же самое время генуэзцы назначили «генерального консула» для Сирии, тогда как Пиза, которая вначале назначила двух «генеральных консулов», сократила их число до одного, в подчинении которого были местные чиновники.
В начальный период чиновники назначались из местных купцов и, возможно, с их участием. Позднее они присылались непосредственно из метрополии. Однако было вполне логично и практично, что назначавшиеся должны были знать Левант. Часто их выбирали из левантийских купцов.
Таким образом, в королевстве крестоносцев начал складываться некий местный итальянский патрициат, который имел деньги и политическую власть. Чиновники, естественно, выбирались из самых богатых купцов, чью власть поддерживали к тому же родственники в итальянской метрополии. Участники этих влиятельных групп оставались жить в Леванте. Очень часто их сыновья отправлялись в Италию для заключения выгодной партии. Приданое невест состояло из товаров и других вложений. Потом они возвращались в Акру и другие порты королевства. Образовались своего рода левантийские филиалы Венеции, Пизы и Генуи; здесь говорили на итальянских диалектах, существовали итальянские обычаи и церкви. В XIII в. члены генуэзских «консульских» семейств, таких как да Вольта, высшей аристократии города, поселились на Востоке. Также здесь были представлены все известные венецианские фамилии – Контарини, Дандоло, Морозини и другие, которые дали своему городу дожей, капитанов, советников и сенаторов. История некоторых семейств прослеживается на протяжении трех поколений в Латинском королевстве.
Привилегии коммун, которые даровались еще во время 1-го Крестового похода, сохранялись и передавались по наследству. Было необходимо сохранять свою национальную идентичность. Автономия коммун и торговые привилегии обеспечивали итальянцам подавляющее преимущество над всеми местными франкскими купцами. Поэтому было вполне естественным намерение королей Иерусалима в середине XII в. ограничить существовавшие привилегии. Их усилия имели лишь частичный успех. Святой Престол, находившийся под сильным давлением Венеции и Генуи, которых называли, соответственно, Serenissima и Superba, призвал королей к порядку. Генуя, поступив бестактно, даже воздвигла позолоченный монумент рядом с Гробом Господним с перечислением всех своих привилегий! Купцов с трудом удалось изгнать из храма. Все же некоторые короли брали верх над итальянцами и ограничивали их привилегии по причинам безопасности и политическим соображениям. Так, например, Генрих II Шампанский (король Иерусалима в 1192–1197 гг. Генрих I) разрешил остаться в Акре только 30 пизанским семействам. С другой стороны, в минуты опасности старые привилегии возобновлялись и даже расширялись. Конрад Монферратский, осажденный в Тире в 1190 г., подтвердил старые и даровал новые привилегии коммунам, и незадачливый Ги де Лузиньян подтвердил их verbatim (дословно). Когда восходила новая звезда на политическом небосклоне, как это было в случае с королем Франции Людовиком IX Святым, коммуны собирали все свои привилегии en gros (в целом) и просили об их подтверждении со стороны короля.
Корона не могла ни отменить привилегии, ни поставить коммуны под свое начало, но старалась, как могла, пресечь наиболее явные случаи злоупотребления правами. Хотя представителям национальных коммун было запрещено законом обладать феодами и сдавать в аренду городскую землю, им удавалось добиться этого посредством брака, наследования и коммерческих сделок, в результате которых коммуны приобретали землю или дома, принадлежавшие к вышеозначенной собственности, вне границ своего квартала. Венецианцы, генуэзцы и пизанцы имели двойную выгоду. Они приобретали местную собственность и в то же время пользовались коммунальными льготами. Всеобщая неопределенность в вопросе прав собственности в Средние века, их зависимость от личного статуса и, как в данном случае, от экономического и политического положения коммун создавали невообразимую путаницу. Это приводило к конфликтам не только с королевскими властями, но и внутри самих коммун. Некоторые спорные дела, переданные на рассмотрение арбитражного суда, протоколы которых сохранились до наших дней, свидетельствуют о том, что адвокаты имели специальный день, посвященный рассмотрению сложных вопросов юриспруденции. Как бы то ни было, такие осложнения указывали на то, что часть городских или земельных налогов проходила мимо правителя города и короля. Последний, согласно византийской практике середины XII в., настаивал, что членам коммун следует отказаться или от своей новой собственности и платить обычные налоги, или от своих привилегий и стать гражданами. Проблема так и не была разрешена, и даже уже в XIV в. после потери королевства короли Кипра все еще продолжали биться над ее разрешением.
К большой тройке – Венеции, Генуе и Пизе – примыкали все прочие итальянцы. В стремлении воспользоваться привилегиями пизанцев купцы со всей Тосканы заявляли о себе как о гражданах Пизы. Признанные таковыми правлением коммуны, они получали все ее права. Тосканские купцы, в свою очередь, признали право юрисдикции пизанцев над собой и своей собственностью на протяжении всего того времени, что они оставались на Востоке. Естественно, что подобное имело место и в случае с другими коммунами.
Но в это же самое время появились новые лица в торговом мире Леванта. Одним из них быль Марсель, к его гражданам присоединились жители Монпелье и других городов Прованса. Они пользовались ограниченным набором привилегий, не идущими ни в какое сравнение с итальянскими. К тому времени королевство усвоило преподанный ему урок и стало намного осмотрительнее в деле предоставления привилегий. В середине XII в. марсельские купцы перешли к довольно неуклюжим попыткам расширить свои возможности торговли, фальсифицируя документы на получение привилегий и датируя их задним числом. Вышедшие позднее на сцену другие коммуны, во главе которых стал каталонский город Барселона, получили большей частью только торговые привилегии и не пытались создать свои национальные кварталы. Коммуны Марселя и Барселоны никогда не имели большого значения. Марсель, получивший в середине XIII в. статус известного морского порта, был примером примитивно организованной колонии Востока, напоминавшей итальянские колонии, существовавшие сто лет назад. Марсель с торговыми складами был не более чем местом временной стоянки и аванпостом для купцов, торговавших на Востоке.
Невозможно дать точную оценку численности населения в коммунах в Латинском королевстве. Если довериться списку населенных пунктов и переписям имущества, можно сделать вывод, что она была небольшой, максимум несколько сотен человек. Но сила их заключалась не в числе жителей, особенно принимая во внимание их роль в экономике. Восточные колонии пользовались мощной поддержкой своих родных городов. Метрополия посылала флоты – купеческие суда в мирное время и вооруженные галеры во время войны. Коммуны на Востоке часто становились полем битвы, на котором итальянские государства сражались, защищая свои земли и колониальные владения. Соперничество на Корсике и в самом Константинополе, столкновения в Эгейском море достигли наибольшего размаха в середине XIII в. и превратили Акру в кровавое поле сражения за итальянские интересы. Местные итальянцы принимали участие в боях, на помощь им прибывали солдаты и моряки из Европы. Каждый национальный квартал в Акре был укреплен, весь город был поделен на крошечные республики в окружении крепостных стен и башен, которые сражались со своими соседями, что вело к большим разрушениям. Главы коммун превратились в независимых властителей, почти не признававших существования королевства.
Глава 7
Власть монарха
Первым королевством (1099–1 187) выпало править пяти королям по имени Балдуин. К имени этому франки на Востоке, видимо, были неравнодушны. Современные данные нумизматики и сфрагистики не дают возможности с достаточной уверенностью приписать те или иные монеты и печати конкретному королю Иерусалима. Для XII столетия могут быть с достоверностью идентифицированы только монеты и печати короля Амори. Их оформление незначительно отличается друг от друга. На них обычно изображено одно из главных в столичном городе строений. На некоторых тщательно выгравированных печатях (что само по себе служит характерным признаком процветающего поселения) имеется изображение трех основных символов города. Это квадратная башня с зубцами и двустворчатыми, окованными гвоздями воротами, увенчанная двумя небольшими башенками с куполами, которая представляет собой цитадель, так называемую Башню Давида. Совсем рядом с ней был построен позднее королевский дворец. Второй символ – коническая крыша с круглым отверстием в ее верхней части, покоящаяся на столбах и небольшом квадратном основании; это – храм Гроба Господня. И наконец, прекрасный большой купол с водруженным на нем гигантским крестом представляет храм Господень (мечеть Куббат ас-Сахра – «Купол Скалы»). На реверсе монет имеется крест, который окружает имя короля, а на обратной стороне печатей обычно изображается король Иерусалима в круглой или многогранной короне. Подвески, предположительно украшенные драгоценными камнями, свешиваются по обеим сторонам головы. Король одет в подобие свободной туники с широкими отворотами, с державой в одной руке и крестом в другой.
Король на печатях изображен в таком виде, что он ни в чем не отличается от правителя христианского мира Запада. Возможно, это потому, что граверы были европейцами и они следовали традиционным образцам, или же сами левантийские короли захотели, чтобы их представляли в облике современных им западных владык.
Повсюду в христианском мире в торжественной коронации, которая предваряла новое царствование, соединялись светские и духовные элементы. Король являлся, будучи законным наследником или избранным правителем, помазанником Господа; он правил христианским королевством милостью Божией. Но помазание и коронация в «граде Давидовом» (единственным исключением была коронация Балдуина I в Вифлееме) вызывали исторические и духовные ассоциации, не имевшие параллелей в христианском мире. Это тем более достойно внимания, потому что светские элементы в коронационной церемонии сильно контрастировали с ее религиозным значением, ставя ее выше всех юридических законов. Основной целью при этом было не придать законности власти, но возобновить договор между королем и его воинами-выборщиками, что, как предполагают, имело место в конце 1-го Крестового похода.
Почти в каждом королевстве в XII в. монарха либо выбирали, либо он получал власть в силу права на наследование. Даже Плантагенеты и Капетинги, обладая наследственной властью, сохранили ради практических целей часть древних выборных традиций. Одна из них – необходимость согласия подданных, которая уже давно потеряла свое значение. Символически это выражалось шумным одобрением присутствовавшими на церемонии дворянами при объявлении имени нового короля. Только в кризисных ситуациях и в отсутствие прямых наследников дворянство, используя древнее право выбора, избирало короля среди членов правящей династии.
В Латинском королевстве еще сохранялись следы многих старых выборных практик в условиях уже укоренившегося и принятого всеми принципа наследования. Несколько факторов способствовали сохранению некоторых особенностей. Самым важным прецедентом было избрание Готфрида Бульонского. Вся история королевства начинается с избрания «Защитника Гроба Господня». Легенда об избрании «скромного» Годфрида была известна всем. Притязания на наследование престола Балдуина I (1100–1118) и Балдуина II (1118–1131), второго и третьего правителей королевства, были необоснованными. Аристократы несли прямую ответственность за их восшествие на престол, а в случае Балдуина II они не посчитались с наследственными правами Евстахия Булонского, брата и законного наследника Балдуина I. Воспоминания о настоящих выборах были еще свежи в памяти и не были забыты. В итоге принцип наследования не был реализован на практике вплоть до 1131 г., когда Мелисенда стала королевой и наследовала своему отцу.
Но об электоральном принципе при проведении коронационной церемонии не забывали, и он был не просто данью традиции. Он влиял на составление текста официальной присяги, согласно которой король обещал не только править справедливо, но и подчиняться законам королевства. Затруднительно определить точную дату ее принятия, которая подразумевала заключение некоего «общественного договора». Самые первые описания коронации, сохранившиеся до нашего времени, касаются, по всей видимости, коронационных торжеств Балдуина I. Приводится обычное обещание короля править справедливо и охранять права церкви. Но во второй половине XII в. при короле Амори (1 162–1 174), когда магнаты стремились участвовать на равных с монархом в управлении королевством, текст присяги стал более конкретным.
К тому времени масса законодательных актов, принятых более чем за полвека, и накопившиеся прецеденты начали играть роль «благой вести» в политической теории и практике королевства. Были определены права короля и дворянства и особо оговорены священные привилегии знати, часть которых ранее были королевскими. «Свободы и особые права», как европейские дворяне называли свои привилегии, стали краеугольным камнем политической системы, когда сохранение этих прерогатив стало raison d’être (смыслом существования) королевства. В это самое время появилась легенда о Готфриде Бульонском как «законодателе». Готфрида избрали своим правителем его соратники дворяне, участвовавшие в 1-м Крестовом походе, и они же приняли законы королевства. Этот двойной аспект первой коронации утвердил идею contrat social (общественного договора) двух сторон. Впредь короли Иерусалима будут давать обещание безоговорочно соблюдать существующие традиции и свободы в качестве непременного условия их коронации. Весьма вероятно, что в правление Амори, когда дворяне обладали достаточной властью, чтобы заставить короля развестись с женой, прежде чем разрешить ему взойти на трон, стало возможным принять эти строгие правила. Показательно также то, что в коронационной клятве последующих королей Иерусалима ясно говорилось об обязательстве монарха соблюдать «законы короля Амори и его сына Балдуина», то есть Балдуина IV (1 174–1 185), что указывало на признание дворянством большого значения конституционной теории и практики, выработанных за этот период. Таким образом, коронованный властитель Иерусалима по крайней мере начиная с середины XII в. во время коронационной церемонии давал двойное обещание: гарантировать особое положение патриархов Иерусалима и соблюдать королевские обязательства в отношении дворянства. Великий день коронации начинался с приготовлений к ней в главных зданиях столицы. Это были: королевский дворец, примыкавший к цитадели (Башне Давида), храм Гроба Господня, храм Господень (мечеть Купол Скалы) и резиденция тамплиеров в храме Соломона (мечеть Аль-Акса)[14]. Улицы, через которые должна была пройти королевская процессия, были празднично украшены; с балконов домов, имевших плоские крыши, свешивались ковры яркой восточной расцветки, и во всем городе царила праздничная атмосфера. Рыцари и дворяне съезжались в столицу со всего королевства, чтобы принять участие в торжествах. По этому случаю высшие должностные лица государства должны были исполнять обязанности, которые им поручали еще в эпоху Каролингов. Четыре высших чиновника в королевстве, то есть сенешаль, коннетабль, маршал и камерарий, отвечали каждый за определенную часть церемонии. Это был символический намек на их первоначальные скромные должности, которые превратились в главные посты государства.
Самым занятым человеком в городе в день коронации был сенешаль, исполнявший свои давние обязанности королевского мажордома. Он был ответствен за всю церемонию в целом, и ему был поручен надзор за своими помощниками и многочисленными слугами и писарями.
Будущий король облачался в коронационные одежды во дворце. В этом ему помогал камерарий (camerarius), который ведал покоями короля (camera). Затем, в окружении членов своей семьи и сановников, король выходил на площадь перед королевским дворцом. Здесь его ожидали маршал и коннетабль с королевским штандартом из ткани белого цвета в форме квадрата. По углам и в центре были помещены красные кресты; это должно было напоминать об алтаре с его пятью крестами, представлявшими раны Христа. Король садился на коня в нарядном убранстве, и вся торжественная процессия трогалась в путь. Возглавлял ее камерарий, который указывал направление движения врученным им королевским мечом. Следом за ним вышагивал сенешаль, который нес скипетр. Далее следовал коннетабль, ранее называвшийся comes stabuli («главный конюший»). Он нес королевский штандарт все время, пока кортеж шел до Гроба Господня. Здесь король спешивался, и коннетабль брал под уздцы его коня и вручал королевский штандарт маршалу. Король, по-видимому, не въезжал на территорию, прилегающую к храму, но проходил пешком последний отрезок пути. У величественных врат храма Гроба Господня короля встречал патриарх Иерусалима, прелаты и многочисленные священники латинской и восточных церквей.
Король в традиционных диаконских облачениях – богато вышитой далматике и, возможно, даже со столой – преклонял колена, так же как и высшие сановники, перед патриархом, возносившим молитвы. Это было прелюдией к собственно коронации.
По просьбе патриарха король произносил коронационную клятву. Ее первая часть не сильно отличалась от подобных клятв европейских монархов. Король обещал защищать владения и права церкви и привилегии духовенства, а затем клялся защищать вдов и сирот. В завершение церемонии король давал особую клятву патриарху: «Я пребуду с сего дня вашим верным помощником и вашим защитником от всех, кто живет в Иерусалимском королевстве». Это было подтверждением существовавших издревле обязательств перед церковью. Хотя это не было своего рода оммажем, клятвой верности, приносимой вассалом своему сеньору, но сильно напоминало ее. Хотя и ставшая анахронизмом к середине XII в., эта клятва напоминала о признании Готфридом Бульонским верховной власти патриарха (что тот требовал).
Эта первая часть клятвы была обращена не ко всему обществу в целом, но имела отношение только к патриарху и церкви. За этим следовало то, что можно было назвать возобновлением прежнего договора. В то время как общепринятое обещание защищать права, собственность и привилегии граждан можно было найти в коронационных клятвах всех европейских монархов, ни в одной из них не было столь четко сказано, как в клятве королей Иерусалима: «Я обязуюсь защищать ассизы королевства и королей, моих предшественников, да будет им светлая память, и ассизы короля Амори и его сына короля Балдуина, и древние обычаи и ассизы Иерусалимского королевства».
Не только содержание клятвы делало ее более обязательной для исполнения, чем в других европейских странах; важно было и то, каким образом была обставлена церемония. Когда Гуго III де Лузиньяна в 1269 г. должны были провозгласить королем Иерусалима, «Жак Видаль, представитель «всего народонаселения королевства», ознакомил его с текстом клятвы, которую были обязаны приносить и обычно приносили феодальные сеньоры королевства, а затем король произнес слова присяги. И как только он сделал это в присутствии своих вассалов, те поклялись ему в верности». Тем самым коронационная клятва становилась двусторонним соглашением между королем и дворянством.
После принесения клятвы патриарх помогал королю подняться и, держа его за правую руку, обещал «поддерживать его и защищать увенчавшую его главу законную корону, охраняя при этом права римской церкви» (или монашеского ордена, если патриарх был монахом). Затем патриарх целовал короля и, обращаясь к присутствовавшим рыцарям, духовенству и горожанам, призывал их viva voce (во всеуслышание) подтвердить, что этот человек был законным наследником короны. После троекратного обращения к присутствовавшим все трижды выкрикивали «да».
Собравшийся народ выслушивал королевскую присягу и шумно приветствовал своего законного правителя, а потом присоединялся к хору, певшему христианский гимн Te Deum laudamus («Тебя, Бога, славим»). Сокровищницу Гроба Господня, ключи к которой были у госпитальеров и тамплиеров, открывали, и знатные феодалы выносили королевские короны (короля и королевы). Король оставался стоять вблизи алтаря, в то время как по всему собору продолжало разноситься пение Te Deum. После того как патриарх прочитывал все молитвы, король восходил на трон, обратившись лицом к Гробу Господню. После служилась месса, по окончании которой король возвращался на свое место перед алтарем. Патриарх затем возглашал Benedicimus («Благословляем Тебя») и помазывал голову короля и его плечи освященным маслом, хранившимся в сосуде, имевшем вид рога. Затем он надевал на палец королю кольцо, символ верности, и опоясывал его мечом, символом справедливости и защитника веры. В завершение церемонии патриарх возлагал корону на голову короля и вручал ему скипетр, символ неизбежного наказания всех злодеев, в правую руку, а державу, означавшую власть, – в левую. После троекратного возглашения «Да здравствует и процветает король» на латинском языке король совершал целование прелатов и возвращался к трону. В завершение мессы читалось Евангелие. Король причащался, и вся церемония заканчивалась патриаршим благословением королевского штандарта, который король возвращал коннетаблю.
