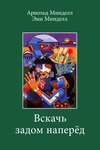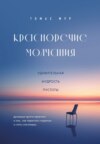Read the book: «Квантовый ум. Грань между физикой и психологией»
Arnold Mimdell (Ph. D.)
Quantum Mind
The Edge Between Physics And Psychology
* * *
© Arnold Mindell. Text, 2000
© ООО ИД «Ганга». Оформление, 2018-2023
© Трансперсональный проект. 2011
Процессуальный Космос или Дао Минделла
Предисловие научного редактора
Эта книга посвящена нашему процессу осознания и его непостижимой способности участвовать в создании реальности. В ней обсуждается тонкое взаимодействие природы с самой собой на заднем плане нашего восприятия, создающее наблюдаемый мир. Большинство ученых даже не подозревают, что физика и математика основываются на том, что было всегда известно психологии и шаманизму, – на способности любого человека осознавать едва заметные, сноподобные события, в чем-то подобные полям в науках о природе.
Прежде чем начать постигать тайны квантового ума, будет полезно ознакомиться с более широким контекстом жизни, открытий и миссии автора этой книги. С Арнольдом Минделлом меня, можно сказать, свела сама судьба во время первого путешествия по США, когда я и Слава Цапкин, два счастливца, посетившие за пару летних месяцев 1990 года основные институты и центры гуманистической и трансперсональной психологии, гостили три дня у знаменитого основателя и хозяина института Эсален, писателя, исследователя и бунтаря Майкла Мерфи и его жены Далси. Далси и предложила мне посетить Эсален неделей раньше, чем было запланировано, поскольку мои планы изменились, и я должен был ехать из Калифорнии в Массачусетс. Вот так я и оказался на семинаре Арни и Эми Минделл.
Я ничего не знал ни о Минделлах, ни о процессуальной психологии, но уже много лет бредил легендарным Эсаленом – гнездом новых движений в психотерапии, обновлении жизни и самопознании, давшим в свое время приют Грегори Бейтсону, Фрицу Перлзу, Станиславу Грофу и десяткам других новаторов.
Память сохранила первое впечатление об Арни как о человеке, в облике которого можно увидеть и что-то птичье, и упругую сильную грацию крупных кошачьих. Я был поражен его изумительным даром игры и перевоплощения. За несколько часов Арни разрушил клетку моих представлений о психотерапии. Он больше всего походил не на терапевта, а на дзенского учителя, гнома-весельчака, танцующего даоса, простой, открытый и естественный, как ребенок. Арни потряс меня своей изящностью и артистизмом, он мог выразить любую эмоцию, но не застыть в ней – и через мгновение стать абсолютно другим. Живое воплощение Протея, который может быть чем угодно, обладает кошачьей грациозностью и орлиной зоркостью одновременно. И в то же время фигляр и трикстер, дзенский придурок.
Работа с самоубийцей в Эсалене
Точкой поворота для меня стала работа Минделла с женщиной, которая находилась в депрессии, у нее даже была попытка самоубийства. Когда Минделл начал расспрашивать ее, она созналась в том, что ей не хочется жить, но меня поразило то, что Минделл при этом как будто оживился. Он переспросил ее: «Вам не хочется жить?» – с таким неподдельным интересом, но одновременно очень уместно и деликатно. «Скажите, а как Вы хотели бы расстаться с жизнью?» (Впоследствии я узнал, что все это было мастерским «следованием процессу».) Минделл следовал и процессу, и своей совершенно невероятной интуиции. Женщина поднесла воображаемый пистолет. Минделл попросил ее, чтобы она издавала и звук воображаемого выстрела. Да, это ее последние мгновения, она нажала на курок и сказала: «Пиф!». И миллисекундой позже Минделл визгливым голоском повторил: «Пиф!», сделал жуткую гримасу, как бы закрываясь от того ужасного, что случилось, но через секунду переключился и сказал: «Ой, как здорово! Потрясающе! Это было невероятно! Давайте еще раз, только на сей раз еще более медленно и внимательно, почувствуйте, что это последний миг вашей жизни и сейчас все закончится». Она поднесла пистолет, опять сказала: «Пиф!», он сразу же вторил ей: «Пиф!». Подобно герою фильма «Маска», он сам разделился на актера, зрителя и комментатора, восхищаясь ее смелостью, гениально сыгранной ролью, и тут же предложил ей повторить все еще раз. Когда же во время третьего повтора он еще раз визгливо вскрикнул вслед за воображаемым выстрелом «пиф!!!», и бывшая самоубийца, и участники семинара, и сам Арни разразились безудержным смехом. Привычная серьезность отождествления с трагической ролью была мгновенно исцелена возникшим в этот момент космическим юмором.
Поддерживая процесс самоубийцы и будучи сам мастером осознанности, Минделл помог рождению расширенного осознавания у всех присутствующих, мгновенно разрушившего клетку суицидального жизненного сценария. Вот так в мгновение ока произошло исцеление от тяжелейшей депрессии, которая угнетала беднягу на протяжении многих месяцев. Если бы она пришла с этой проблемой к традиционному психотерапевту, то он воспринял бы ее с надлежащей серьезностью, деликатно расспрашивал бы что и как, тем самым усугубляя безысходность. Минделл же следовал процессу, не оценивая, не интеллектуализируя, отбросив все привычные реакции за рамки работы, он просто поддерживал процесс целиком, его первичные (проявленные) и вторичные (скрытые) аспекты, находясь сам в расширенном, пластичном, гибком состоянии. В конце концов женщина сама вошла в такое же расширенное состояние и в мгновение ока увидела и свою жизнь, и те роли, которые она играет, под увеличительным стеклом и с высоты птичьего полета. Она сама постигла, как создается ее страдание, увидела всю условность и ограниченность этой ситуации, множественность выходов и даже ее комичность и самоисцелилась. И в этот момент в зале присутствовала атмосфера космического юмора.
Я понял тогда, как помогает нам исцеляться наша внутренняя мудрость, освобождая нас от всех ограничений, в какие мы сами себя задвинули, играя неосознанно гибельные роли. Но никакие сценарии, никакие решения не окончательны, все пластично и может быть освобождено из плена.
Встреча с Минделлами была совершенно особой в моем поиске сердца психотерапии. Они показали мне, что терапия не должна быть ограничена никакими школами, никакими методами, никакими сюжетами, никакими умственными представлениями, что в основе терапии есть нечто иное – расширенное пространство понимания и работы, в котором все и происходит. И наиболее важное для терапевта – самому быть в контакте с этим расширенным пространством, учиться у него, быть пластичным, не вводить ничего искусственного, следовать процессу и поддерживать его, и тогда все самоисцелится.
Во второй день семинара я решился во время обеда подсесть к Минделлам и пригласить их в Россию, в которой у них оказались семейные корни (их дедушки и бабушки жили под Витебском и под Одессой). Они впервые приехали сюда через год, осенью 1991-го и с тех пор еще шесть раз побывали здесь (в 1993, 1994, 2004, 2005, 2008 и 2011) и обрели последователей, нашедших в процессуальном подходе прообраз объединяющей психологии и психотерапии будущего, включающей в себя передовую науку, дао повседневной жизни, игру, радость, осознавание за пределами концепций.
Обучаясь у Минделлов и их учеников на протяжении всех этих лет «работе со сновидящим телом», я прикоснулся к метапсихотерапии и к ключевой роли осознанности в процессуальном подходе, изумился его диапазону (работа с комой, безумием, новорожденными детьми, в любой ситуации и без всяких ограничений, условностей и сценариев), осознал великое единство терапии, искусства и духовных практик. Последней, финальной сценой семинара в Эсалене 1990 года был коллективный процесс «землетрясение». Тогда в 1990 году в Сан-Франциско только что произошло большое землетрясение, нам показывали обвалы, перекошенные дома, даже были жертвы. Минделл и предложил нам поиграть в землетрясение. Мы выбрали себе роли, кто-то из нас был пострадавшим, кто-то отцами города, службой спасения, врачами, пожарниками, полицией. Кто-то был силой самого землетрясения, сокрушающей мощью земных недр, которой не может противостоять ничего из созданного. Важной ролью были люди, которые заботятся о будущем, люди, которые бьют тревогу, заботятся, предупреждают. В противовес им есть люди, которые выбирают игру «пир во время чумы».
Начался такой групповой процесс, были люди-землетрясение, которые все сметали, кто-то спасал, кто-то страдал и так далее. Потом Арни предложил нам поменяться ролями в зависимости от наших желаний. Постепенно каждый из нас прожил все эти роли – и в конце концов возникло состояние общего объемного понимания трагедии землетрясения, мистерии землетрясения, нашей связи с Землей и с теми людьми. Мы застыли в благоговении перед величием всего этого. Затем мы встали, обнялись, стали покачиваться в едином ритме и вдруг запели какие-то волнообразные звуки, которые постепенно стали нашей общей песней. Все происходящее сплотило нашу группу, и мы чувствовали потрясающее очищение и катарсис – вот так закончился этот двухдневный семинар в Эсалене.
Минделл: биографическая справка
Путь Минделла к своим открытиям, в том числе к его шедевру «Квантовому уму», был нелинейным. Он родился 1 января 1940 года. После получения диплома по физике в Массачусетском технологическом институте (МТИ), 13 июня 1961 г., через неделю после смерти К. Г. Юнга он переехал в Цюрих, чтобы продолжить свое физическое образование в Высшей технической школе. За несколько лет до этого умер нобелевский лауреат по физике Вольфганг Паули, с которым Юнг сотрудничал в изучении связей между психологией и физикой. Здесь Минделл познакомился с работами Юнга и обучался в Институте К. Г. Юнга, где получил диплом юнгианского аналитика. Его учителями и аналитиками были самые знаменитые юнгианцы – Мария Луиза фон Франц, Франц Риклин, Барбара Ханна. В это время его весьма заинтересовала связь между телесными переживаниями, в особенности физическими симптомами, и тем, как они выражаются в сновидениях. Минделл опубликовал свое исследование в первой книге «Тело сновидения: роль тела в раскрытии самости1». Впоследствии он исследовал, как сознание сновидения (англ. dreamingmind) производит бессознательные сигналы, или «двойные сигналы», проявляющиеся в человеке в процессе общения с другими людьми. Он обнаружил, что осознавание подобных сигналов увеличивает эффективность интерперсональной, или межличностной, коммуникации. В связи с тем, что его внимание сосредоточилось на сигналах и процессах подобного рода, Минделл назвал направление своей работы «процессуально-ориентированной психологией».
Интерес к межличностной коммуникации привел его к исследованию конфликтов в больших группах. Он открыл, что процессы сновидения, которые он идентифицировал на уровне индивидуальных и диадических взаимоотношений, также полезны при решении проблем в больших и социально разнообразных группах. В группах процесс осуществляется не только индивидами, но и ролями, которые могут быть исполнены любым членом группы. Фантомные роли вытекают из группового поведения, которое ни один член группы не мог бы самостоятельно распознать.
Написав серию книг по этим открытиям (главные из них изданы теперь на русском языке), Минделл вновь проявил интерес к физике и вернулся к исследованию скрытых сигналов, обычно не учитываемых в классических психологических подходах. Вместе с Эми Минделл, своим партнером и женой, Минделл начал исследовать новые методы работы с людьми в коматозных, вегетативных и околосмертныхсостояниях сознания. В последние годы интерес к квантовой физике привел его к изучению взаимоотношений психологии и теоретической физики и новых способов работы с неявными состояниями сознания. Он использует волновые и информационные концепции для исследования довербальных и до-сноподобных состояний осознавания.
Следовать дао, стать потоком
Процессуальный подход Минделла – это поиск полноты жизни, использующий опыт древних даосов. Следовать дао – это, прежде всего, расширить свое внимание, начать замечать необычное и ускользающее. Наше обычное внимание, как правило, захвачено клетками обычных ролей и нашей уверенностью в отношении того, что это – правда, а это – неправда, что это – хорошо, а это – плохо, что надо нам, а что не надо всем, что связано с нашим «я» и с его целями.
Если сравнить три главных трансперсональных проекта – С. Грофа, К. Уилбера и А. Минделла, – все они выражают разные стратегии пути к целостности.
Стратегия Грофа – это прыжок в холотропное сознание, в котором мы драматично разбираемся с тем, что нам мешает жить в этом сознании. Для осуществления этого на практике может использоваться холотропное дыхание.
Метод Уилбера состоит в построении изощренной интеллектуальной сети – интегральной операционной системы, чтобы не упустить ничего, собрать все интеллектуальные данные (The Body's Role in Revealing the Self, Portland OR. Sigo Press, 1981), найденные человечеством. Тот, кто пробовал читать его книги зрелого периода «Пол. Экология. Духовность», «Интегральная психология» или «Око духа», тот, наверное, местами чувствовал необходимость усилий, чтобы разобраться в уилберовской интеллектуальной акробатике. Многие люди признавались мне, что не могут воспринимать усложненностьУилбера. Главный акцент Уилбер делает на интеллектуальный способ постижения целостности.
Подход Минделла – это попытка добраться до целостности через углубление того, что есть. Осознанность, согласно Минделлу, уже имеется в любой ситуации, и она уже совершенна. С точки зрения нашего повседневного «я», мы что-то развиваем, совершенствуем, обучаемся, проходим через разные семинары, читаем книги, работаем над собой, занимаемся медитациями. С точки же зрения «большого Я», самое главное – это расширить восприятие и начать осознавать прежде невидимое. Именно поэтому стратегия Минделла – это стратегия охотника, выслеживание всего, что проблематично, всего, где есть напряжение, всего того, что флиртует с нами, притягивает нас. В любой связи присутствует то самое «двояковидящее око МейстераЭкхарта», который говорил, что «око, которым человек видит Бога, – то же самое, которым Бог взирает на человека». В любом наблюдаемом явлении присутствуют условия его наблюдения. Мир, который мы воспринимаем, – это результат многоуровнего процесса обработки исходной сенсорной информации. В этом процессе возникает общепринятая реальность и теряется глубина.
По Минделлу, любой конфликт, любая проблема – это самая быстрая дорога к большей целостности. То, что с точки зрения нашего «я» является проблемой, например, люди, которые причиняет нам какое-то неудобство, болезни, невыносимые взаимоотношения («ты меня подавляешь», «мой шеф меня гнобит», «этот человек постоянно сует мне палки в колеса»), с точки зрения расширенного осознания, «большого Я», – приглашение к тому, чтобы расти, знак того, что другая ситуация – это тоже «я». В своем подходе Минделл использует второе внимание, внимание к необычному. Для этого, как он сам говорит, надо «затуманиться», чтобы почувствовать тенденции, которые существуют в мире сновидений, в царстве грез, где нет уже строгой разделенности восприятия на внутренний и внешний мир (и тогда начинают восприниматься другие тенденции), а затем идти еще глубже.
Процессуальная работа и абхидхарма
Это роднит процессуальный подход с Абхидхармой – учением раннего буддизма о мироустройстве и пути освобождения, которое иногда считают буддисткой философией и психологией. Главное, что берет Минделл из Абхидхармы, – описание работы психических процессов, а также представление о 17 уровнях возникновения общепринятой реальности, или 17 стадиях человеческого восприятия. Во время первых 8 стадий человеческая психика опознает объект и реагирует на него. Если воздействие объекта на человека было достаточно сильным, то включается сознание. При этом человек отождествляет себя с самим собой и навешивает на объект ярлыки («плохой-хороший», «нравится-не нравится») и затем производит некоторое действие.
Можно разделить стадии восприятия Абхидхармы на более крупные этапы.
1. Возникновение самого события/объекта (например, падение предмета или крик петуха ранним утром). Это стадии 1–3 Абхидхармы.
2. Анализ бессознательным события/объекта. Набор данных о событии. Формирование реакции на объект. При этом сознание еще не включено. Это стадии 4–8 Абхидхармы.
3. Смутное, сновидческое включение сознания. Формируется образ себя, объект сравнивается с самими собой, и навешиваются ярлыки («плохо-хорошо», «нравится-не нравится»). Это стадии 9-15 Абхидхармы.
4. Сознательная реакция на событие, основанная на позиционировании себя по отношению к объекту, полученному на этапе 3. Это стадии 16–17 Абхидхармы.
Революционным для Минделла явилось открытие того, что сны и телесные симптомы имеют общий глубинный источник и являются проявлением одного и того же глубинного процесса, который он назвал «сновидящим телом» (dreamingbodyили dreambody). Этот уровень реальности он назвал Страной Сновидения (Dreamland) и показал, что без работы с ним невозможна никакая продуктивная терапия. Он соответствует 9-15 стадиям Абхидхармы. Уровни 16–17 описывают реальность консенсуса.
Последние 15 лет Минделл исследует еще более глубокий уровень – уровень процессуального ума, откуда возникает все, в том числе и Страна Сновидения, и общепринятая реальность (уровни 1–4 по Абхидхарме). На уровнях Абхидхармы 4–8 становится возможным прочувствовать тенденции развития процессов еще до того, как началось движение (Минделл называет их заигрываниями или флиртами). Например, то, какие тенденции к движению есть у руки, тела, каких-то внутренних процессов. Или предчувствовать что-то до его рождения. Затем, вернувшись в конвенциональный мир, начать следовать этим процессам. На этом уровне и происходит реальная работа с проблемами и болезнями.
«Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао», – в начале своего трактата пишет Лао Цзы – легендарный мастер даосизма. В Китае даосизм это не только название какой-то школы. Духом даосизма проникнута вообще вся китайская культура. Поэтому китайцы не интересовались созданием интеллектуальных систем, их всегда притягивал практический аспект.
Дао – это мудрость жизни, это не какое-то схоластическое учение. В текстах даосизма не найти интеллектуальных построений – там в основном пересказываются поэтические и туманные истории, парадоксальные и непонятные для обычного, европейского ума нашего времени. С нашей европейской точки зрения, в которой существует четкое деление на день и ночь, на это и то, очень сложно понять дао. Мы уже разделены, и это создает всю проблематику современного мира и невозможность ее целостного охвата. Все наши проблемы связаны с нашей нецелостностью. Коль скоро есть разделение на это и то, на «я» и «не-я», сразу же создаются все остальные проблемы и все остальные миры. Если есть нечто нормальное, общепринятое, то, по принципу полноты дао, мгновенно создается ненормальное, необщепринятое. И если этому не уделяется достаточное внимание, оно дополнительно маргинализуется, задвигается и проявляется в нашей культуре только в формах безумия, экстремальных состояний, преступности и так далее.
Только в таких формах и может существовать полнота дао в том мире, который настаивает на собственной правильности, исключительности, здравости и так далее. Но достаточно расширить понимание, проявить бóльшую терпимость, и тут же преступности станет меньше, экстремальные состояния станут более мягкими и займут свое достойное место в культуре в виде художественного творчества и ежедневной раскрепощенности.
Вся проблематика современного западного мира связана с тем, как возникает субъект и мир, как возникает идентификация «я». Но так было далеко не всегда, и далеко не во всех регионах мира сложилась подобного рода конфигурация восприятия, я бы сказал, приватизация изначальной, исконной чувствительности, которая присуща миру. Это исконное качество, которое, по Минделлу, никто не может ни создать, ни уничтожить, есть всегда, как некоторое поле «чувственного осознания» или «непосредственной осведомленности» (sentientawareness).
Другое дело, что во всех живых существах в силу различного устройства перцептуального и мыслительного аппарата, разного развития нервной системы, разных функций в этом мире это чувственное осознание проявляется и структурируется в разных формах. Ведь каждое живое существо имеет свой «редактор реальности», свой горизонт видения мира, скоординированный с телом, жизненными программами и так далее.
В каждом мире обитания сходных существ существует дополнительное различие в плане того, как присваивается поле «чувственного осознания». И хотя в нем присутствуют все возможности, освоение, приватизация этого поля осуществляется по-разному в даосизме, индуизме, шаманской практике, буддизме, христианстве.
Фундаментальный невроз европейской цивилизации состоит в том, что в ней существует тенденция воспринимать «я» по образу и подобию единого Бога как творца этого мира и непринятие того, что за «я», которое само есть результат структурирования континуума переживания на «я» и «не-я» в соответствии с традициями данного времени и места, стоит намного более всеобъемлющая реальность.
Что ни говори, разделение уже произошло, и оно зафиксировано в тысячелетних практиках культуры на всех уровнях языка, производства, взаимоотношений, литературы, невербальных языков, эмоций, культурных стереотипов, половых ролей, различных культур и субкультур, структур повседневности, эпистем, различных «редакторов реальности» и так далее. Попадая в уже сложившуюся ситуацию, живые существа вынуждены развиваться так, чтобы быть включенными в нее.
За пределами Юнга: Как Минделл стал искать свое Дао
До того, как стать психологом, Минделл закончил Массачусетсткий технологический институт, где учился у лауреата Нобелевской премии физика Ричарда Феймана. Затем в Швейцарии он учился на юнгианского аналитика у мастеров в институте Юнга в Цюрихе. Тем не менее, закончив обучение и занявшись частной практикой, он почти не имел клиентов, у него были проблемы со здоровьем, взаимоотношениями, низкий жизненный уровень. Вот тогда он по-настоящему задумался: что здесь не так? И начал применять одно из главных открытий Юнга, в свое время выручившее самого создателя аналитической психологии.
Юнг, как известно, был очень близок к Фрейду. В переписке начала века Фрейд называл его своим самым талантливым учеником. Отношения между ними были действительно очень теплыми и близкими. Потом произошел раскол, у Юнга были принципиальные несогласия в отношении того, как Фрейд толковал жизненную силу – либидо, придавая ей исключительно сексуальный характер. Юнг считал, что за этим стоят намного более глубокие силы, связанные не только с биологией, но также с культурой и духовностью. Он живо интересовался проблемами, связанными с парапсихическими явлениями, этому была посвящена его диссертация. Фрейд же хотел, чтобы психоанализ был точной наукой. В конце концов это привело к непримиримому конфликту, и Юнг был изгнан из психоаналитической ассоциации. И начались семь долгих лет забвения, когда Юнг жил в своем доме около Женевского озера. Тогда в качестве руководящего начала он принял положение: «я могу ошибаться, мое „я“ может ошибаться, но целостность моей жизни не ошибается, и если я откроюсь и доверюсь процессу, ведущему меня, – своим видениям, своим снам, телесным симптомам и буду просто изучать и следовать им, тогда все проявится». «Бессознательное, – считал Юнг, – не обманет». Юнг стал следовать бессознательному, что великолепно описано в его книге «Воспоминания, сны, размышления». В следовании бессознательному он записывал свои сновидения, вспышки озарения, голоса, звучавшие в его голове. Здесь создалось то, что стало фундаментом его учения. Он обнаружил, что существуют фундаментальные психические структуры, которые он назвал архетипами. В свете этих архетипов происходит наше восприятие мира, и они структурируют наше восприятие. Мы можем собрать в себе и осознать воздействие этих архетипов, следуя пути индивидуации, собирая их из своих сновидений, анализа симптомов, переживаний, наблюдая синхронные события жизни.
Но юнговский подход, как нам теперь хорошо видно, наряду с прозрениями, имеет и свои ограничения. Это, прежде всего, те самые неосознаваемые монотеизм и креационизм, свойственные всей европейской культуре, своего рода «слепое пятно» европейцев. Если мы взглянем на комментарии Юнга к основополагающим текстам восточных традиций, например к даосскому тексту «Тайны золотого цветка» или «Тибетской книге мертвых», то увидим, что эти комментарии были заложниками времени, как и все происходящее, как и все тексты, суждения, которые происходят сейчас в наше время. Все идет, понимается, постигается через призму «редактора реальности». Нам всем не хватает отрешенности для того, чтобы в конкретное время иметь всеобъемлющее верное видение. Многое лучше постигается по происшествии лет, когда приходит естественное понимание относительности всего и вся.
«Если мы смотрим на „индивидуацию“ с точки зрения подхода, развиваемого Минделлом, то в его книге „Сновидения в бодрствовании“ прямо говорится, что юнговское понимание „индивидуации“ ограничено, прежде всего, потому, что не учитывает большего целого, того, как создается конвенциональная реальность. Юнг не учитывал того, что все встречаемые на нашем пути проблемы, преграды, взаимоотношения – это „мы“, приглашение к развитию осознанности. Таким приглашением являются и зависимости, в которые мы попадаем, – от коллекционирования до зависимости от еды и алкоголя. В этом смысле единственным эффективным способом лечения зависимости является работа по осознанию своего „большого я“».
Как состряпан процессуальный пирог
То, что Юнг называл бессознательным, Минделл позднее стал называть сновидящим телом, или процессом. На диаграмме, изображающей структуру процессуальной работы, круг с надписью внутри: «Дао и процесс». Нарисованы Солнце и Луна – древнейший символ единства противоположностей. Солнце – это знак «я», это символ света, освещенной части нашей жизни, Луна – это символ теневой части, имеющей к тому же еще более глубокую обратную сторону.
Именно поэтому на каждой российской книге Минделла используется фотография, где он – как человек-Луна, в котором присутствуют светлая и темная стороны.

Аналитически процессуальный пирог представлен в виде круга, символизирующего целостность дао-процесса, Солнца и Луны, и различных рассечений, аспектов, которые есть не что иное, как естественно существующие модальности жизни и восприятия. Они не придуманы Минделлом, не сотворены людьми, они естественно выделены в ходе нашей истории, потому что в этих модальностях происходят определенного рода важные события, важные сгущения жизни. На процессуальном пирогемы найдем основополагающие каналы. Они есть не что иное, как ключевые взаимоотношения каждого из нас с миром, с самим собой, со всеми другими людьми, с природой, с группой, с сообществом. Минделл, подобно Юнгу, исходил из того, что все происходящее в его жизни имеет смысл. Он тоже стал следовать процессу, бессознательному, телу и вскоре заметил, что то, что он называл сновидением, это психическое целое, бессознательное (он поначалу использовал юнговские термины), которое проявляется и как телесные симптомы, и как проблемы, и как сновидения.
Открытие Минделла катализировало колоссальный творческий процесс. Вокруг него и его группы в Цюрихе появились последователи, ученики, которые были увлечены этим открытием. Оказывается, ключевыми измерениями процесса являются не только тело и сновидения, колоссальную роль в дао нашей жизни играют взаимоотношения. Кроме взаимоотношений, существуют другие каналы, связанные со всеми органами чувств, так как органы чувств и есть то, через что мы и получаем информацию. Существуют каналы зрительного, слышимого, ощущаемого, осязаемого, обоняемого – пять органов чувств, через которые мы вступаем в сенсорный контакт с миром. Существует еще канал, который не припишешь ни к каким органам чувств, и Минделл назвал его мировым каналом, каналом интуиции или каналом парапсихическим. Кроме них, выделяются другие важные каналы, прежде всего канал движения, проприоцепции (то есть сигналов из глубины тела). Иногда это странные, трудновыразимые ощущения: где-то что-то сопит, что-то начнет выворачиваться, раскрываться, например, люди говорят «на душе кошки скребут» или какой-то «молоток в висках».
Кроме этих, есть и другие измерения, такие как экстремальные или крайние состояния. Нечто может существовать в нашем мире только в крайних, экстремальных формах, потому что в других формах ему нет места. Наш мир такой правильный, такой хороший, что это чувство может только войти в него и сказать: «А, пошли вы все!..» Сказал и хлопнул дверью. Это типичное экстремальное состояние. Или другое состояние, когда человек говорит, вернее, уже не говорит, а действует в белой горячке, в чахоточном бреду или в состоянии, которое мы называем эпилептическим припадком, или каким-то видом большого психоза, маниакально-депрессивного например. Как мы говорим иначе, «человек тронулся рассудком» или «крыша поехала», то есть он, очевидно, в каком-то сложном процессе переструктурирования собственного мира обитания, потому что привычный мир, в который его загоняют, ему почему-то не подходит, потому что в обычном, «несвихнувшемся» состоянии ему некомфортно. Существует и такое экстремальное состояние, как кома, и, соответственно, модальность процессуальной работы, которая называется работой с комой.
Процессуальная работа
Модальности процессуальной работы не ограничены, естественно, только индивидуальной работой. Методы процессуальной работы с индивидуумом те же самые, что и методы работы с группой, с организациями, с Землей. Подобного рода работа называется worldwork– работа с миром. Минделл говорит, что, когда он стал серьезно работать с группами и начал понимать смысл групповой работы, многие коллеги предупреждали его и просили не делать этого, потому что это разрушает пространство индивидуальной работы, которое можно защищать, контролировать, дозировать и так далее, то есть строго следовать тому или иному методу и стратегии. Групповая работа – нечто совсем другое. В групповой работе проявляются тени – ведущего, группы, каждого человека, и любой другой член группы может представлять эти теневые аспекты. Но в то же время оказывается, что групповая работа является истинным референтом того, что Юнг называл индивидуацией – отдельной индивидуацией человека.