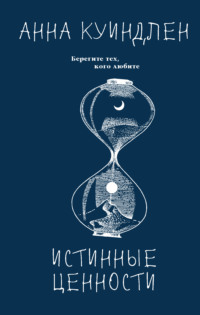Read the book: «Истинные ценности»
Anna Quindlen
One True Thing
© Anna Quindlen, 1994
© Перевод. Е. Елистратова, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
* * *
Пролог
Тюрьма – это не так плохо, как можно вообразить. Когда я говорю «тюрьма», то вовсе не имею в виду собственно тюрьму. Тюрьма – это такое место, которое вы можете видеть в старых кинолентах или документальных фильмах на государственном телевидении: все эти серые пространства со сторожевыми вышками по углам и колючей проволокой, закрученной петлями поверх высокой стены. Тюрьма – это где колотят ложками по прутьям решеток, затевают бунт во время прогулок в тюремном дворе и тащат самого тщедушного мальчишку-первоходка в душевую, пока охранник делает вид, будто не видит, бросают потом на произвол судьбы: пусть выбирается как знает, – и бледная кровь капает, смешивая малиновый и молочно-белый, по задней стороне его безволосых ляжек. И сумрачный взгляд его глаз навсегда остается обращенным внутрь.
По крайней мере, я всегда представляла тюрьму именно такой, но ничего подобного не наблюдалось в тюрьме округа Монтгомери. Тут имелось две комнатки: моя старая спальня на чердаке родительского дома была просторнее, чем они обе вместе взятые. Да, решетки здесь были, только закрывались они вручную, а не дистанционно, с бездушным электрическим клацаньем, этаким символом несокрушимости. Темница в стиле комедии Энди Гриффита1, тюряга из шоу, скорее дешевая пьеса на летний сезон, чем Достоевский, узилище для загадочного незнакомца, наделенного дрожащим тенорком и прибывшего в город с кожаной сумой через плечо, в которой потом обнаруживается решающая улика.
Койки в два яруса, туалет и пол, покрытый пестрым линолеумом, который так напомнил мне коридор больницы в нашем городке, что я задумалась, не один ли и тот же подрядчик поработал. После того как за мной закрылась дверь камеры, полицейский, который привел меня сюда после того, как они взяли мои отпечатки и сфотографировали, бросил на меня сочувственный взгляд, потом ушел. Когда-то давно, в старших классах школы, мы с этим парнем вместе ходили на один и тот же курс «французского для начинающих»: ему предстояло с грехом пополам набрать баллы для посредственного аттестата, а мне – начать долгий и кропотливый труд, увенчавшийся при выпуске премией Французского института. Коридор поглотил звук удаляющихся шагов, после чего воцарилась пронзительная тишина.
С той стороны, где располагался полицейский диспетчерский пост, можно было слышать, как кто-то печатал на машинке, очень неумело, и время от времени – кваканье полицейской двусторонней радиосвязи. Сверху доносилось гудение: смутный, трудно поддающийся определению звук – наверное, от электропроводки, проложенной за звукоизолирующими панелями потолка. Над собой я видела трубки невыразительного дневного света.
Теперь, работая в больнице, я иногда поднимаю голову, и мне кажется, будто я снова вижу этот потолок, эти трубки, что я снова заперта в крошечной каморке. Подавляющее ощущение, но не сказать, что очень уж неприятное.
Сидя на койке с зажатыми между коленями руками, я испытывала лишь облегчение. «Карцер, – вертелось в моей голове. – Тюряга. Кутузка». В попытке нагнать на себя страху с помощью всех этих дешевых жаргонных словечек, которые слетали с омерзительных рыбьих губ Эдварда Дж. Робинсона, когда я смотрела «Позднее шоу» в салоне: погруженный в темноту дом, серо-голубой, точно акулья шкура, экран, отец и мать спят наверху. Вонючая тюрьма, думала я. Большой дом. Но одна мысль никак не желала меня покидать: «Я одна. Одна».
Я легла на койку, подложив обе ладони под щеку, и закрыла глаза, ожидая, что в моих ушах снова раздастся голос, крик о помощи: принести чашку чаю, стакан воды, сандвич, дать еще морфия! – но никто не заговорил; никому я больше не требовалась. И в моей душе воцарился мир, какого я не знала уже давно. А еще я была свободна. Свободна в тюрьме.
И впервые за много дней я даже смогла забыть это зрелище: мой отец с гладкими черными волосами и профилем, несколько расплывшимся из-за возраста и хронической усталости, сует ложку с рисовой кашей в безвольный рот матери, точно ворон, выкармливающий в гнезде своего вороненка. Неопрятные пучки волос на голове, блестящие пустые глаза. Ложка. Глотание. Ложка. Глотание. Сжатые в нитку губы отца. Слабое прищелкивание ее языка. Вспышка любви и отчаяния, на один лишь краткий миг озаряющая лицо, чтобы тут же погаснуть.
И сегодня я все еще вижу эту сцену, она проигрывается перед моим внутренним взором, распадаясь на отдельные составляющие, особенно ее взгляд или его. Но тогда, ночью в тюремной камере, она выключилась на несколько часов. Я только и слышала, что монотонное гудение проводов, которое наводило на меня воспоминания о шуме городской улицы в Лангхорне, если бы вы пошли по ней летним днем, особенно там, где я жила, в районе больших домов.
Там всегда был этот странный гул. Если встать и прислушаться внимательно, вы могли догадаться, что это гудят сотни кондиционеров. Они гнали прекрасный, чистый и холодный воздух в прекрасные, чистые и холодные комнаты вроде наших, где лепнина потолка манила взгляд, который устремлялся вверх, от полированной поверхности обеденного стола, от подушек, разбросанных на большом, обтянутом коричневым бархатом диване напротив камина и рояля фирмы «Стейнвей».
Таким мне все это и вспомнилось, хотя в последние несколько месяцев жизни моей матери наш дом выглядел иначе: после того как диван из комнаты отдыха перетащили в гостиную, чтобы освободить место для больничной кровати; после того как всю мебель отодвинули впритык к стенам, чтобы могло проезжать инвалидное кресло; после того как бархатная обивка дивана была изгажена блевотиной и постоянно текущей слюной.
Сквозь мои веки просачивался тусклый красноватый свет и напоминал мне свет на тех же улицах в конце дня, особенно осенью. В тот волшебный час, когда машины – их было видно так хорошо, что безошибочно определялись владельцы, – бежали по нашим улицам, сворачивая на подъездные дорожки, или катили дальше, чтобы закончить путь где-нибудь в переулках или тупиках. Вон поехал доктор Белнап, педиатр, у которого я лечилась всю свою жизнь; и мистер Фрайер, который работал финансовым консультантом в городе и был одержим игрой в гольф; и мистер Дингл, директор школы, который мог позволить себе жить на нашей улице лишь потому, что его жена получила дом в наследство от родителей.
А потом, поздно ночью, после того как зажигались уличные фонари со своим собственным гудением, возвращались и некоторые другие. Последним всегда был мистер Бест, окружной прокурор. Было время, когда мой брат Брайан развозил местную газету «Трибюн» по утрам, сразу после рассвета, и говорил, что каждый раз, когда он крутил педали вверх по подъездной дорожке, мистер Бест уже дожидался возле бордюра из пахизандры, отгораживающего дом от улицы, и в нетерпении постукивал узкой ногой в кожаном шлепанце. На нем всегда был халат: вельветовый зимой и хлопчатобумажный в полоску – летом. Он никогда ничего не дарил Брайану на Рождество, разве что бейсбольную кепку с девизом «Пусть победит лучший», с намеком на собственную фамилию2 (такие мистер Бест всегда раздавал в годы выборов).
Как раз приближался год выборов, когда я угодила в тюрьму.
Мимо моей камеры прошел полицейский. Мне было известно его имя: Скип, – хотя именной жетон извещал, что он Эдвин Как-Его-Там-младший. В последний раз я видела Скипа в декабре на городской церемонии зажигания рождественской елки, когда самой красивой была признана елка моей матери – с яркими, на грани безвкусицы, украшениями и большими красными бантами. Скип был в школьной баскетбольной команде и каждую игру просиживал на скамье запасных (его широкая спина напоминала подставку для книг). На другом конце скамьи обычно торчал коротышка по имени Билл, и оба дожидались, когда их команда вернется с площадки и они снова станут частью нервной суматохи – вроде как при деле. Вероятно, мой брат Джефф был знаком с этим парнем. Скип за городом, в одном из тех одноэтажных коттеджей с двускатной крышей, что понатыканы вдоль сельских дорог, которые местами выписывали головокружительные петли.
А дорог таких в нашем округе насчитывалось немало. Они уходили туда, где кукуруза вымахивала выше любого фермера, где под маленькими навесами на прилавках из клееной фанеры продавались помидоры и кабачки-цуккини, которые к августу вырастали огромными, точно бейсбольные биты. Поскольку их никто не покупал, дети любили колотить ими о стволы деревьев, чьи кроны образовывали негустой лесной полог. Как говорила моя мать, цуккини хороши лишь маленькими, пока не отпали цветки.
Округ Монтгомери представлял собой многие акры ферм и лесов, откуда брала начало широкая дорога, вдоль которой шли ряды мастерских по ремонту всякой авторухляди, пиццерии, магазины уцененной электроники, мини-моллы с отвратительной китайской едой навынос и парикмахерские в стиле унисекс. Продравшись сквозь все это, вы наконец прибывали в Лангхорн, образцовый городок, известный своим колледжем – домом с парадным крыльцом и веерообразным окошком над дверью, неохватными, точно бочки, дубами по обочинам, азалиями весной и гортензиями летом, горами опавшей листвы осенью. Имелся в Лангхорне обувной магазин, набитый практичной обувью на плоском ходу, и ювелирный, где в витринах лежали груды перстней-печаток. Пожилая чета Дуайн: Изабель и Дин – держали книжную лавку. Удалившись от дел большого города, супруги почти не консультировались со справочником печатных изданий, поскольку и так знали все, что происходило в книжном мире, как и прочие обыватели Лангхорна, которые были в курсе всех событий своего маленького мирка.
Тюрьма находилась за пределами «настоящего Лангхорна» (именно так всегда здесь говорили: «настоящий Лангхорн»). И вы всегда понимали, кто живет на обсаженных дубами улицах, а кто – в хибарах и трейлерах за городской чертой. Рядом с тюрьмой находились склады, заправочная станция, супермаркет и магазин рыболовных снастей.
Полицейский Скип, сыгравший одну четверть единственной игры в выпускном классе, вечером явился проведать меня, потому что беспокоился, не плачу ли я от страха и одиночества. Боялся, что я слетела с катушек, ведь я сидела в тюрьме уже четыре часа, но мой отец до сих пор не приехал, чтобы внести залог и сказать: «Тяжелый выдался денек, дорогая?» – в этой своей манере, которая заставляла немногочисленных моих подружек сходить с ума по его голубым глазам, очаровательному изгибу брови и афоризмам. Доставив меня в тюрьму, полицейские ждали, что вот-вот распахнется дверь, ворвется отец и грозно спросит: «Могу ли я поинтересоваться, какого черта?» Мой отец председательствовал на кафедре английской литературы нашего колледжа и прославился своими англицизмами, которые приходились особенно кстати, когда он произносил речь в Женском клубе Лангхорна или в Епископальном книжном клубе на тему «Дэвида Копперфилда» (второстепенная книга, Эллен, просто детская; «Холодный дом»3 для их мозгов слишком сложен) или «Гордости и предубеждения»4. Когда я была помладше, отец, бывало, называл меня малышкой Нелл, а мама иногда звала Элли.
Поскольку отец не приехал, чтобы внести за меня залог, юный полицейский явился проведать напуганную девушку, которую ожидал увидеть в камере, и явно изумился, обнаружив меня спящей под флуоресцентными лампами: колени подтянуты к груди, щека покоится на сложенных, как для молитвы ладонях (по крайней мере, так он потом рассказывал корреспонденту «Трибюн»).
Я увидела статью после того, как мой брат Джефф и миссис Форбург решили, что мне пойдет на пользу, если я узнаю, что говорят в городе. «Шокирован» – так описывала газета состояние Скипа. «Не поверил собственным глазам» – так, по их словам, он себя чувствовал. Скип сказал, что в школе я всегда держалась холодно, с ощущением собственного превосходства и уверенности в себе, и был прав, а еще добавил, будто я очень умная, и в этом тоже не ошибся.
Но кое в чем Скип был умнее меня, поэтому знал, что в тюрьме девушка, едва достигшая возраста, чтобы называть себя женщиной, дабы придать себе важности, просто обязана сходить с ума от страха и адреналиновой атаки и всю ночь не смыкать глаз, особенно девушка, заключенная под стражу по обвинению в убийстве собственной матери.
И вот он обнаружил меня спящей, со слабой улыбкой на губах.
Вы могли видеть эту улыбку на фото, которые они сделали на следующее утро, уже после того, как я появилась в суде, где меня обвинили в преднамеренном лишении жизни Кэтрин Б. Гулден, а вот судебная художница не сумела ее схватить, когда рисовала меня сидевшей рядом с адвокатом, назначенным мне судом, от бледно-голубой рубашки которого в маленьком душном зале нестерпимо несло потом.
Я помню, как меня преследовала мысль: обвиняемый, которого защищает тип в бледно-голубой рубашке, да еще с короткими рукавами, заранее обречен. «И упекли ее в тюрягу, – думала я про себя. – И срок вышел долгий».
Уже ближе к вечеру, когда на торговый центр, что напротив муниципалитета, легли тени и когда наконец за меня был внесен залог – десять тысяч долларов наличными и закладная на четырехкомнатный особняк с оборудованным подвалом, – когда я покидала тюрьму округа Монтгомери, эта сопровождавшая мой сон улыбка по-прежнему блуждала на лице: этакий кривой полумесяц повыше моего острого подбородка и пониже моего же острого носа.
На первой странице «Трибюн» я красовалась с улыбкой Моны Лизы: темные волосы заплетены в косу и убраны со лба; надменный «вдовий пик» (то есть треугольный выступ волос на лбу); бушлат поверх мешковатого белого свитера и грязных джинсов да едва заметная полоса грязи на щеке. И я знала, что даже те немногие, кто продолжал меня любить, теперь посмотрят и подумают: вот она, роковая спесь Эллен, которая может улыбаться в худший момент своей жизни.
Кое-кто действительно так и говорил, в последующие дни, но я никак на это не реагировала. Да и что я могла сказать? Стоило мне появиться на публике, как кто-нибудь выскакивал мне наперерез, тыча в лицо объективом фотоаппарата: ни дать ни взять ритуальная маска на вражеском лице. Я только и слышала, что голос в собственной голове – высокий такой, – который снова и снова повторял: «Улыбнись фотографу, Элли. Ты такая хорошенькая, когда улыбаешься».
Говорила моя мать, которая оживала у меня в мозгу, перекрикивая и Бекки Шарп, и Пипа, и мисс Хэвишем, и всех прочих вымышленных людей, которых я с помощью отца давным-давно научилась ставить куда выше, чем живых, из плоти и крови. Мама говорила, а я слушала, потому что боялась, что иначе ее голос постепенно затихнет совсем; мимолетное видение сожмется до крошечной искорки и погаснет, исчезнет навеки, как фея Динь-Динь, когда ей никто не хлопал. Я слушала мамин голос, потому что любила ее. Пока мы были вместе, мама почти ни о чем меня не просила, так что я хотела сделать для нее хотя бы эту малость – запомнить, что надо улыбаться в камеру.
В конце концов я всегда делала так, как просила мама, даже если приходилось делать это скрепя сердце. Мне опротивел и кислый запах ее тела, и волосы цвета соломы в щетке, и судно у постели, и умывальник, и таблетки, которые нужно было ей давать, чтобы не кричала, чтобы не извивалась и не билась, точно форель на берегу, когда поднимаешь ее на остром крючке и жабры трепещут в агонии.
Я старалась исполнять все это и не кричать, не плакать: «Я умираю вместе с тобой», – но мама знала, чувствовала это, и в частности поэтому лежала на кушетке в гостиной и беззвучно плакала. Слезы придавали ее желтовато-серой коже, туго обтягивавшей кости черепа, глянцевитый оттенок плотной ткани, которую она раньше пускала на мебельные чехлы, или старых абажуров, которые она расписывала цветами, чтобы потом украсить мою комнату. Я старалась устроить маму со всеми удобствами, исполнять ее желания – все, кроме того, последнего.
Что бы ни говорили полицейские или окружной прокурор, что бы ни писали газеты, во что бы ни верили люди – и верят до сих пор, много лет спустя, – правда заключается в том, что я не убивала свою мать, о чем теперь сожалею.
Часть I
Помню тот последний совершенно нормальный день нашей жизни, себя и своих братьев в тот ничем не примечательный день – вот как сегодняшний: теплый и душный будний день конца августа, когда серое небо низко висело над городом, как ватное одеяло, между пологими горными хребтами, окружавшими наш Лангхорн. В тот день мы отправились в кафе за мягким мороженым в побитом открытом джипе Джеффа, махая руками из окон. Мои братья были красивыми мальчиками, а впоследствии превратились в красивых мужчин. Брайан унаследовал черные волосы и голубые глаза отца, а Джефф пошел в мать: каштановые волосы, глаза цвета янтаря и длинное, усыпанное веснушками лицо.
Обоих к тому дню покрывал загар: все лето один работал лагерным помощником, а второй занимался садоводством. Я же была бледной, поскольку будни просиживала в офисе в Нью-Йорке, а на уикенды отправлялась по гостям на Файр-Айленд, где больше времени проводила не на пляже, а на вечеринках с коктейлями, поскольку среди моих знакомых большой популярностью пользовалась тема рака кожи и кремов от морщин.
Потом я часто задавалась вопросом, почему не пыталась продлить удовольствие того дня, почему не смаковала каждую его минуту, как тающее мороженое на языке, почему не понимала, как это здорово – жить нормальной жизнью, когда один день ничем не отличается от прочих. Но, наверное, такие вещи понимаешь лишь потом, после того как жизнь перестает быть нормальной и повседневной. Все изменилось с того дня, с четверга, когда я все еще была собой прежней: самодовольной, зацикленной на себе, успешной – и счастливой в понимании людей моего круга.
– Да, Эллен, жизнь удалась, – сказал Джефф, который расспрашивал меня о журнале, в котором я трудилась. – Тебе платят за то, чтобы ты учила других жить. Ходишь себе на вечеринки, болтаешь с людьми, а потом высмеиваешь их в своей колонке. Все равно как если бы платили за то, что дышишь. Или играешь в теннис.
– И ты мог бы получать деньги за то, что играешь в теннис, – возразила я. – Это называется «профессиональный игрок».
– Ну да, с нашим-то отцом? – высасывая растаявшее мороженое со дна своего вафельного рожка, заметил Джефф. – Извини, па, мол, мистер Духовная Жизнь. Я тут решил отправиться на Хилтон-Хед, чтобы стать теннисным профи, но в свободное время обещаю читать Флобера.
– Разве нельзя начать строить свою жизнь, не оглядываясь на папочку? – спросила я.
Мои братья разразились непочтительным смехом и гиканьем.
– Нет, вы только послушайте! – воскликнул Джефф. – Эллен Гулден отрекается от отцовского благословения, причем с опозданием всего-навсего на двадцать четыре года.
– Маме нравится все, что я делаю, – заметил Брайан.
– Ну да, маме, – сказал Джефф.
– Джеффри, приятель, – позвал кто-то с другого конца парковки. – Брайан!
Мои братья дружно замахали руками в знак приветствия.
– Как дела? – крикнул в ответ Джефф.
– Я здесь изгой, – вздохнула я.
– Ты им была, когда жила здесь, – возразил Джефф. – Без обид, Эл! Ты как голодная шавка, а мир не любит голодных шавок. Люди их боятся: как бы не укусили.
– Почему ты говоришь словно радиокомментатор? – обиделась я.
– Видишь, Брай? Эллен вообще не способна расслабиться. Ей самое место в Нью-Йорке, среди таких же дерганых, как она. Бывай здорова, голодная шавка! Отправляйся туда, где собаки жрут собак.
Из-за низких облаков солнце было тускло-желтым, как одинокая лампочка в темной комнате. Асфальт под нашими ногами плавился, и угольная вонь витала над Лангхорном, точно удушающий аромат духов на коктейльной вечеринке. Отец вернулся поздно вечером (но мы к этому привыкли), некоторое время постоял в гостиной, привалившись к дверному косяку, затем пошел наверх, устало волоча ноги и непривычно молчаливый.
В этом не было ничего странного для мальчиков, с которыми у него установилась натянутая и несколько механическая манера общения, как и у многих отцов, но странно для меня. Мне всегда казалось, что я знаю, о чем думает отец, что чувствует. Когда бы я ни возвратилась домой: из колледжа, а потом из Нью-Йорка, – он зазывал меня в свой кабинет с темной мебелью и тусклым коричневатым освещением, наклонялся вперед в кресле и просто говорил:
– Ну, рассказывай.
И я выкладывала ему все: об известном писателе, который читал нам лекцию; о дискуссиях на тему синтаксиса между мной и редакторами; о соседе снизу, который изысканно, но несколько монотонно исполнял Скарлатти на маленьком старинном клавесине (я как-то углядела его в открытую дверь квартиры).
Частенько у меня возникало ощущение, будто я Шахерезада, развлекающая султана, или чиновница с квартальным отчетом перед правительственным бюрократом. Нередко мне приходилось истории и чудесные сказки сочинять, и тогда мой отец, бывало, откидывался на спинку кресла, и его лицо приобретало расслабленное выражение величайшего сосредоточения, как в те минуты, когда читал лекции студентам. Иногда в конце он говорил: «Интересно». И я была счастлива.
В тот день мама была в больнице и, как всегда в такие дни, дом без нее казался чем-то вроде театральной декорации. Да, это был ее дом. Сейчас, если при мне кого-то называют хозяйкой дома – такое случается нечасто, – я всегда думаю о маме. Она очень старалась вести дом и делала это замечательно. Готовила полезную для здоровья еду, посещала кулинарные курсы, убирала во всех комнатах дома, повязав на голову косынку, чтобы спрятать яркие волосы, – прямо рекламная картинка. Оклеивая комнату обоями, мама всегда оклеивала заодно и картонную рамку, чтобы потом поставить на письменный стол или прикроватную тумбочку с семейной фотографией внутри.
На двух самых больших фотографиях в гостиной были запечатлены наши отец и мать. На первой они вместе стоят на нашем переднем крыльце. Мама обеими руками сжимает руку отца, и ее лицо озаряет сияющая улыбка. Будто нет в жизни большего счастья, чем вот это: этот день, это место и этот мужчина. Она стоит, слегка наклонившись в его сторону, но он смотрит прямо в камеру, скрестив руки на груди; лицо серьезное, а глаза смеются.
Как-то раз Джонатан, когда мы с ним еще были любовниками, взял с пианино эту фотографию и сказал, что на ней отец выглядит так, будто готов вырвать из вашей груди сердце, зажарить и съесть на обед, закусив на десерт женой. Довольно точное описание, учитывая сложные отношения между Джонатаном и моим отцом – взаимоотношения двух мужчин, которые воюют друг с другом из-за сердца одной и той же женщины.
Интересно, держит ли отец эту фотографию по-прежнему на пианино? Или теперь мама озаряет своей сияющей улыбкой пыльное и темное нутро выдвижного ящика стола?
Рядом с первой стояла вторая фотография, на которой мама так же льнет к руке отца, а за другую его руку цепляюсь я, в платье и кепке. Фото сделано Джонатаном. Сегодня оно стоит на моем туалетном столике, самое вещественное из сохранившихся у меня доказательств существования семейного треугольника Гулденов.
Мама бы весьма опечалилась, глядя на мою нынешнюю квартиру, на грязновато-белую обивку дивана и как попало расставленные напольные лампы. Моя квартира – это дом женщины, которую никак не назовешь хозяйкой. Эта женщина прослушивает сообщения на автоответчике и снова убегает по делам.
Но мама не стала бы меня критиковать, как другие матери. Вместо этого она купила бы мне кое-что из вещей: дешевую, но красивую гравюру, для которой сама подобрала бы рамку, или какое-нибудь покрывало. И, набрасывая покрывало или вешая картину, она бы сказала с улыбкой: «Мы с тобой такие разные! Правда, Элли?» – но все равно не поняла бы, как не понимала раньше, раз за разом повторяя эту фразу: если ты отличаешься от тех, кем все восхищаются, значит, с тобой что-то не так.
Мама любила хозяйственный магазин Фелпса, и тамошние продавцы отвечали ей любовью. Отец, бывало, всегда ее поддразнивал: «Она снова оплатила Фелпсу ежемесячный взнос по ипотеке, поскольку стала единственной особой женского пола, узурпировавшей право на тунговое масло и ершики для мытья посуды!»
Отец всегда ее дразнил, а для разговоров у него была я.
Это был зачарованный день нашего зачарованного существования, которым мы жили, я и мои братья; день, когда мы отправились в кафе-мороженое. Ясно помню его даже сейчас. Потом мы валялись на траве на нашем заднем дворе, жарили и ели гамбургеры, смотрели телевизор. А на следующее утро отец спустился вниз, в мятых брюках цвета хаки, с закатанными по локоть рукавами голубой рубахи, и, опершись о кухонный стол, велел нам сесть. Я устроилась напротив него со стаканом апельсинового сока в руке, а братья уселись на стулья с перегородчатыми спинками, сиденья которых мама обтянула когда-то тростниковыми чехлами, каждый на своем углу кухонного стола. Я привожу эти детали не описания ради, а отдаю должное маме: в этом состояла вся ее жизнь, – мне же в то время подобные вещи внушали лишь презрение.
Когда я была маленькой, она иногда мне пела, чтобы поскорее заснула, хотя я предпочитала, чтобы это делал отец, потому что он придумывал песни, полные бессмысленной чепухи. «Вот тебе колыбельная: спокойной ночи, феттучини Альфредо! Колыбельная на добрую ночь, ригатони Болоньезе!» А мама пела что-нибудь скучное, где раз за разом повторялись слова «жива и здорова». От них-то я и засыпала. Отец всегда меня заводил; мама успокаивала. То же самое они проделывали друг с другом, а на мне, как иногда я думаю, тренировались.
Я вспоминаю. Это то, что я делаю теперь, чтобы жить. Зарабатываю себе на жизнь, устанавливаю жизненные ориентиры – через воспоминания. У меня хорошая память. Помню апельсиновый сок на столе и Брайана, который нагнулся чуть не до пола, чтобы снова и снова забрасывать мяч в рукавицу. Стакан был наполовину пуст, а стол был дубовый – большая круглая луна на прочном пьедестале с хищно растопыренными когтистыми лапами в основании. Мама спасла этот стол из лавки старьевщика, счистила старый лак и отполировала заново, орудуя воском так энергично, что мускулы на ее руках сами делались похожими на бледную полированную древесину.
– Рак, – сказал отец, когда мы уселись вокруг этого стола. – Некоторые смутные признаки, симптомы, появились давно, ее тошнило, но ваша мама затянула с этим: сначала решила, будто у нее грипп, потом вообразила, что ждет ребенка. Не хотела нас волновать: вы же ее знаете…
Мы сидели с поникшими головами, смущенные мыслью, что наша мать в свои сорок шесть могла подумать, будто забеременела. Мне было двадцать четыре, Джеффу двадцать, Браю восемнадцать. Посмотрите на эти числа, и поймете, что наше рождение было запланированным. Ведь мы-то ее знали.
В конце недели братьям предстояло вернуться в колледж. Чемоданы были уже упакованы и стояли наготове посреди комнат. А я и вовсе приехала из Нью-Йорка погостить всего на четыре дня, даже вещи не разбирала – только вынула одежду из спортивной сумки, которую бросила на столик в изножье кровати. Выдвижные ящики, выстланные бумагой в цветочек, оставались пустыми. Мне казалось, четырех дней на все про все хватит с лихвой. Задержусь дольше, и пропущу книжную вечеринку и завтрак с редактором важного журнала. Неделя в клинике, сказала она нам, придется удалить матку. По мне, так это нормально для женщины сорока шести лет, которая давно завязала с рождением детей. И лишь теперь, когда с каждым днем становлюсь старше, я понимаю, что нет ничего нормального, когда теряешь то, что делает тебя женщиной, – будь то грудь или матка, ребенок или мужчина.
Смешно: упоминание о беременности стало для нас большим потрясением, чем слово «рак», – в это нам верилось с трудом. Я вдруг догадалась, почему месяцем раньше мама казалась такой веселой, когда повела меня в город на обед в день моего рождения, и ее прозрачная кожа, какая часто встречается у рыжеволосых, то и дело вспыхивала ярко-розовым румянцем. Женщина сорока шести лет, которую так и подмывало спросить у дочери, искушенной обитательницы Нью-Йорка, где можно купить красивую одежду для беременной. И меня до сих пор пронзает боль, когда я думаю, что творилось тогда у нее в голове, прежде чем она наконец узнала, что именно с ней происходит.
– Химиотерапия. – Отец сказал еще что-то, только я не расслышала. – Печень… яичники… онколог…
Я схватила свой стакан и выбежала из комнаты.
– Эллен, я еще не все сказал! – крикнул отец мне вслед.
– Не могу больше слушать!
Я уселась на переднем крыльце в плетеное кресло с подушкой, которую, разумеется, сшила мама.
Вещи, которые продавались в антикварных лавках в моем нью-йоркском квартале, были очень похожи на те, что мать покупала много лет назад: старинные квадратные комоды из красновато-коричневого вишневого дерева, лоскутные одеяла и плетеные диванчики, выкрашенные в белый цвет. Мы жили в самом красивом квартале Лангхорна, но дом был маленький: обшитый белой доской фермерский коттедж, оставшийся от той эпохи, когда окружающие холмы были сельскохозяйственными угодьями, а колледж – поместьем Сэмюела Лангхорна, который на заре промышленной революции сделал состояние производством деталей для станков.
Наш дом напоминал пони, который осторожно прокладывал себе путь в табуне лошадей: раскрашенная миниатюра, фрагмент настенной живописи, но такой же красивый внутри благодаря стараниям нашей матери. Выйдя замуж за человека, которому не суждено было стать богатым, мама говорила, что ей все равно: зато у него призвание! Бывшая прихожанка католической церкви – или, может, в сердце своем мама так и осталась католичкой, – она формулировала это именно так, словно отец сделался священником или по крайней мере принял обет, хотя его «семь таинств» обычно обнаруживались в университетском каталоге: например, «Введение в поэзию Викторианской эпохи» или «Романтики и времена любви»…
Даже в самом красивом своем квартале, где большинство жителей были слишком богаты, чтобы работать в колледже, Лангхорн сохранял-таки необычное ощущение города, который старается казаться большим, чем есть на самом деле. Таковы, к примеру, Вашингтон и Орландо во Флориде, где есть Диснеевский парк. И Бостон. Когда уехала учиться в университет в Бостоне – или в Кембридж, как привыкали говорить все студенты Гарварда, – я была убеждена, что сделала это по причине страстного желания выйти на простор, поселиться в более космополитичном окружении и выбраться наконец из-под колпака Лангхорна, где каждый знал и мое имя, и мое общественное положение среди сливок общества. И, разумеется, я хотела спать с Джонатаном в любое время, когда заблагорассудится, а он был в Гарварде, так что я тоже ринулась туда. Я всегда боялась, что если я не заберусь в постель к Джонатану, чтобы согревать его вечно холодные ноги, то наверняка там очень быстро окажется другая.