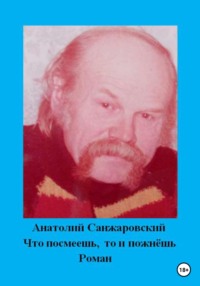Read the book: «Что посмеешь, то и пожнёшь»
Советский век – это Варфоломеевская ночь, растянувшаяся на семьдесят три года…1
Анатолий Санжаровский
Глава первая
Придёт судьбина, не отгонит и дубина.
На звук пчела летит.
Русские пословицы
1
Возвращаемся мы с Шукшина2 – в двери белеет записка.
И Валя, и я потянулись к ней разом, ещё с верхней ступеньки, как только завиделся бумажный уголок в чёрном дерматине двери. Валя оказалась проворней, выдернула записку.
– Ну-ка, ну-ка, – принялась она не спеша разворачивать с весёлым хрустом сложенный вчетверо листок, погллядывая сбоку на меня, выжидательно следя, какое впечатление производит на меня то, что вот она, жена, наконец-то добралась до моих тайн. – Сейчас мы узнаем, что за гражданочки добиваются свиданий с тобой. Признавайся, неверный, дрожишь?
Ладясь не пережать, я в меру вздрогнул, конечно, со страхом на лице, мелко и виновато затряс головой.
Глаза у неё засмеялись.
– Ладно, на первый раз… – Она подала уже вдвое сложенный листок. – Пускай твои секреты, эти твои печки-лавочки, остаются при тебе.
– Не возражаю. Так поступают все образцовые жёны.
Я прочитал записку.
Эта тарабарская грамотка была от почтальонки.
– Надо, – киваю на дверь напротив, – взять в шестнадцатой заказное письмо.
– Да ты знаешь, сколько сейчас!? Выходили из метро в Измайлове – я нарочно смотрела! – одиннадцать было. На автобус не сели, пешком пошли… Под первым снегом… Пока до своего Зелёного… Да наверняка уже за полночь наросло!
Я отомкнул свою дверь.
Не снимая пальто, не разуваясь, Валя радостно процокала по паркету к меркло освещённому с улицы окну.
Повернулась.
– Не зажигай. Скорее сюда! Ну!
На миг мне почудилось, что она летит. Одной рукой она звала-торопила меня к себе, другой показывала за окно.
– Ты только посмотри, что там! О-о-ой!.. Какой куделится сне-ег… Снегу-у-урка…
Я подошёл.
Она молча положила мне голову на плечо, не сводя полных восторга глаз с картины за окном, где всё было снег.
Стояла тихая, безветренная ночь.
Густой лохматый снег толсто мазал, одевал во всё белое размыто освещённый двор и всё во дворе: стоявшие к нам боком легковушки, детскую площадку с грибками и качелями, утыканные скворечниками дубы, березки, клёны. Дотянувшиеся под окном уже до четвёртого нашего этажа груши, плотно обсыпанные снегом, будто кто накинул на них величавые узоры, казались хрустальными.
– Заметь, – тихо заговорила Валя. – Ни в башне справа, ни в башне напротив, ни в хрущобке3 слева, ни в башне за ней – нигде ни огонёшка! Представляешь, кроме уличных фонарей никто не видит эту красоту. Сони-засони… Да я б за сон в такую ночь ну… штрафовала!.. Утром продерут глаза и ну ахать. Первый снег! Первый снег! А как он шёл, не видели. Всё проспали.
В знак согласия я легонько пожал её локоть – лежал у меня в руке.
– А у нас даже бобинька видел, – почему-то печальным голосом добавила Валя, осторожно пуская доверчивые точёные пальцы в белую жестковатую шерсть на спине у косматого магазинного пуделя, – стоял под рукой на подоконнике лицом на волю. Уши, ноги и хвост у пуделя были коричневые.
2
Этого пуделя Вале подарили.
В ту пору она ещё ходила в сад, и у неё помимо обычного имени Валя было ещё одно имя, весёлое, звонкое, – девочка Всеха.
Так Валю звали иногда домашние, потому что на каверзный, не без интрижки вопрос взрослых:
– Чья ты, девочка? Мамина или папина?
Валя отвечала каждый раз одинаково:
– Всеха.
Родители втайне дивились, козыряли мудрой, дипломатичной проницательностью хитрули, и, очарованные, захлёстнутые ею до сердца, горячо любили её.
Однажды в получку папа принёс этого космача пуделя с голубым бантом на шее.
Папа поставил пуделя на тумбочку, стал рядом, и девочка увидела, что у пуделя на шёлковой блёсткой ленточке была миниатюрная цветная соломенная корзиночка.
– Валёк-уголёк! – сказал папа. – А что сегодня было!.. Идём мы, – показал на пуделя, – с Найдой с работы лесом, нас догоняет зайка. Говорит: «Передайте, пожалуйста, гостинчик Вале». Ну-ка, девочка Всеха, посмотри, что тебе такое тут зайка передал? А?
Папа указал на корзиночку.
Девочка старательно приставила маленькую свою скамеечку к тумбочке-толстухе, в восторге выбрала из волшебной корзиночки конфеты и в благодарность поцеловала важного пуделя в чёрный пластмассовый нос шишкой.
На другой день Валя убежала из сада в обед.
Ей не терпелось поскорей получить новый зайкин гостинчик.
Девочка несчастно заплакала, когда увидела, что корзиночка пуста.
Вечером пришёл папа.
Смурная Валя сидела на скамеечке у тумбочки.
– А ты что, – спросила сквозь слёзы, – не той дорогой пошёл, раз не встретил зайку?
– Т-той, – потерялся папа.
– Тогда почему ж зайка ничего не передал мне? Я сколько сижу жду… Не несёт…
– Зайка осерчал, что ты ушла из сада раньше срока.
– А если я не стану зараньше уходить, он будет передавать?
– Будет.
Отцу что! Сколько до её загса наносил зайкиных подарков? Отзвонил своё и с колокольни вон.
А я носи до последнего дня.
И – ношу.
Любное дело, охотное, само в душу вьётся: кого любишь, того сам даришь.
Не без моего содействия зайка расширил ассортимент своих звериных услуг.
К обязанностям вечного поставщика сладкостей пришпилено и бремя доставалы всевозможных, а чаще невозможных билетов на редкие концерты, спектакли, выставки…
И конфетами, и билетами от века набита корзиночка. Заёка работает!
Можно немного подсыпать.
Я достаю из карманов свежих теплых конфет, в вахтанговском выстоял буфете.
– Эти, – поверх трюфелей кладу «Белочек», – выменял у белки за горсть орехов. А эти плиточки, – подбавляю «Мишек на севере», – выменял на мёд у самого у Топтыги…
Валя благодарно улыбается.
– А ты, – говорит она, – молодчик, что предложил от «Измайловского парка» идти пешком. И вправду, куда спешить? Завтра как-никак суббота, край недели. Ночь… Лес… Первый снег… Мы одни… Зиму я люблю. В детстве, бывало… Снега в заполярной могильной Воркуте… Наметёт – утром дверей не открыть. Прокапывали в снегу проходы. Как тоннели! Так интересно было в тех тоннелях играть. А то накидает поверх окон да морозец схватит – закрутит лукавый, во весь день с крыш на санках лётаешь. Бедная маманя не докричится к столу. Сначала зовёт мирно, а там уже и с грозой: иди, а то убью и есть не дам! А прибежишь вечером – счастьем вся светится, не знает, чем сперва и угостить…
Валя долго и благостно молчит, стоит слушает, как шуршат по стеклу снежинки.
3
Маятно, трудно уходит от неё её прошлое, но всё-таки уходит, и она, сморгнув грусть, с каким-то вызовом бросает:
– А знаешь, Должок, айдаюшки на улицу!
Ни на какую улицу мне не хочется почему-то, и я спрашиваю, лишь бы не промолчать:
– Нагуливать сон?
– Тебе бы только спать…
– Можно подумать, что ты не спишь.
– Яви божескую милость. Ну давай сходим к нашему пруду и…
– … и поздравим его с первым снегом?
– А хотя бы! Лично я в этом не вижу особого криминала. Хорошо в окошко на снег смотреть. Да каково сейчас бедным уточкам в холодной воде? Как подумала – мурашки выбежали. Покормить бы…
Ласковое слово и ребро ломит.
Через силу я соглашаюсь кормить уток.
Это какое-то нашествие.
Все пруды в парках, меж домами до такой тесноты забиты дикими утками, что подчас воды в пруду не видать. Одна копошащаяся серая каша.
Ближе к холодам вывелась ряска, и подачкам прохожих крякуши рады.
Вале нравится кормить уток.
Оттого куда ни иди, она всегда оказывалась у воды, и у неё всегда находился в сумочке пакетик с кукурузой.
Она снимает яркую косынку и лёгкое долгое пальто в коричневую клеточку.
Прощай, осень…
Через минуту она в поношенном коротком пальтишке, отороченном розовым поблёклым мехом, поправляла на голове перед зеркалом свою обнову, кроличью шапку с чуть выдающимся над глазами лохматым козырьком.
– Всю жизнь мечтала заиметь мужскую шапку вот с таким маленьким козырёчком. Ну, как она на мне?
– Да нормально, наверное… Не давит, не валится. Чего ещё?
Поводя плечами, расправляя на руках слежалые синие перчатки, она вышла впереди меня из комнаты, медленно стала спускаться по лестнице.
Расшитые узорами накладные карманы у неё на пальто, полные под завязку кукурузы, тяжело топырились.
Какое-то время я машинально брёл следом. Но необъяснимо почему остановился, постоял на разных ступеньках – духом взлетел назад на свою площадку, налёг на звонок в шестнадцатую.
Валя сбила руку со звонка.
– Ты что, хазар?! По ночам названивать! Воистину, как говорит у нас одна в бухгалтерии, у людей дураки внатруску, а у нас внабивку. Прежде чем звонить, подумал бы, что люди-то скажут?
– Люди ничего не скажут. Письмо – скажет!
– Не читал, а уже знаешь!
Она взяла у меня пластмассовый кукиш с колечком, на котором были нанизаны ключи, открыла дверь.
Зажгла свет.
– Что с тобой, Должок? На тебе лица нет.
– Что же вместо лица?
– Одна растерянность.
Растерянность? Пожалуй… Может быть… Сразу и ума не сведёшь…
Наверное, я ничего так на свете не боюсь, как своей интуиции.
…В глубокой молодости, когда я пробовал себя в журналистике, я защищал в газете одного парня, которого ни разу не видел.
Ни разу не видел, но – защищал.
Он был в предварительном заключении. Уже назначен был день суда. Против меня и того парня были следователь, районный прокурор. За меня и за того парня была лишь моя интуиция.
По рассказам его знакомых я сложил себе его суть, я поверил в его невиновность.
Дня за три до суда вышла моя статья.
Слушание отложили для более детального изучения дела. Однако потом пришлось вовсе отпустить парня безо всякого суда.
С той поры я почувствовал силу своей интуиции, именно с той поры я верю своей интуиции.
Но сегодня я боюсь её…
4
– Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Третья программа Всесоюзного радио начинает свои передачи…
Правой рукой я осторожно потянулся к динамику, что стоял в углу на сине обшитом стуле, выключил.
Из лени мы не заводили подаренный тёщей красный будильник. Он валялся в шкафу. Будил же нас в будни, в семь, оставленный с вечера невыключенным динамик. А в выходные дни и под выходные динамик мы всегда выключали.
Но сегодня как-никак суббота.
– Девушка Всеха! Ты зачем с ночи включила? Тебе куда-нибудь надо?
– Или у тебя выпало из ума? Субботник!
– В парке дорожки мести под наблюдением бдительной дворничихи?
– Не угадал. На сегодня нашу бюстгальтерскую сальдовую рать повысили. Доверили ухорашивать нашу новенькую станцию «Новогиреево». Конечно, не саму станцию. А рядом, у метро. Где мусор там убрать, где деревце подсадить…
– Крутиться будешь?
– Обязательно!
Я встал, поставил бигуди на газ.
С сухим, с пронзительным треском от побежавших по карнизу колесиков растолкал в обе стороны оконного простора по шёлковой голубой шторе с белыми гребешками волн, поднял жалюзи.
Мертвенно-бледный свет дня втёк в комнату.
На дворе не мело. Было как-то успокоенно-тихо.
За ночь везде на деревьях наросли царственно-великолепные узоры из снега. Белые высокие колпаки надели холодно-важные бельевые столбы.
– Ради Бога, покорми же скорей детей! – сонно скомандовала жена, указывая на балкон. – Раскричались, спать не дают!
В стеклянную дверь на балкон видно, как по перилам, по почтовому, с рваными сургучными печатями, ящику (он служил нам холодильником) скакали склочно галдевшие голодные воробьи. Эти шнырики жили у нас же на балконе под деревянным настилом, куда они набили для тепла Бог весть сколько сухих листьев, сена, пуха.
Я взял горсть подсолнухов – подсолнухами мама пересыпала посылки с яйцами, – но не выходил. Совсем не видимый этим разбойникам вслушивался в их шум. Наверное, они почуяли близкий завтрак и заволновались, засновали проворней, закипели, закричали как-то требовательней против прежнего.
Я вышел.
Отхлынув на ближнюю грушу у нас под окном, воробьи наблюдали, как я сыпал подсолнухи в пакет из-под молока с оконцем, на нитке свисавший с гвоздя в стене. Наблюдали без шума, как-то чинно.
А что было шуметь? Уйду и кормитесь.
С соседней башни, откуда-то с двенадцатого этажа, широко пропел петух, славя утро.
Месяца уже с два как проявился этот горький московский соломенный вдовец.
Подружки его где-то в деревне и петь ему самому осталось лишь до первого семейного праздника.
Пел он яростно, пел, пожалуй, даже несколько озлоблённо, домогаясь услышать ответное пенье, но ни один петуший голос не отвечал ему, не подхватывал. Оттого задор и вызов в нём помалу слабели, тухли, и скоро с той же выси падали уже какие-то тоскующие, просительные крики, и прохожие, слыша их, как-то особенно виновато улыбались друг другу и опускали глаза – давила-таки тоска по своей Полтавке, по своей Верейке, по своей Киндельке. Стегала-таки боль по своей деревеньке, а такая деревенька жила в каждом: родился ли, рос ли, работал ли, отдыхал ли там.
Послушал-послушал я тревожное пенье и, вздохнув, вошёл в комнату.
5
Слившись калачиком, Валя всё ещё дремала.
У неё не один – оба глаза воровали.
– Девушка! Да ты не опоздаешь? Я думал, ты уже завилась… Чем тебя кормить?
– А чем не жалко.
Я поставил на газовую плиту кастрюльку с водой на любимые ею яйца в мешочек и понёс в туалетную комнату долго кипевшие бигуди.
Щербатой деревянной ложкой я вылавливал по одному из кастрюли эти пупырчатые пластмассовые чурочки и подавал ей.
Пока она, из-под локтя косясь в зеркало, накручивала на них прядки тёмных волос, я со сна пускался разглядывать наклеенные над зеркалом одна над одной календарные стенки: зимний березовый лес, ромашки на лугу и на самом верху, под потолком, по голому сосновому стволу взбирался медведь. Снизу на медведя удивлённо и с восторженным подобострастием пялился синий волк-судья со свистком на груди и в кедах. Волка я вырезал из подарочного плёночного пакета.
Моя берегиня4 завивалась очень уж медленно, без аппетита, поэтому все эти картинки я самым тщательным образом изучал каждое утро в течение шести лет и, насколько помнится, мне это ни разу не надоело.
Правда, иногда меня клонило в философию.
– И это, – говорил я, – каждый божий день!.. А нельзя ли… Раз хорошенечко закрутись и на весь год!
– Можно при условии, если ты раз хорошенечко поешь – и на весь год!
– Ты везде свои условия выставляешь.
– Только так. Лучше помоги. Мне неудобно, накрути на затылке. На две бигудёжки там осталось.
Я накручиваю всё на одну оранжевую болванку.
– Ну я же просила на две!
– Я ж не виноват, что всё уместилось на одной! – Я поднял глаза кверху: – Михайло Иваныч! Ну скажи хоть ты ей!
Кажется, медведь дрогнул и живей дёрнул вверх, а предусмотрительный волк настороже отпрянул.
После, покуда она ест, я в блеск начищаю её сапоги, достаю из обливного таза под диваном самое роскошное яблоко, долго мою сначала под горячей струёй, потом под холодной, вытираю, кладу в походную жуковую сумочку, похожую на парфюмерный магазинишко в миниатюре.
К яблоку добавляются два крупных кубинских мандарина, пакетик с соевыми конфетами «Кавказские» к предобеденному чаю; в кошелёк идёт рублёвка на сам обед, два пятака на дорогу туда и обратно.
Подумав, я перекладываю монетки в карман с расшитыми розами. В толчее всё легче из кармана денежку достать, не то что из сумочки.
Хотя… Совсем из памяти вон…
Ей же никуда сегодня не ехать!
Метро рядом, через школу от нас. И чая не будет. Какой ещё чай на субботнике?
Напихал всего как в обычный будний день. Ну да ладно.
Вот, пожалуй, и всё. Собрал…
Жена мне кажется беспомощной восьмиклассницей. Каждое утро, чудится, я только для того и просыпаюсь, чтоб собрать её, дать последнее наставление, пока она завтракает.
– Валентина Нифонтовна, ты уж будь там похитрей на переходах. Опаздываешь не опаздываешь – не суй, пожалуйста, нос под колеса. Помнут!
– Увижу красивые колёса – суну! – Посмеивается без зла. – Ну не нуди, а? Хоть в субботу отдохни от своих лекций.
В прихожей я помогаю ей одеться, целую её в весёлую щёку, и она уходит.
6
Уже хорошо рассвело.
Я снова позвонил в шестнадцатую.
Открыл сынишка с ранцем за плечами.
Он бежал в школу.
– Миша! Мама или папа дома?
– Они ещё спят. И они совсем вам не нужны Вам нужно… – Мальчик наклонился за дверь, подал письмо. – Вот…
Письмо было из дома.
По мелким, друг на дружку падающим буквам на конверте я узнал братову руку.
Здравствуйте, дорогие Тоник, Валя!
Получили от вас два письма. Хотел и на второе не давать ответа, но мама настояла.
Причина нашего молчания – горькая правда, которую не хотели вам сообщать, а теперь придётся.
Если б вы знали, как нам сейчас трудно, но я-то лось здоровый, вынесу, дал бы Бог здоровья маме, а у мамы оно пошатнулось и очень сильно.
Бедная наша мама пластом пролежала три недели, да, три недели. У неё плохи дела с сердцем, сильные головные боли, а это, наверно, из-за того, что плохо работает сердце. Давление чуть-чуть пониженное, пульс был 92, это плохо, сейчас 80, лучше.
Было уже начала подниматься, есть понемногу (сама сильно похудела, хотя и не была полной) и вдруг коварный неожиданный удар – воспаление легких (правая сторона).
Вот тут-то и началось самое мучительное. Это было 3-4 октября. В боку кололо, словно иголками, что ни вздох, то страдание, а не плачет, только охает.
Вызвал скорую, а сам начал её собирать. Поднял с кровати, начал ноги мыть в тазике, а она, бедная, не может сидеть, так ей уж плохо.
Мою я ей ноги, а у самого слёзы ливмя сыплются в тазик. Взяла она меня за голову и говорит:
– Сынок, шо ты плачешь? Всё равно колы-нэбудь один раз плакаты…
Не знаю, к чему это она так сказала.
Собрались с горем и с божьей помощью, скорая отвезла в больницу на приём. Принял врач, прошла рентген.
Если бы вы знали, как мы добирались до дома. Лил дождь как из ковша, а мы (от больницы до нас, сами знаете, метров с двести) пешком 40 минут добирались, и что ни шаг, то страдания.
На скорой мама не схотела ехать, сказала, что ей лучше.
Дома налил кипятка в грелку и полулёжа на кровати мама заснула (лежать трудно). В больницу не положили, нет мест для нашего брата.
Через день пошёл за снимком.
Рентген показал воспаление правого лёгкого. Курс лечения с воспалением лёгких длится 21 день, если всё будет хорошо.
Боли в боку немного обвяли, сникли. Стало легче, а воспалительный процесс продолжался.
Какое же лечение? Таблетки да капли! А надо бы назначить уколы, банки, да этого херакнутый терапевт Святцев не соизволил назначить.
Усилились головные боли, заболели руки и ноги, кружится голова, в глазах разноцветные круги, слабость (мама ест очень мало, ни мой Бог; всё есть, всего до воли, а аппетита – нету).
Сегодня – оно уже отошло во вчера – снова водил на приём.
Наконец-то положили (надо бы было показать её невропатологу, но невропатолога не было, в военкомате принимал допризывников), положили не в местную, не в районную больницу, нет мест, а в Ольшанку. Из Верхней Гнилуши, из райцентра – в глушь! Районная больница на задах у нашего огородчика, а вытолкали лечиться за 20 км от нас! Какой у нас старикам почётище!
Возили на скорой, ездил и я.
Маме очень плохо, сильно уж болит голова. Жалко на неё смотреть, сердце аж вскипает. Что характерно – температура почти нормальная. Не знаю, чем все это кончится. Развязалась четвёртая неделя, а улучшения никакого.
Я остался один, круто приходится, всё на мне: и хозяйство, и работа, и дом. Не в масть мне всё это. Глаза б завязать да уйти…
Мама сказала:
– Напиши Антонику, хай прииде, як шо можно хочь на недильку. Тоби поможе та и я подывлюсь на його, а то бачишь, яка я важка5 та погана: года немолоди, всэ може буты.
Тоник, если можешь, приезжай хоть на недельку. Всё у нас есть, плохо одно, что постигло нас такое горе. Всё будет хорошо. Даст Бог, мама поправится.
Приезжай, Тоник. Ждём.
12 октября, 4 часа ночи.
Глебка.
7
Маму определили в Ольшанку одиннадцатого.
В понедельник.
А днём раньше, в воскресенье вечером, мы с Валентинкой передвинули диван – стоял, как корабль, чуть ли не посредине комнаты – поближе к оконному свету. Передвинули, ну и передвинули, эко чудо.
Вместе с диваном пришлось на новое место перекинуть и валявшуюся под ним полотняную сумку со старыми сушёными грушами от мамы.
Встали мы в понедельник утром – белые толстые короткие черви у Валентинки на чёрном платье, что лежало на спинке кресла, на потолке, даже на входной двери.
Мне тогда суеверно подумалось, что это к худу.
И вот оно вошло?
Я смотрю на письмо, вижу: огромный нож бьёт меня по рукам, и отрубленные окровавленные кисти, судорожно сжимая в брызгах крови письмо, тихо, сторонне переворачиваясь, как в замедленной съёмке, летят в чёрную бездну.
Громовой хохот.
«И это смешно? Кому?»
«Мне».
Огляделся вокруг – никого вокруг кроме приплясывающего ножа величиной с дом.
«Это я говорю».
«Кто ты? Я не вижу тебя… Хоть назовись».
«Я – нож!»
Кажется, я что-то надевал, куда-то на чём-то ехал, ехал, ехал и всё никак не мог приехать. Я сидел у какого-то окна. Стеклина холодила. Я смотрел в неё на метель – из свинцового матёрого буйства вытекала, бесконечно удлиняясь, широкая сталь беды. Вдруг этот нож проткнул облако – посыпался мелкий пух. Подбираясь, ужимаясь, облако истаяло, пропало. И тут же в мгновение нож с приплясом развалил дом, будто арбуз, на две половины, пройдя посередине комнат. Из жильцов кто-то уже встал, кто-то ещё лежал с открытыми глазами, сибаритствовал, пользуясь правом субботы. Разом все оцепенели на своих местах, с немым ужасом таращат глаза на то, как половинки расходились в противоположные стороны, всё быстрее удалялись, опрокидываясь и исчезая в белом мраке пурги…
«Зачем ты это сделал?»
Нож засмеялся:
«Но я могу и это!»
Игольчато-тонкое начало ножа посунулось из сумрака метели к маме.
«Не смей! Возьми лучше меня. Взял же руки – возьми всего! Только не трогай её…»
«Скорее… скорее… скорее…» – торопил я кого-то, пряча глаза в воротник, прикрывая лицо руками, но ещё явственней видел летящий нож уже у материнской груди…
Наконец вокзальная очередь придавила меня к окошку.
– Девушка! На ближайший до Воронежа… Один в общий…
– Сегодня ничего… Только завтра, вечер. Общих нет. Плацкартный?
– Ну-у…
– Ехать всю ночь. Постель берёте?
– Я – спать? Думаете…
– А я никогда не думаю.
– Нашли чем похвалиться… Вот… Деньги на билет…
В билете жила какая-то ясная, властная сила.
Пропали видения, утишилась во мне паника. Я почувствовал всего себя в сборе, твёрже.
За тот час, покуда тащился трамваем обратно с Казанского, я продумал всё, чем займусь до поезда.
Выставил на балкон две красные табуретки, заходился доглаживать на них рубанком старые доски на книжный стеллаж под потолок на кухне.
Сначала кинулись мы было купить, но оказалось, что стеллажи не продают. Мы в мастерскую. Пожалуйста, заказывайте, восемьдесят рубчиков метр. Кусается стеллаж.
И потом.
Эту бандуру в прихожей не пропихнёшь, через хрущобный балкон если – четвёртый всё же этаж! – не вскинешь…
Сел я тогда на велик и покрутил за железнодорожную ветку в милое Кусково, откуда в предолимпийской суматохе распшикали жителей по всей Москве. Кусково срочно сносили.
Дом, где была там у меня на Рассветной аллее, 56, своя холостая восьмиметровая клетушка-пенал, ещё не снесли огнём.
Из пола наковырял на стояки, из сарайных перегородок нарвал на сами полки, перевёз на велике.
Загорелся сразу ладить, даже начал и тут же отложил. Командировка. А там… Сегодня – завтра, сегодня – завтра… Доманежил дальше некуда.
Пахнущая старым жильём стружка наполовину забелила ножки у табуреток.
Отчаянный азарт водил рубанком. Разохотился, разошёлся я, да не в час позвал к себе звонок.
С глухой досадой пошёл я открывать.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что режим, который сложился в СССР, был тоталитарным. («Известия». 7 мая 2010.)