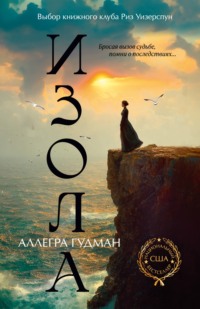Read the book: «Изола»
В память о Мадлен Джойс Гудман
© А. И. Самарина, перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Иностранка®

Пролог
Мне до сих пор снятся птицы. Они кружат над бушующим морем, камнем падают к самой воде, а потом взмывают к солнцу. Я зову их, но тщетно. Под моими босыми ногами – каменистый остров, а вокруг никого.
Всматриваюсь и вижу, что мимо плывут три больших корабля – так близко, что можно докричаться.
Заряжаю ружье и стреляю в воздух.
Со всех ног бегу к самой кромке воды. Кажется, будто до корабельных вымпелов уже можно рукой дотянуться.
Я в кровь обдираю ноги о камни, а колючие ветви цепляются за рукава и царапают кожу. «Стойте! Погодите! Спасите меня!» – кричу я что есть духу.
Капитан корабля, одетый во все черное, слышит меня и стреляет в ответ. Он смотрит на меня с палубы и расплывается в улыбке.
Я стреляю еще раз, и десять тысяч птиц с криками взлетают в небо. Они хлопают крыльями, но этот звук тонет в вое ветра. Меня заметил уже весь экипаж, и все‐таки капитан отдает приказ плыть дальше.
Я тянусь к кораблям, хоть и не в силах их остановить. Захожу в воду и пытаюсь догнать моряков.
Путаюсь в намокшем платье, тяжелые юбки тянут меня ко дну. Хочется кричать, я открываю рот, но вода мгновенно заполняет горло. Я не могу ни взлететь, ни уплыть отсюда. Мне ни за что не сбежать с этого острова.
Часть первая
Перигор
1531–1539
Превыше всего – удерживаться от греха, со всей верой и тщанием, и все силы свои приложить к тому, чтобы не сотворить, не сказать и не помыслить того, что разгневает Господа. Не позволяй соблазнам мирским, плотским и дьявольским взять над тобою верх. Помни, что говорил святой Августин: человек своего смертного часа не ведает. Эта мысль поможет тебе хранить добродетель и беречь себя от греха. Помни: однажды ты умрешь, а тело твое, обглоданное червями, сгниет в земле, и только душа, оставшись одна-одинешенька, будет держать ответ.
Анна Французская. Уроки для моей дочери. Глава II (ок. 1517 года)
Глава 1
Своей матери я не знала. Она умерла в ночь, когда я родилась; вот как вышло, что мы разминулись во тьме. Она оставила мне свое имя – Маргарита – и кольцо с рубином, но обделила воспоминаниями. Отца у меня тоже, считай, не было. Когда мне исполнилось три года, его убили в Павии, где он защищал французского короля. Тогда‐то я и стала разом и богатой, и бедной, хоть еще не понимала этого. В наследство мне перешел замок в Перигоре, а в придачу – несколько деревень, виноградников и полей, залитых солнцем. Но родственников у меня не осталось – ни родителей, ни теть, ни дядь, ни братьев, ни сестер. Меня толпой окружали слуги, но я страдала от одиночества.
Моя няня Дамьен стала и моей первой учительницей. Лет ей уже было за сорок, и к этому почтительному возрасту волосы, некогда огненно-рыжие, потускнели, точно кирпич на солнце. Глаза смотрели пронзительно и строго, но в них читалась и усталость, а вокруг рта залегли тоненькие складки, точно на льне, который забыли разгладить. У няни был большой мягкий живот и пышная грудь, напоминавшая две большие подушки. Когда мы ложились спать, она прижимала меня к своему тучному телу – крепко-крепко, как родную. Назвать меня своей Дамьен не могла, хотя сама принадлежала мне по праву: она прислуживала моей семье с самого детства.
Няня рассказывала, что мой отец был благороден не только происхождением, но и душой. На поле боя сперва погибла его лошадь, но даже тогда он не сдался, а продолжил разить неприятелей мечом и пикой, пока вражеская стрела не вонзилась ему в шею. Он упал. Тут боевые товарищи отломили хвост у стрелы и унесли раненого в палатку. Пришел хирург, чтобы вырезать острие, но и во время операции отец требовал вернуть его в жерло битвы. «Отнесите меня обратно», – шептал он, а кровь (рубиновая, как мне представлялось) текла и текла ручьями из раны на шее.
А про мать говорили, что она была писаной красавицей. Глаза у нее были зеленые-зеленые, куда зеленее моих. А волосы – золотистые, как озимая пшеница, мои же напоминали цветом тусклый янтарь. Руки у матери были тонкие, изящные, с длинными ловкими пальцами. Она играла на лютне чисто, без единой фальшивой ноты, но по своей скромности услаждала музыкой только дам, живших при ее дворе. В детстве она была послушной и благочестивой, а вот со мной няне пришлось помучиться.
Дамьен, суетливая и беспокойная, отличалась добротой. Она прощала все мои шалости и лишь изредка выходила из себя, когда на то имелся по-настоящему веский повод. В тот день, когда впервые приехал мой опекун, она неожиданно резко меня осадила.
– Нет-нет, ты не готова! Это не обувь, а какой‐то позор! – всплеснув руками, воскликнула Дамьен, когда гонец вызвал меня на первый этаж.
– Что ж тут позорного? – спросила я, пока она поправляла мне рукава, расшитые серебристыми нитями.
Потом няня грубо усадила меня на стул, и я тут же обиженно сгорбилась.
– А ну выпрямись! – мигом потребовала Дамьен. – Нельзя, чтобы спина касалась стула.
– Почему это? Что будет, если коснется?
– Никаких вопросов.
– Почему?
– Боже милосердный!
Моя няня не умела читать, но зато научила меня молиться: Господу нашему, Деве Марии, нашей Всеблагой Матери. Сперва, произнося нараспев эти слова, я представляла своих родителей, но Дамьен загубила в зародыше детскую ересь, разъяснив, что молиться нужно не им, а Небесному Отцу и Матери, властителям земного мира и райских кущ. Тогда‐то я и поняла, что принадлежу Господу и Богоматери, а они мне – нет. С наследством дела обстояли схожим образом. Я не могла править землями, которые перешли мне по наследству: за меня хозяйством распоряжался опекун. Я знала, что так будет до самой моей свадьбы. Жениха мне уже нашли, оставалось только дожить до пятнадцатилетия, чтобы сочетаться с ним законным браком.
А если не доживу, думала я, то отправлюсь прямиком в рай. Душа моя воспарит над самыми высокими башнями! И я уже не буду страдать ни от голода, ни от холода, только наслаждаться пением ангелов. Такие представления о загробной жизни мне прививали, а у меня напрашивался вопрос: почему бы тогда не умереть прямо сейчас, чтобы попасть в рай поскорее? Когда я задала этот вопрос Дамьен, та меня пристыдила. «Не гневи Господа, – сказала она, – только вздорные, озорные дети задают такие вопросы. Ты вон еще рукодельничать толком не научилась, а по волосам вошки ползают! Не рановато ли в рай?» Дамьен всегда зорко высматривала у меня вшей; она и по сей день их находит, хотя вид у меня уже вполне благопристойный.
– Какой ужас! – приговаривала она, снимая у меня с головы личинки, точно крошечный репей. У моей матери вшей наверняка ни разу не было, что и неудивительно, она ведь была ангелом во плоти. Я даже представляла, что у нее в волосах прятались не личинки насекомых, а малюсенькие ангелочки.
Я и впрямь была вздорной озорницей, как и сказала Дамьен. Подолы моих платьев быстро истрепывались и бахромились, потому что я часто взбиралась по крутым ступенькам наших сторожевых башен, чтобы полюбоваться видом. Эти самые башни – грозные, древние, испещренные бойницами – возвышались на скалах с северной и западной стороны от замка; когда‐то их возвели здесь для того, чтобы было удобнее командовать войском и защищать свой край. С вершины можно было увидеть мои деревни, фруктовые сады, виноградники, реку, которая вилась внизу зеленой змеей, каменный мост через нее. А обувь я пачкала, то и дело бегая на конюшню посмотреть на лошадей. Дамьен пыталась меня поймать, но ей не хватало проворства, приходилось звать на помощь конюхов. Сперва я беспечно пряталась от них за корытами с водой, из которых пили животные, и дверцами, ведущими в стойла, но в конце концов сдавалась и уходила за няней в замок.
– На все воля Господня… – прошептала Дамьен теперь. Тревоги обо мне не оставляли ее ни на секунду. Няня выдавила себе на руки капельку масла, пригладила мне волосы и затянула их так туго, что у меня глаза на лоб полезли. – Ничего не трогай, – велела она, надевая мне на голову обруч, украшенный жемчугом, и протянула зеркальце.
Увидев себя, я покатилась со смеху: глаза вытаращены, серебристый наряд сковывает движения, будто смирительная рубашка.
– Неужели ты ничего не понимаешь? – расстроилась няня.
А я и правда не понимала всей серьезности происходящего, но решила подыграть Дамьен, чтобы хоть немного ее порадовать. Состроив серьезную мину, я чинно отправилась на встречу с опекуном. На лестнице няня придерживала мне подол, чтобы я не запнулась.
Лабиринт гулких коридоров привел нас в галерею, через которую мы попали в зал – огромный, как церковный неф, с высокими, точно сами небеса, потолками. Он тоже когда‐то принадлежал семье моей матери, а потом достался мне, но я редко сюда приходила. Зал был слишком большим для такой крохи, как я.
Я вообще мало знала о помещениях для приемов, расположенных в замке, – не больше, чем о фермах и виноградниках, потому что все это принадлежало мне только формально. У меня было три служанки: Франсуаза, Клод и Жанна, и они во всем меня слушались, но при этом подчинялись еще и нашей экономке, а та держала ответ перед распорядителем моего опекуна. Про работников, которые трудились на моих полях, я и вовсе ничего не знала. Управляющий собирал налог с арендаторов и передавал его опекуну. Он же получал выручку с продажи винограда и яблок из моих садов, грецких орехов, которые собирали по осени. Таковы были его обязанности. Когда я вошла в зал, опекун одарил меня хозяйским взглядом, точно я была его гостьей.
Ему к роскошным, величественным залам было не привыкать, а я с любопытством разглядывала сводчатые окна и гобелены, на которых были изображены аристократы, выбравшиеся на охоту, и их челядь. Как раз за спиной у опекуна висел ковер с подобным сюжетом: на нем были вытканы два оленя – один застыл в прыжке, а второй лежал на земле в окружении охотников.
– Иди сюда, малютка, – позвал мой опекун.
Я сделала реверанс и заметила, что у Дамьен дрожат руки. Никогда еще я такого за ней не замечала.
Опекун был кузеном моего отца. Его звали Жан-Франсуа де ля Рок де Роберваль, и он пользовался всеобщим почитанием, потому что был другом детства самого короля. Правда, моего отца все равно уважали куда больше, во всяком случае, так рассказывала Дамьен. А в маминых жилах и вовсе текла королевская кровь. Но у опекуна все равно имелось веское преимущество перед ними: он‐то остался жив.
Роберваль, знаменитый путешественник, бесстрашно бороздил моря и защищал Францию от английских кораблей. За это его любили на родине и страшились за ее пределами. Слава его была повсеместна. Бледный и худой, он предпочитал камзолы черного цвета и смотрел на мир ясными, пронзительными, небесно-голубыми глазами. А еще носил короткую, уже побеленную сединой бородку, которая придавала ему сходство с лисом. Опекун восседал за столом темного дерева, опустив ладонь на какую‐то толстую книгу. Рядом стоял графин с вином. Еще я разглядела на столе сверкающий, как бриллиант, кубок, а рядом – самое интересное! – маленький переносной шкафчик-кабинетец с ящичками и дверцами.
– Это моя кузина? – уточнил опекун у секретаря, сидевшего за соседним столом, поменьше. Родич не знал, как я выгляжу, потому что до этого дня ни разу не приглашал меня на встречу.
– Так и есть, – подтвердил секретарь.
Опекун смерил меня бесстрастным взглядом – так порой смотрят на котенка, раздумывая, оставить его или утопить.
– Сколько тебе лет?
– Девять, мой господин.
– Подходящий возраст, – заметил опекун.
«Для чего подходящий?» – подумала я, но, вспомнив наставления няни, прикусила язык.
– Как‐то она маловата для своих лет, – продолжал опекун, обращаясь к своему секретарю. В этом он был неправ, но никто не стал с ним спорить. – Надо бы подрасти. Подойди ближе, – потребовал он. Я повиновалась. Миниатюрный кабинетец, который так привлек мое внимание, теперь оказался совсем близко – до него было рукой подать. Вот бы и мне такой, думала я. Ящички тут как будто бы под мои руки делали. Ах, если бы опекун только подарил мне эту игрушку! Он ведь у нас тут всем заправляет. Шкафчик был сделан в виде крошечного дворца с фронтонами и колоннами; ящички украшали узоры из слоновой кости. Что же он там хранит? Драгоценности? Документы? Святые мощи?
Он заметил, как я пялюсь на его вещицу, но ругать меня не стал.
– Хочешь посмотреть поближе?
Я отважно кивнула. Опекун с улыбкой поманил меня и привлек к себе, чтобы показать позолоченные фиалы и канелюры, мозаику на дверцах, а потом одним движением пальца открыл нижний ящичек.
От неожиданности я чуть было не запрыгнула ему на колени.
– Что там? – спросил опекун, очень довольный собой.
– Золото, – прошептала я, не сводя глаз с ящичка, доверху набитого экю. Я в жизни не видывала столько монет – и таких дивных шкафчиков тоже.
– Это на одежду и уроки, – сообщил опекун и протянул Дамьен горсть экю.
Няня тихо поблагодарила его и попятилась, а опекун тем временем продолжил беседу со мной:
– На чем ты играешь?
– Ни на чем, мой господин.
– Что, ни на одном инструменте не умеешь?
– Не умею.
– А писать умеешь? – Я замешкалась с ответом, и тогда он уточнил: – Имя свое написать можешь? – Я кивнула, хотя письмо у меня выходило из рук вон плохо. – А читать можешь?
– Только знакомые слова, мой господин.
– Можешь прочесть только те слова, которые знаешь, – повторил он.
– Да, мой господин.
Опекун улыбнулся.
– Ну что ж, учись прилежно, чтобы не быть дурочкой.
А я вовсе и не дурочка, подумала я, особенно для своих лет. Я посмотрела на шкафчик, и мысли потекли совсем в другое русло. Раз я, по-вашему, такая кроха, думала я, так подарите мне этот крошечный кабинетец. Я отнесу его к себе в комнату и буду с ним играть. Разложу по ящичкам все свои сокровища: кольцо с рубином, жемчуг, золотой кулон, маленькие ножнички. Таким было мое негласное желание, и на миг мне даже показалось, что оно вот-вот исполнится. Опекун снова смерил меня взглядом – благородным и щедрым, как мне показалось.
Я ждала.
А он продолжал разглядывать мое лицо.
И неожиданно бросил:
– Ступай.
В моем взгляде застыл немой вопрос, но опекун не стал ничего объяснять. Я сделала реверанс. Родич поднялся и заговорил о каких‐то делах со своим секретарем.
Я нехотя поплелась за Дамьен по галерее и коридорам. Позже, на лестнице, я попыталась узнать, в чем же дело.
– А почему он…
– Тсс! – шикнула на меня Дамьен.
Она разрешила мне говорить только после того, как мы вернулись в роскошные покои из нескольких комнат, в которых когда‐то жила моя матушка. Мне особенно нравились гостиная, столовая, моя спальня с высокой кроватью, задернутой зеленым балдахином, огромный камин и резные стулья, стоящие рядом, но, увы, тут не было никаких игрушек и милых безделиц и уж тем более чудесного шкафчика с потайной пружинкой.
– Как бы мне хотелось… – начала я.
– Неважно, чего тебе хочется, – оборвала меня Дамьен.
– Ну почему ты никогда не встаешь на мою сторону? – возмутилась я.
– Неправда, я всегда за тебя горой, – возразила она.
– Как ты не понимаешь…
– Ишь, надулась, – сказала она. – Прекрати, это некрасиво.
– Да я не то что надуться, я руками пошевелить не могу! – пожаловалась я. Дамьен расшнуровала мой серебристый корсет, распустила мне волосы, сняла ободок, украшенный жемчугом.
– Опасность миновала, – сообщила она. – Опекун с секретарем уедут на рассвете. Конюшие пока готовят лошадей. Говорят, он скоро уйдет в плавание. А значит, не разлучит нас.
– Да зачем ему нас разлучать? – спросила я.
– Таким властным людям, как он, не всегда нужен повод, – вздохнула Дамьен.
Она говорила с горечью, но я не приняла ее слова близко к сердцу. Я рассуждала так: раз замок и все, что в нем, в том числе и няня, принадлежат мне, разве сможет опекун мне перечить, пусть я еще и мала?
Я сердилась на него и была даже рада, что он уплывает, Дамьен же выдохнула с нескрываемым облегчением, словно нас миновала страшная кара.
– Слава Господу, мы останемся вместе.
– У тебя руки дрожали, – насмешливо напомнила я.
– Тсс.
– Ты испугалась!
Дамьен замолчала и поджала губы с обиженным видом, но мне было все равно. Я в одной льняной сорочке побежала к кровати и плюхнулась на нее лицом вниз.
– Да-да! Ужасно испугалась!
– Девчонок, которые шумят и прыгают, мы не потерпим! – с притворной строгостью отчитала меня Дамьен, а сама в это время с улыбкой перебирала золотые монеты. Мы разложили их на покрывале. Они нарядно сверкали – такие красивые, и на каждой выбит крест.
– Разве можно тратить такую красоту? – спросила я няню, и та ответила:
– Еще как можно!
Мы закажем новые перчатки и платья, пообещала Дамьен, а еще купим мне собственную птичку в клетке. Потом приобретем резной шкаф для моего приданого и верджинел 1, на котором я буду учиться играть. Мне наймут преподавателей музыки и чистописания. С ними‐то я быстро пойму, как жить достойно и правильно – и как читать незнакомые слова.
Глава 2
Прилежной ученицы из меня не вышло, как бы ни суетилась Дамьен и сколько бы ни качал головой мой учитель музыки. Даже верджинел – и тот, казалось, с укоризной поблескивал деревянным корпусом, на котором было написано: «MUSICA DULCE LABORUM LEVAMEN». Может, музыка и впрямь сладостная награда за труд, вот только заниматься мне совершенно не хотелось. Почерк по-прежнему был небрежным, стежки – кривыми. В двенадцать я наконец взялась за ум, но так и осталась посредственностью. Это я знала точно, а все потому, что к нам переехала одна девочка. Ее звали Клэр, и она отличалась чрезвычайным умом. Ее матушка учила нас обеих.
Клэр была на год старше меня, а потому и писала быстрее и красивее (хотя Дамьен уверяла, что дело в ее прилежании). Еще она была удивительно красива, а учитель по музыке часто ее хвалил (Дамьен тоже подмечала, что она и талантлива, и хороша собой). Окажись Клэр светлокожей блондинкой, я бы, наверное, ее возненавидела, но глаза и волосы у нее были темные, а щеки – румяные. У нее были ловкие, сильные, но совсем не изящные руки. Вид отличался здоровьем и свежестью, никакой тебе аристократической мертвенной бледности. Когда она только приехала, я обрадовалась: наконец‐то мне будет с кем поиграть! Вот только пышущая здоровьем и силой внешность Клэр оказалась обманчивой.
Я позвала ее на конюшню.
Новая подруга покачала головой.
Тогда я предложила взобраться на самый верх башни и поглядеть на поля, деревья и зеленую реку далеко внизу.
– Нет-нет, – благопристойно отказалась она таким тоном, точно я сказала что‐то ужасное.
А когда я сообщила ей, что нашла крысиный скелет, Клэр передернуло от ужаса. Она никогда не притрагивалась к животным, костям и чужой обнаженной коже. Мои забавы ее не интересовали – она предпочитала часами просиживать за инструментом или устраивалась на стуле у камина с шитьем. Пока она рукодельничала, я часто рассказывала ей истории о темницах и ржавых кандалах. Клэр выслушивала их со спокойствием.
Я восхищалась ее умением читать беззвучно. Завидовала проворству рук, любовалась ее кротостью. «Да ладно, пустяки», – говорила она, когда хвалили ее вышивку или игру на инструменте, а я восхищалась такой скромностью. Я завидовала ей во всем, но обиднее всего мне было оттого, что у меня нет такой славной мамы. Высокую и статную Жаклин Д’Артуа можно было принять за монахиню. Лицо у нее было вытянутое и печальное, но при этом едва заметно светилось, словно преображенное знаниями. Она знала латынь, испанский и итальянский, писала красиво и без ошибок, а когда читала вслух, завораживала слушателей певучим низким голосом.
Несмотря на всю свою образованность, моя учительница сумела избежать гордыни. Даже улыбалась она всегда сдержанно, и в эти мгновения ее длинный подбородок уменьшался на глазах. Опрятная и добрая, она учила нас с Клэр вместе, но никогда не ставила свою дочь мне в пример, хотя та справлялась с заданиями гораздо лучше меня. Таковы были представления мадам Д’Артуа о такте. Вот только я и сама видела, что Клэр набожнее, музыкальнее и образованнее меня, и понимала, что учительница просто не хочет меня расстраивать.
Как‐то раз я подошла к мадам Д’Артуа, пока Клэр играла этюды, и огласила и без того очевидный всем приговор:
– Я пустоголовая дурочка, а Клэр знает все на свете!
– Вам обеим еще учиться и учиться, – пожала плечами мадам Д’Артуа.
– Нет, – возразила я. – Я тупая как пробка. И не заслуживаю ваших уроков.
– Неправда, – не уступала учительница.
– Чистейшая правда! Вы ведь это тоже видите так же ясно, как я!
– Мы не вправе судить о таком.
– Зато я вправе!
Тут мать Клэр смиренно склонила голову: ей нечего было мне ответить. Переделать за меня вышивку или поправить ошибки в диктанте она могла, но признать мою глупость… нет, для нее это было недопустимо.
– Вы же знаете, что я права.
Мадам Д’Артуа ничего не ответила. Даже если я выходила из себя, она никогда со мной не спорила и не отпускала критических замечаний – просто не могла из-за моего знатного происхождения.
Меня бросило в жар. Клэр с мамой всё делали вместе: и спали, и ели, и читали, и обсуждали святых и древнюю историю. Этой неразлучной парочке никто больше не был нужен. Я же смотрела на них и чувствовала себя попрошайкой, которая клянчит милостыню у порога, хоть у меня имелись и шелковые платья, и дорогая обувь, и птичка, живущая в собственной позолоченной клетке, и столько земель, что взглядом не охватить.
В тот вечер, когда Дамьен меня причесывала, я опустила голову и заплакала.
– Что случилось? – всполошилась няня.
– Они всюду вместе, а у меня никого нет, – ответила я сквозь всхлипы.
– Я, конечно, не такая ученая, но не стоит меня со счетов списывать, – заметила Дамьен.
Мне стало еще грустнее от мысли, что я ее так обидела.
– Прости, – с чувством прошептала я.
– Почему ты завидуешь своей подружке? – спросила няня.
– Потому что Клэр знает куда больше, чем я!
– Ну так учись у нее, – предложила Дамьен.
– А еще она добрая, скромная и так здорово играет. И столько всего умеет.
– И тебе под силу такой стать.
– Это невозможно, – возразила я.
– Возможно, – упорствовала няня. – Главное – трудолюбие.
Она оказалась права. Я решила, что буду равняться на Клэр. Первое время нитки еще путались, но за несколько недель я научилась делать стежки поровнее. Я упорно перечитывала наш учебник, пока слова не начинали отзываться внутри: «Если хочешь прослыть мудрецом, поступай мудро и скромно. Не превозносись над другими. Не лги, будь учтив и дружелюбен…»
Однажды я решила вышить алый гранат. Корпела над каждым зернышком, над каждым узелочком, научилась класть стежки так, чтобы плод казался круглым и спелым, и, когда задумка удалась, небрежно отложила шитье, точно мои успехи ничего не значат. Со временем я начала писать красиво и аккуратно, так, чтобы легко можно было прочесть, но уверяла всех, что это пустяки и мне еще есть чему учиться. В совершенстве освоила музыкальный инструмент – но твердила, что можно играть и получше. И все это ради того, чтобы уподобиться Клэр и ее матушке. Я знала, какие добродетели они ценят превыше всего: терпение, совершенство, скромность.
Дни мои стали упорядоченными, размеренными. По утрам мы, преклонив колени, молились все вместе в часовне при замке. Потолок тут был высоченный, втрое выше, чем в обычной комнате, и сводчатые окна словно тянулись к небесам. А для личной молитвы мы уединялись каждая в своей спальне. В наших покоях имелся свой алтарь с образом Богоматери. Когда рассеянность отвлекала меня от молитвы, мой взгляд часто блуждал по ее святому лику. Не один утренний час был проведен мной у этого образа, потому что зеленые глаза и золотистые волосы Богоматери, запечатленные на нем, напоминали мне о матери, пускай я и понимала, что это вовсе не она. Но настоящих маминых портретов у меня все равно не было.
В прохладные дни мы вышивали шелковыми нитями листья, стебли и пышные цветы, а в погожие отправлялись гулять в наш ухоженный сад, обнесенный стеной. Мы расхаживали по дорожкам, усыпанным гравием, среди аккуратно подстриженных кустов и деревьев. Все тут было выверено до миллиметра, всюду разливались тишина и покой. Даже ветер не проникал за каменные стены и не досаждал белым розам. Они радовали нас всю пору цветения, а потом усыпа́ли тропинки нежными лепестками.
– Цветы преподают нам урок, – говорила мадам Д’Артуа, высоко ценившая жертвенность, тем паче что розы увядали так благородно. Ясными летними днями учительница рассказывала нам про христианских мучеников – тех, в чье тело пускали стрелы, кого забивали камнями до смерти и жгли на костре, а они все молились, молились до последнего вздоха. Ее взгляд был полон печали, и я тоже старательно изображала скорбь, как самая прилежная из учениц, хоть и не испытывала ее сама.
Мадам Д’Артуа разбирала с нами Писание, и я зазубривала слова молитв, не всегда понимая их смысл. Она горячо превозносила каждую добродетель, ну а мы с Клэр, пока нам читали про умеренность и терпение, иногда перешептывались. Когда я присмирела и взялась за учебу, подруга перестала меня дичиться.
После уроков я делилась с Клэр своими мыслями и вопросами, а она никогда не прерывала разговора.
Однажды днем, пока мы сидели за работой, я спросила:
– А какое твое самое раннее воспоминание?
Клэр задумчиво прикрыла глаза, и я невольно залюбовалась ее длинными ресницами.
Наконец она снова взглянула на меня.
– Смерть отца, – ответила она.
– А как он умер?
– В окружении свечей и с молитвой на устах, – понизив голос, поведала Клэр.
– А что он сказал напоследок?
– Просто выдохнул. И я увидела, как его душа отделилась от тела.
– Увидела? В самом деле?
– Да.
– Откуда ты знаешь, может, это была не душа, а дым от свечей!
– Дым серый, а душа была белая-белая.
– Повезло же тебе, – прошептала я.
Клэр потрясенно уставилась на меня:
– Смерть отца стала для нашей семьи огромным ударом.
– Прости, – смущенно извинилась я. – Я хотела сказать другое: чудесно, что ты его помнишь.
После похорон главы семьи Клэр с матерью покинули свой дом и стали работать в чужих. Какое‐то время мадам Д’Артуа прислуживала в Беарне сестре самого короля Маргарите. Там Клэр довелось увидеть золоченые торты и даже подержать книжку размером с ладонь. Эта самая Маргарита, королева Наваррская, подарила Клэр кольцо, на котором была выгравирована буква «М», ее инициал. Украшение было из чистого золота, и Клэр всегда носила его с собой – на удачу.
Наследства моей подруге не досталось, зато она повидала мир. Клэр бывала на пирах, наблюдала, как дамы играют в шахматы, слышала несравненно прекрасную музыку, гуляла по залам, в которых всю зиму топили камин, спала на простынях, пропитанных ароматом лаванды. Мы любили болтать об этом. Как‐то летом мы даже нарезали немного лаванды в саду, а потом выстелили свои кровати пахучими веточками, но за ночь стебли изломались и раскрошились под простынями, и в итоге мама Клэр попросила слуг вытрясти постели, а нам сказала так:
– Я не святая мученица, чтобы на соломе спать.
– Твоя матушка говорит, что вовсе не святая, но ведет себя именно так, – заметила я подруге во время очередной нашей прогулки в саду.
– В каком смысле?
– Она такая хорошая и спокойная.
– Дело не в святости, – возразила Клэр, – а в воспитании.
– Но при этом она грустная, – продолжала я.
– Возможно, – с ноткой тревоги в голосе согласилась моя подруга.
– Она скучает по двору и королеве?
– Не могу сказать, – нахмурилась Клэр.
– Не можешь или не хочешь?
Она промолчала.
– Назови самое страшное событие в своей жизни, – попросила я.
– Я же тебе уже про него рассказывала. Смерть моего отца.
– Нет, это был ответ на вопрос про самое раннее воспоминание.
– А что, разве нельзя дать один ответ на два разных вопроса?
– Можно, – признала я и остановилась на дорожке, усыпанной гравием. – А почему ты меня никогда ни о чем не спрашиваешь?
Клэр зарделась.
– Я ведь не в том положении, – робко сказала она.
– Очень даже в том, если мне этого хочется, – властно объявила я: в те годы меня еще не покинула дерзость. – Ты ведь должна меня слушаться, правильно?
Клэр замялась, а потом несмело возвратила мне мой же вопрос:
– А у тебя в жизни что было страшнее всего?
– Точно не смерть отца, – ответила я. – Да и матери.
– Почему?
– Я была слишком маленькая и ничего не понимала.
– Что же тогда тебя мучило больше всего?
Я остановилась посреди тропинки и долго молчала, погруженная в задумчивость. Приятно было наконец оказаться в роли того, кто отвечает.
– Что у меня нет сестер, – наконец ответила я.
– Это самое страшное?
Я кивнула.
Клэр молча протянула мне руку. Я сперва застыла, а потом соединила наши ладони.
С того дня мы стали разделять друг с другом всё: одежду, новости, мнения. Мы перешептывались, читали, шили, гуляли вместе – понемногу вычеркивая взрослых из нашей жизни. Теперь мы были неразлучны.
– Смотри-ка, научилась себя вести! – похвалила меня как‐то Дамьен, и в ее взгляде одновременно читались и радость, и гордость, и обида.
А мадам Д’Артуа только молча за нами наблюдала.
– Интересно, что она про нас думает, – сказала я Клэр, пока мы вместе читали учебник.
– Она думает не про нас, а про будущее, – поправила меня подруга. – Как и следует.
Мы не сводили глаз со страницы, а головы склонили так низко, что почти столкнулись лбами.
– И что говорит? – шепотом полюбопытствовала я.
– Пока ничего такого, – ответила Клэр, тоже шепотом.
– А повтори слово в слово!
– Повторила бы, не попроси она никому не рассказывать, – не уступила Клэр. Ее ответ был честным и правильным, но я ощутила укол разочарования.
Я по-прежнему горячо завидовала подруге, ведь у нее была мать. А вот мадам Д’Артуа, знавшую слишком много, я побаивалась. Но в один погожий летний день наша сдержанная учительница позволила Клэр намекнуть мне на то, о чем не могла говорить открыто. Это было своего рода предупреждение.
Случилось все так. Мы с Клэр отправились гулять в сад. Весело светило солнышко, вот только подруга была мрачнее тучи.
– Что такое? – спросила я.
– Не хочу рассказывать.
– Что‐то с матушкой? Она заболела?
– Нет, она здорова.
– А ты? – с тревогой уточнила я.
– Я буду по тебе скучать, – вдруг призналась Клэр.
Все мои страхи как рукой сняло: я решила, что разлуку с Клэр уж точно смогу предотвратить.
– Мы не расстанемся, – пообещала я. – Я никуда тебя не отпущу!
Она нервно вертела золотое кольцо на пальце.
– Так я и не уеду.
Я остановилась посреди тропинки. Она тоже. Тут до меня начал доходить смысл намека.
– Мне еще нет пятнадцати.
– Это неважно. – Клэр понизила голос: – Матушка знает кое-кого из Монпелье. Твоему жениху уже шестнадцать, и ростом он со взрослого мужчину. Его отец написал твоему опекуну – про приданое спрашивал.