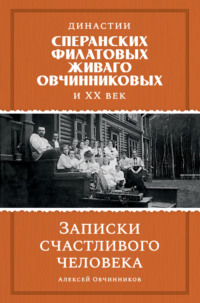Read the book: «Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека»
© Овчинников А.А., 2025
© ООО «Издательская группа Азбука-Аттикус», 2025
КоЛибри®
Предисловие
От редакции
Слово «династия» означает не только имена, которые становятся отчествами и передаются по наследству, не только общую фамилию, дома и столовое серебро, но в первую очередь – традицию, опыт, знания, семейную мифологию. Каждый последующий в ряду поколений подхватывает и умножает переданное ему. А теперь представьте себе, что в одном человеке сошлись четыре династии! Да какие!
Алексей Андрианович Овчинников – потомок четырех семей: Овчинниковы – ювелиры, Филатовы и Сперанские – врачи, Живаго – ученые и коммерсанты. А в кругу этих семейств и другие родственники – Петр Капица и Иван Сеченов; друзья и хорошие знакомые – доктор Николай Побединский, нейрохирург Александр Коновалов, пианист Святослав Рихтер, архитектор Юрий Шевердяев, музыканты Неугаузы, а также Маршак и Кукрыниксы, Ираклий Андроников. История прекрасных людей и перипетии судьбы автора книги на фоне интереснейшей жизни второй половины XX века, увлекательных путешествий, горных лыж, байдарок, автомобилей.
От автора
Иван Бунин считал дневники одним из самых интересных видов литературы. «Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие», – написал он в своем дневнике 23 февраля 1916 года. К сожалению, я дневников не вел. В юности не раз принимался писать, но больше чем на несколько дней терпения у меня не хватало, да и писать-то, по правде сказать, было не о чем: все, что происходило со мной, тогда казалось мне мелким и обыденным. В то же время как всякий человек, занимавшийся научными исследованиями и медицинской практикой, я исписал за свою жизнь тонны бумаги. Писал я легко, но эта писанина отнимала массу времени. Наконец, мне все так надоело, что я уже не мог без отвращения смотреть на пишущую машинку, а потом и компьютер.
Именно тогда я увлекся чтением мемуарной литературы. Читая дневники Ивана Бунина, Петра Краснова, Александра Солженицына и многих других, начинаешь понимать, как мало мы знали о трагических годах первой половины XX века. На этом драматическом фоне моя собственная жизнь представляется мне каким-то чудом. Мне повезло появиться на свет именно в то время, когда я родился, и не попасть ни на Гражданскую войну, как моему деду, ни на Отечественную, как отцу. Я считаю себя счастливым человеком. И об этом мне захотелось написать. А самое главное – воспоминания позволили мне ближе познакомиться с жизнью моих предков, которые были замечательными людьми. Вспоминая прошлое, я как бы снова переживал свое детство и юность, молодость и зрелость. Конечно, многое выпало из памяти, кое-какие эпизоды интимного характера я не рискнул описать, на что-то с высоты своего возраста я смотрю иначе, но я старался быть предельно честным перед самим собой и не приукрашивать те или иные жизненные ситуации. Во многом мне помогла вспомнить имена, даты и детали нашей совместной жизни моя жена Лариса. Ей я обязан и своим благополучием, и созданием этой книги.
Алексей Овчинников.
Часть первая
Мои предки
Глава 1
Овчинниковы
Мой отец происходил из семьи известных российских ювелиров – Овчинниковых. Мой прапрадед Павел Овчинников, основатель семейной ювелирной фирмы, родился в 1830 году в подмосковном имении князя Петра Михайловича Волконского, крепостными крестьянами которого были его предки. Еще мальчиком он обратил на себя внимание князя способностью к рисованию и был отправлен для обучения в Москву. Там Павел вместе со своим братом Алексеем поступил в мастерскую золотых и серебряных изделий и стал совершенствоваться по «серебряному и боголепному делу». В течение шести лет он проработал в мастерской в качестве подмастерья, а несколькими годами позже, в 1853 году, открыл собственную небольшую ювелирную фабрику-мастерскую в Яузской части Москвы и вскоре освободился от крепостной зависимости. Постепенно фабрика увеличивалась, и в 1853 году ее оборот достиг 250 тысяч рублей, что позволило Павлу Акимовичу стать купцом 3-й гильдии. К тому времени под его руководством работало уже около 175 мастеров-ювелиров и от 70 до 90 учеников. В 1865 году, по сведениям «Указателя Московской выставки мануфактурных произведений»1, оборот его фабрики доходил уже до 300 000 рублей.
Фирма Павла Овчинникова заняла в те годы ведущее место в России по производству серебряных и особенно покрытых эмалью изделий и получила широкую известность после промышленной выставки в Москве в 1865 году, где владелец фирмы был награжден золотой медалью и получил звание поставщика двора Наследника Цесаревича Александра Александровича. Кроме того, по настоянию «движимого благородным чувством признательности» хозяина фабрики медалями были награждены некоторые сотрудники фирмы, способствующие ее успеху. Этот поступок молодого хозяина фабрики принес ему дополнительную известность и уважение коллег. Даже спустя 31 год в «Указателе выставки в Нижнем Новгороде»2 1896 года был упомянут этот факт из биографии Павла Акимовича как о «не совсем обычном в классе наших фабрикантов». Столь же «необычными» оставались и взаимоотношения Павла Акимовича Овчинникова со своими рабочими и в последующие годы. Эти отношения он старался строить на взаимовыгодных условиях.
Из многочисленных хвалебных отзывов в газетах и из написанной самим Овчинниковым книги3 мы знакомимся со следующими правилами, установленными на его фабрике: мастер, проработавший «честно и непорочно» 10 лет, записывался на мраморную доску, открыто вывешенную на фабрике, после чего следовала прибавка к зарплате 10 % от оклада. Проработавший безупречно 15 лет, получал прибавку 15 %, а после 20 лет беспорочной работы оклад увеличивался на 20 %, и так далее. Это вознаграждение выдавалось пожизненно, даже если мастер увольнялся с фабрики, но при условии, что при этом он не переходил к другому хозяину. На своем предприятии Павел Акимович стремился создать максимально комфортные условия для их работы. Овчинников с гордостью отмечает в своей книге, что устройство фабричных помещений «вполне соответствует потребностям рабочих… чистотой, достаточностью количества света и воздуха, освежаемого постоянно посредством вентиляции». Подобные условия в золотосеребряной промышленности в XIX веке были исключением. Недаром одним из главных требований во время забастовок на ювелирных предприятиях в 1912 году было создание соответствующих условий труда, о чем Овчинников писал уже за 30 лет до этого.
Не менее важными, чем комфортные физические условия, были условия моральные, та поистине уникальная для своего времени атмосфера, которая царила на фабрике Овчинникова. М.О. Юдин, изучавший историю фирмы Овчинникова4, приводит эпизод, о котором вспомнил духовник Павла Акимовича, настоятель церкви Воскресения в Гончарах В.Т. Терновский: в годы Русско-турецкой войны, когда золотосеребряная промышленность России переживала трудные времена, на предприятиях «по недостатку дела» пошли массовые увольнения, при этом из мастеров, работавших с Овчинниковым, не пострадал никто. Собрав всех сотрудников фабрики, хозяин объявил: «Будьте спокойны, дети: с вами я наживал мое состояние, с вами же буду и проживать его». «Об этих словах, – подчеркивал священник, – никогда не забудут слышавшие их! Эти великодушные слова записаны на небесах и исходатайствуют почившему от Господа венец оправдания».
Но не только на небесах воздалось Павлу Акимовичу за его поступок. Это время, несмотря на неблагоприятные условия, стало периодом расцвета фирмы Павла Овчинникова. Его фабрика изготовляла разнообразные по технике и декору произведения – они отличались изысканной обработкой серебра, а также были декорированы разноцветными эмалями. Овчинников одним из первых начал выпускать изделия в подражание древнерусскому стилю, к которому во второй половине XIX века обращаются многие русские художники. Именно Павлу Акимовичу принадлежит заслуга возрождения в России так называемой оконной эмали, ставшей необычайно модной не только в высшем свете, но и среди зажиточных слоев населения. Награды за участие в российских и международных выставках, знаки внимания со стороны российской императорской фамилии и дворов европейских монархов сочетались с многотысячными заказами. Все это позволило фирме не только выжить в тяжелые военные годы, но и стать одним из самых коммерчески успешных предприятий в своей отрасли. Несмотря на более высокие, чем у конкурентов, цены, продукция Овчинникова пользовалась неизменным спросом.
Кроме роста производства, Павел Акимович уделял большое внимание высокому художественному уровню продукции. С этой целью он привлекал для изготовления моделей высокопрофессиональных художников5.
Пройдя тернистый путь от ученика и подмастерья до хозяина предприятия, Павел Акимович понимал, что для изготовления художественного изделия недостаточно только оригинального профессионально сделанного рисунка. Необходимо также умение мастера воплотить этот рисунок в материале. Поэтому особое внимание фабрикант уделял художественной подготовке и обучению своих мастеров и учеников, справедливо полагая, что именно это поставит его предприятие на прочную и хорошую основу. В связи с этим, стараясь сочетать пользу для своего дела с христианской благотворительностью, столь свойственной лучшим представителям русского купечества, в ноябре 1867 года в Набилковском доме призрения сирот, находившемся под покровительством Московского попечительного комитета Императорского Человеколюбивого общества, Овчинниковым были организованы «классы технического рисования, скульптуры и чеканного искусства в применении к металлическому делопроизводству». Важность этого события не только для фабриканта и Набилковского дома, но и для Москвы в целом наглядно демонстрирует состав приглашенных лиц. Газета «Московские ведомости»6 сообщает, что при открытии «Овчинниковских классов» присутствовали: московский генерал-губернатор князь В.А. Долгоруков, комендант П.П. Корнилов, городской голова А.А. Щербатов, обер-полицмейстер Н.У. Арапов, председатель Мануфактурного совета Ф.Ф. Рязанов, старшина купеческого сословия В.М. Бостанджогло и другие. За устройство этих классов Павел Акимович был награжден золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на ленте ордена Св. Владимира. При этом особо подчеркивалось, что фабрикант не только дал деньги на открытие учебного заведения и на его содержание, но также принимал непосредственное участие в его деятельности.
Несколькими годами позже Овчинников одним из первых среди владельцев фабрик золотых и серебряных изделий открыл при своей фабрике художественную школу, где способная молодежь обучалась рисованию, лепке, скульптуре и даже грамоте и счету. Столь крупной школой (130 учеников при 300 мастерах) не мог похвастаться ни один из конкурентов Павла Акимовича. В отличие от других подобных школ ему и здесь удалось создать уникальные для своего времени условия обучения. Для школы специально построили двухэтажное здание, на верхнем этаже которого была расположена спальня (ученики находились на полном пансионе), а на нижнем – кухня, столовая, скульптурная, классы, больница и комната для прислуги. Во время обучения ученики были освобождены от каких-либо «домашних работ», следя лишь за чистотой и опрятностью своей одежды. Не могли пользоваться их услугами и подмастерья. Все черные работы были поручены особым вольнонаемным рабочим. Это выгодно отличало заведение Овчинникова от ряда ему подобных… При этом он не забывал и о своей выгоде, заключающейся в том, что, как он пишет в своей книге, «ученик всегда может выработать больше той платы, которую бы получал чернорабочий, а поэтому оказывается, что ученик, не исполняя домашней работы и работая по ремеслу, принесет больше пользы хозяину». Вместе с тем «человеческое отношение к ученику», по мнению Овчинникова, «должно было привести мальчика к сознанию, что на него смотрят не как на ломовую силу и что хозяин обставляет его всеми возможными заботами, которые так или иначе послужат ему краеугольным камнем на жизненном поприще». Вполне понятно, что подобные меры не могли не найти отклика со стороны мастеров, работавших на его предприятии.
Добросовестное отношение к труду, сказавшееся на качестве изделий фирмы, практически полное отсутствие забастовок даже в самые тяжелые времена наглядно свидетельствуют о том уважении, которым пользовался фабрикант среди своих рабочих.
В 1865 году после выставки ювелирных изделий в Петербурге, в залах общества поощрения художеств, газета «Голос»7 отмечала: «Такого вкуса и такой тонкости, такой тщательной отделки нам не удавалось видеть ни на одном из русских произведений из серебра; да они сделают честь и любой иностранной фирме».
Авторитет фирмы уверенно рос. В 1868 году на Кузнецком мосту в Москве, по соседству с магазином Фаберже, был открыт первый магазин, в котором любой желающий мог купить изделие фирмы Овчинникова – от дорогих серебряных и эмалевых столовых наборов и украшений до сравнительно дешевых солонок или чайных ложечек. В 1874 году в газете «Голос»8 была помещена статья о выставке произведений Овчинникова в залах Академии художеств. В статье отмечались самобытность и своеобразие его искусства, а также говорилось о его успехах на отечественных и зарубежных выставках – например, на Венской всемирной изделия фирмы стали предметом всеобщего внимания и Овчинников приобрел европейскую известность. В 1876 году газета «Новое время»9 в связи с выставкой произведений фабрики, отправленных на Филадельфийскую выставку, вновь напечатала восторженные отзывы о работах: «После московских Сазикова, Рубкина и Орлова, зарекомендовавших Москву своими серебряными изделиями, г. Овчинников явился впервые, как заметный производитель, опередивший давно уже своих предшественников… имя его стало известным…(в 1865 году)… и с тех пор он чаще и чаще встречается в печати. На Парижской всемирной выставке (1867) первенство среди русских мастеров осталось за Овчинниковым, на Петербургской мануфактурной выставке (1870) тоже, также на Московской политехнической (1872), а также на Венской всемирной (1873) и таким путем уже 9 лет нет равных Овчинникову».
В 1873 году было открыто отделение фабрики в Петербурге, а спустя год на Большой Морской улице (ныне ул. Герцена) в доме № 35 Овчинниковым был открыт второй магазин… «Любопытно отметить, – пишет одна из исследователей деятельности фирмы П.А. Овчинникова К.А. Орлова10, – что в Петербурге магазины по продаже серебряных изделий находились очень близко друг от друга, что усиливало конкуренцию и заставляло владельцев все время создавать новые формы и оригинальный декор. Так, на Большой Морской, как свидетельствует памятная книжка Петербурга 1880 года, кроме магазина П.А. Овчинникова, в доме 29 находился магазин Сазикова, а недалеко от них на Невском проспекте, около Казанского собора, находились магазины Хлебникова и Грачевых».
Изделия фабрики Овчинникова пользовались постоянным спросом в России. Путешественники, посещая Петербург и Москву, считали своим долгом приобрести какое-либо изделие фирмы; экспонаты, представленные на зарубежных выставках, также обычно раскупались после закрытия выставки. Магазины Овчинникова в Москве и в Петербурге стали местом едва ли не обязательного посещения большинства официальных делегаций, прибывающих в столицы. Связано это было не только с известностью фабриканта в зарубежных странах, но и с ассортиментом его изделий». Именно фирма Павла Овчинникова наиболее полно и последовательно разрабатывала свои произведения в традиционном русском стиле. О международной известности Павла Акимовича свидетельствуют его зарубежные награды. В 1873 году он был награжден австрийским орденом Железной короны, в 1878 году – французским орденом Почетного легиона, в 1881 году – черногорским крестом Св. Даниила, в 1883 году – бельгийским серебряным крестом, в 1872 году он заслужил звание поставщика двора Его императорского Величества, тоже в 1873-м – короля Италии, а в 1888 году – Датского королевского двора.
Овчинников стремился активно участвовать в общественной жизни и в городском самоуправлении. Свою деятельность в этом он начал с должности городового ценовщика в управе Благочиния, которую занимал в течение двух лет. Состоял он также агентом 2-го Сущевского отделения попечительства о бедных в Москве, членом-благотворителем Московского попечительного о бедных комитета, выборным Московской купеческой управы. На протяжении двенадцати лет, с 1877-го до конца своей жизни, он избирался гласным Московской городской думы, активно работая в разных ее комиссиях. Овчинников был действительным и «весьма полезным» членом Общества поощрения художеств. Принимал он живое участие и в деятельности «Комиссии народных чтений», пожертвовав в 1874 году вещи на сумму около шести тысяч рублей для украшения новой народной аудитории и внося ежегодно по 300 рублей для премии за лучшее народное чтение. Только в 1868 году им было предоставлено 136 предметов-призов лотереи Общества для поощрения трудолюбия и 280 вещей для лотереи Никольской общины сестер милосердия. За свою деятельность Павел Акимович был награжден пятью российскими орденами, включая орден Св. Владимира 3-й степени, удостоен звания мануфактур-советника и потомственного почетного гражданина города Москвы, которое передается его потомкам по мужской линии.
Павел Акимович Овчинников скончался 7 апреля 1888 года. Похоронили его на Калитниковском кладбище Москвы. Благодарные ему рабочие возложили на могилу фабриканта серебряный венок с надписью: «Беспримерному хозяину от мастеров его фабрики». К сожалению, этот венок исчез в первые же дни советской власти и при реставрации в 2010 году был заменен простым металлическим11.
После смерти Павла Акимовича в 1888 году его дело продолжили его сыновья, и в первую очередь Михаил Павлович, мой прадед. Он руководил фабрикой на протяжении двадцати пяти лет, и при нем фирма продолжала процветать. В начале 1913 года к празднованию трехсотлетия дома Романовых Михаил Павлович Овчинников получил почетное задание на изготовление из серебра и драгоценных камней шапки Мономаха, с серебряной опушкой под соболя. И он с честью справился с этой трудной работой, получив в благодарность от императора Николая II именные золотые часы.
В начале XX века Михаил Павлович и его супруга Вера Александровна с сыновьями – старшим Алешей (моим дедом) и младшим Мишей, и дочерьми Марией, Верой и маленькой Таней проживали в собственном доме в районе Таганки на Гончарной улице, называвшейся в советские времена Нижней Радищевской. Сохранилось описание этого дома и его комнат, сделанное воспитателем Алеши – Владимиром Александровичем Поповым в 1903 году12.
«Двухэтажный дом с большими окнами верхнего этажа, в которые глядели лапчатые листья пальм, стоял за чугунной узорчатой решеткой с такими же воротами, от которых шла по песчаному двору асфальтовая дорожка к ступенькам высокого крыльца с зеркальными дверями, закрывающимися на ночь деревянными, на день широко распахнутыми по обеим сторонам крыльца. Перед домом, по улице, был палисадник с крупной сиренью… Мы позвонили. Дверь нам открыл солидный, еще молодой, слуга в белых перчатках – Осип Алексеевич. Вошли, и сразу охватил меня покой и старинный уют дома. Сняли верхнее платье в маленькой передней с большим зеркалом и поднялись по чугунной, широкой, но крутой лестнице во второй этаж. Нас провели в белый квадратный зал, где единственным темным пятном был большой бехштейновский рояль, да скромно притаилась в углу орехового дерева, лакированная фисгармония. Хороши были старинные, ореховые двери прекрасной столярной работы с бронзовыми ручками в форме груш с листьями. Все остальное в комнате было цвета „крэм“ (здесь и далее орфография сохранена, как в оригинале. –А.О.). Прямые шелковые задергивающиеся – занавесы такого же цвета висели на больших зеркальных окнах. В углу стояла развесистая пальма – кэнтия. Никогда раньше я не видел и никогда, наверное, не увижу такого холеного тропического растения в комнате… Нас пригласили перейти в кабинет Михаила Павловича – в просторную, но меньшую, чем зал, комнату с двумя большими окнами, выходившими во двор. Дом стоял на горе, и из окон был чудный вид на Замоскворечье: широкий, широкий горизонт. Вдали, далеко за городом, синели дали…»
В середине пятидесятых годов, спустя полвека, мой отец решил показать мне этот дом. Он был еще цел и одиноко стоял среди пустого двора, полностью лишенного какой бы то ни было растительности. Судя по многочисленным звонкам у входной двери, в доме жило много разных семей. Зеркальные окна второго этажа были заменены мелкими окнами с частыми переплетами. Крыльцо и наружная дверь не имели ничего общего с описанием Попова. Дом показался мне очень старым и маленьким, возможно потому, что примыкавший к нему ранее жилой флигель, в котором были комнаты Алеши и Миши, был уничтожен. Мы не стали заходить внутрь дома, так как объяснить жильцам наш интерес к нему мы вряд ли бы смогли. Еще через пятьдесят лет я уже не смог узнать этот дом среди реставрированных и значительно переделанных зданий на Гончарной улице, в которых разместились современные банки и офисы отечественных и зарубежных фирм.
Теперь приведу описание хозяев дома, какими их увидел Попов: «Вера Александровна тогда была еще молодой женщиной, но с большой, однако, проседью в волосах. Поражала седина и на голове Михаила Павловича, лицо которого без бороды с небольшими усами невольно останавливало на себе внимание тонкими красивыми чертами; у него был характерный небольшой, острый нос. Голова была сравнительно небольшой и казалась еще меньше от широких плеч и высокой груди. В молодости он был очень интересен, особенно в военной форме…»
The free sample has ended.