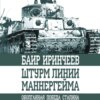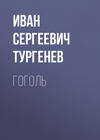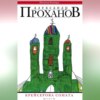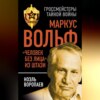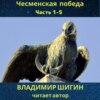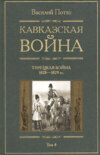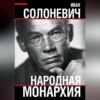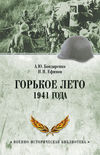Read the book: «Арнольд Дейч. Вербовщик Божьей милостью»
© Бондаренко А.Ю., 2024
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2024
Предисловие
В советском паспорте, выданном ему 21 сентября 1939 года, он был записан как Стефан Генрихович Ланг.
Ранее, в «виде на жительство иностранца», оформленном ему же 27 декабря 1937 года, он был назван австрийским гражданином Виктором Гюртлером, инженером; в другом «виде на жительство», датированном 8 сентября 1941 года, он же обозначен как эквадорский гражданин Максимилиан Вассерман. В «свидетельстве на возвращение в Советский Союз», выданном советским консульством в Тегеране 6 июля 1942 года, он назван Исааком Самойловичем Зускиндом, врачом. И всё это, заметим, – официально выданные советские документы.
Однако ещё в 1929 году ему, как Рихарду Хагеру, был выдан германский паспорт (впрочем, это произошло «в другой», более ранней жизни, хотя пригодилось и в «новой» – о чём идёт речь, читатель поймёт несколько позже), в 1931 году – австрийский паспорт на имя Эмиля Хохенберга, а в 1932-м – также австрийские паспорта, только на имя Йозефа Крафта и уже известного нам Виктора Гюртлера. (Стоит заметить, что в удостоверениях личности Крафта и Гюртлера помещена одна и та же фотография.) 21 сентября 1938 года он, под именем Герберта Небензала, получил испанский паспорт; 3 июня 1941 года ему был оформлен эквадорский паспорт, причём не только на имя самого Максимилиана Вассермана, но и его супруги Голды – на фотографии в этом удостоверении личности они запечатлены вдвоём, голова к голове, этакое милое традиционное семейное фото 1930-х годов. Хотя, по правде, супруга эта была не его…
Вполне возможно, что были и другие имена, подтверждённые другими документами, однако в Историю, да и в бессмертие, он вошёл как Арнольд Дейч – сотрудник советской внешней разведки, в которой он проработал всего-то пять лет. В официальной (рассекреченной) справке о его работе указано: «С 1932 по 1937 г. всё время находился на нелегальной работе за кордоном в качестве помощника резидента и зам. резидента».
При этом результаты проделанной им за такой в общем-то недолгий период работы просто поражают – воистину, можно утверждать, что он был вербовщик Божьей милостью.
Сошлёмся на мнение такого профессионала-разведчика, как генерал-лейтенант Виталий Павлов1, который, как мы понимаем, был знаком с Арнольдом Генриховичем, – в книге приводятся фрагменты из весьма интересного документа, подписанного Виталием Григорьевичем в 1940 году, как заместителем начальника 10-го отделения 5-го отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) Наркомата внутренних дел (НКВД) СССР в звании младшего лейтенанта госбезопасности:
«В материале об этом необыкновенном разведчике в документальных “Очерках истории российской внешней разведки” автор отмечал его поразительную способность разбираться в людях, подбирать нужных кандидатов, привлекать их к сотрудничеству и т. д., но умалчивал о том, скольким же агентам, завербованным А.Г. Дейчем, помимо “Кембриджской пятёрки”, он дал путёвку для работы на внешнюю разведку СССР. Правда, упоминается, что, выезжая в Англию, он взял с собой трёх агентов из Австрии, с которыми “работал” там и, надо понимать, из завербованных им самим. Но то, что за почти шесть лет разведывательной работы в Англии А.Г. Дейч завербовал, помимо “пятёрки”, ещё целую “Оксфордскую группу” источников и общее число завербованных там агентов перевалило за полтора десятка, пока почему-то не афишируется.
То, что оксфордцы не упоминаются конкретно, понятно, поскольку их агентурная деятельность не была раскрыта английскими спецслужбами. Пусть эта тайна остаётся в архиве внешней разведки…»2
Авторы более позднего времени – Владимир Карпов и Владимир Антонов, также, кстати, не только писатели, но и профессиональные разведчики, – соглашаясь с Павловым в общем плане, приводят уже несколько бóльшие цифры: «Работая в Лондоне, “Стефан” приобрёл для советской разведки более 20 источников информации, которые долгие годы работали на нашу страну. Все известные сейчас воспитанники “Стефана” – выпускники Кембриджского университета. Однако среди завербованных им агентов были и студенты Оксфордского университета, не менее талантливые и преданные советской разведке, чем кембриджские. Никто из них, в отличие от “Кембриджской пятёрки”, так никогда и не был разоблачён»3.
Впрочем, очевидно, всего вернее будет оценка из справки, датированной 29 января 1939 года и подписанной начальником 7-го отделения 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР старшим лейтенантом госбезопасности Виктором Федюшиным4: «За время работы за кордоном “Стефан” завербовал около 20 агентов, часть которых продолжает работать с нами».
Но если взять справку под грифом «Совершенно секретно», датированную «…» декабря 1941 г., подписанную старшим оперуполномоченным 2-го отделения 3-го отдела 1-го управления НКВД СССР лейтенантом госбезопасности Потёмкиным, там вообще можно найти такую информацию: «По нашей работе проявил себя как хороший вербовщик. В Англии им было завербовано 40 человек».
Реально – впечатляет любая из предложенных цифр, хотя хотелось бы знать точно. Ну что ж, попробуем, что называется, пойти от обратного. В одной из книг, к которой мы ещё не раз обратимся по ходу нашего повествования, сказано так: «За чуть более чем три года работы в Лондоне Дейч лично приложил руку к отбору и вербовке не менее 17 британских агентов. Если покопаться в архивах, собранных за 75 лет истории советской разведки, можно увидеть, что немногие другие офицеры приблизились к поразительным результатам Дейча»5.
Пожалуй, такое утверждение более убеждает, нежели цифры, которые ещё следует осмыслить, – много это или мало? А так, насколько известно, всё познаётся в сравнении.
Самое интересное, что даже поимённое перечисление самим Дейчем шестнадцати завербованных им агентов в «Докладной записке», адресованной руководству разведки (мы ещё не раз будем обращаться к этому документу), доверия не вызывает: в других документах им же называются ещё и иные, дополнительные фамилии (точнее – оперативные псевдонимы) людей, привлечённых им к сотрудничеству. В общем, всяко понять нелегко…
Зато тут можно сделать совершенно неожиданное для читателя открытие. В списке, скажем так, добровольных помощников «Стефана» числятся не только студенты или выпускники Кембриджа и Оксфорда, о которых всеми и всё время говорится, но и люди, с совсем другим общественным положением, никак и ничем не связанные с этими престижнейшими учебными заведениями, – в частности, инженеры, работавшие на различных оборонных предприятиях… Но об этой его агентуре у нас в популярной литературе пишется и говорится очень мало – всё внимание сосредотачивается на представителях британской аристократии, с которыми удалось установить контакты Дейчу, а прочие пребывают как бы в их тени.
Казалось бы, однако, что сегодня, по прошествии немалого времени, уже можно открыть все тайны, но тут возникает непредвиденная трудность, о которой рассказал разведчик и писатель (опять-таки!) Юрий Иванович Модин6: «В наши дни журналисты и историки энергично изучают так называемые архивы КГБ, но, кроме малозначащих резюме и пометок, они не найдут ничего представляющего существенный интерес в работе советской разведки. И самое главное – оригиналов давно уже не существует. Бóльшая часть дел по кембриджскому звену была уничтожена в 1953 году»7.
Про Арнольда Дейча написано немало – точнее сказать, имя его постоянно упоминается в книгах и публикациях о «Кембриджской пятёрке», о Киме Филби, ну и, соответственно, говорится о том, что именно он начал вербовать перспективную агентуру – так сказать, «на вырост». Этим в общем-то и исчерпывается вся имеющаяся о нём информация. А так как количество источников весьма ограниченно, то авторы в разного рода общедоступных изданиях, как правило, пересказывают один и тот же материал более-менее различными словами – притом в ряде работ даже можно увидеть одни и те же фразы и даже абзацы, «перенесённые» откуда-то без всяких ссылок и кавычек. Не желая идти по этому проторённому пути, мы (применительно к себе будем использовать эту «академическую» формулировку, множественное число; замечено, что многих читателей раздражает постоянное «якание» авторов: «я знаю», «мне доверяют» и т. д.) честно и откровенно используем цитаты – из документов, из работ специалистов, уважаемых людей, из мемуарных источников. Фрагменты из книг сопровождаются соответствующими сносками, выдержки из документов – просто закавычиваются. Причём мы не всегда можем указать официальное название документов за их неимением, также порой отсутствует и архивная регистрация этих недавно рассекреченных материалов. Пусть читатель не посетует на обилие цитат, но именно таким путём легче прийти к истине, создать более яркую и объёмную картину и убеждать читающего в своей правоте, ссылаясь на известные авторитеты.
Приводя фрагменты из документов, мы стараемся держаться как можно ближе к оригиналу, однако позволяем себе исправлять некоторые ошибки и опечатки, оказавшиеся в документах почти вековой давности, а также прояснять сокращения, что, разумеется, облегчает чтение и понимание текстов. С той же целью мы унифицируем написание оперативных псевдонимов – все они берутся нами в кавычки, которые далеко не всегда присутствуют в документах, причём даже в одном конкретном тексте псевдонимы могут писаться то в кавычках, то без таковых. Также мы прибегаем к официальному современному написанию названий английских учреждений на русском языке – к примеру, Форин-офис (Foreign Office – Внешнеполитическое ведомство Великобритании, по аналогии с нашими реалиями – Министерство иностранных дел), тогда как в имеющихся у нас документах написание может быть совершенно различным. В документах также часто встречается слово «дом» в значении «Центр», и в некоторых случаях не совсем понятно, что имеется в виду. Чтобы облегчить читателю понимание, мы будем писать это слово с прописной буквы.
Практически всё то, что широко известно об Арнольде Дейче, укладывается в четыре года его работы на Британских островах и, плюс к этому, некоторые подробности его героической гибели в Норвежском море. Поэтому до сих пор этому великому нелегалу – он принадлежал именно к той самой официально признанной когорте нелегальных разведчиков предвоенного времени – не посвящено ни одной книги. Так что эта, которую вы сейчас держите в руках, – первая. Сделать её удалось потому, что, по счастью, нам недавно передали из Архива Службы внешней разведки все сохранившиеся материалы по Арнольду Дейчу, которые возможно было рассекретить. В числе полученных нами документов не только разнообразные анкеты и автобиографии Дейча, но и его личные письма, и отчёты, и, что самое главное, – планы и перспективы работы, а также перечень и характеристики людей, с которыми разведчику приходилось входить в контакт по тому или иному поводу. Хотя большинство из этих персон проходят только под оперативными псевдонимами, зато несложно понять их социальный статус, общественное положение – и это, как полагаем, для думающего читателя гораздо важнее, нежели знать, что какого-то человека звали, допустим, Вильям Джексон или Джек Вильямсон.
Особый интерес представляют события, происходившие в то самое время в нашей стране, в недрах ОГПУ8 – НКВД СССР (Дейчу пришлось работать при трёх наркомах – Ягоде, Ежове и Берии9), а также то, что делалось во внешней разведке, которой «во времена Дейча» поочерёдно руководили Артузов, Слуцкий, Шпигельглас, Пассов, Деканозов и, в конце концов, Фитин10. В книгу нашу включён ряд документов, не только имеющих непосредственное отношение к Арнольду Дейчу, но и характеризующих те самые весьма непростые времена, позволяя взглянуть на некоторые общеизвестные события с несколько иного ракурса, глубже понять происходившее в нашей стране в 1930-х годах. Ряд этих – так же как и других – документов, переданных из Архива СВР, публикуются впервые.
Впрочем, не будем пересказывать книгу, в которой, насколько нам это удалось, не только нарисован портрет великого нелегала-вербовщика, но и некоторым образом приоткрыты ранее неизвестные страницы как его биографии, так и истории Службы внешней разведки нашего государства.
Глава 1
Сердце Вены – Рингштрассе
Париж и Вена перестраивались одновременно.
В 1853 году новоявленный император французов Наполеон III, а по его поручению и префект департамента Сены барон Жорж-Эжен Осман начали воистину титанические работы для того, чтобы, как сказал племянник того самого Бонапарта, «украсить этот великий город». Тем временем к власти в Австрийской империи пришло либеральное правительство – и тоже занялось реконструкцией столичного города, стремясь придать ему новый облик. «В отличие от Берлина и промышленных центров севера, растущая Вена в основном сохранила пристрастие к открытому пространству, свойственное эпохе барокко. Однако к паркам в XIX веке и здесь относились уже не только с точки зрения геометрического совершенства, но и с точки зрения физиологии, язык которой был столь любим той эпохой: “Парки, – говорил бургомистр Вены барон Каетан фон Фельдер, – это лёгкие большого города”. Венские либералы установили заслуживающий уважения рекорд в создании парковых зон, городских служб и коммуникаций… Либеральные правители попытались при помощи городской реконструкции, затмившей Париж Наполеона III, отметить своё вхождение в историю…»11
Затмить-то затмили, однако, как представляется, Вена, которую хотя и именуют порой «культурной столицей Европы», всё же уступает по популярности «столице мира» (пусть теперь и бывшей) – Парижу. Причина в общем-то проста: как иногда прекрасное художественное полотно может испортить аляповатая рамка, так и – придумаем этот термин – «государственное обрамление» явно снижает уровень Вены. Некогда, с XV по XIX столетие, город этот являлся центром Священной Римской империи германской нации, потому как здесь постоянно пребывал император, только короновавшийся в «вечном городе» Риме. Империя, изначально занимавшая примерно треть континента, была в своё время крупнейшей надгосударственной структурой Европы, в состав её входили несколько сотен территориально-государственных образований. Но постепенно – не будем вдаваться в подробности – центральная власть ослабевала, Священная Римская империя уменьшалась в своих размерах, а в 1806 году, после разгромов «цесарской армии» при Ульме и Аустерлице, вообще прекратила своё существование, превратившись в гораздо менее претенциозную Австрийскую империю. Но всего лишь шестьдесят лет спустя, в 1867 году, на руинах этой империи возникла двуединая Австро-Венгрия, государственный строй которой определялся как «конституционная дуалистическая монархия». Понятно, что в подобных условиях играть в Европе ту же роль, что в тот период играла Франция, Австрия не могла при всём желании, а потому Вена и оказалась «в тени» Парижа, постепенно отступая на задворки Европы… Так что стоит понимать и учитывать, что самолюбие австрийских граждан было серьёзно уязвлено всеми этими ранее произошедшими событиями, а историческая память об утраченном величии империи больно жалила многие сердца. Между тем, снежный ком развала всё ещё катился с Альпийских гор на австрийские равнины – но об этом мы расскажем в своё время, а пока непосредственно обратимся к герою нашей книги.
Арнольд Генрихович Дейч – назовём его так на русский манер – родился в Вене 21 мая 1904 года. Это собственноручно написано им в рассекреченной «Анкете специального назначения работника НКВД». В графе, озаглавленной «Ваша национальность», указано: «Австриец, еврей». На всякий случай уточним, что в таких документах, без крайней необходимости (а у «нашего человека», говорим известным термином, характеризующим честного, законопослушного советского гражданина, такой необходимости быть просто не могло), писалась правда, только правда и ничего кроме правды. Хотя бы по той причине, что при тогдашней компетентности «компетентных органов» неправда могла вскрыться очень и очень быстро, что привело бы, мягко говоря, к весьма серьёзным последствиям.
К чему всё это? Да к тому, что если взять книгу таких уважаемых и компетентных авторов, какими были наш полковник разведки Олег Царёв и британский историк Джон Костелло12, «Роковые иллюзии», то там сказано несколько по-иному: «Сам Дейч был не австрийцем, а чехом по рождению, родители которого переехали в Вену в 1908 году, когда ему было четыре года…»13 Откуда взялась такая информация – совершенно неясно, но так как в «Роковых иллюзиях» имя Арнольда Дейча встречается порядка полусотни раз и мы не единожды вынуждены будем к этой книге обращаться, то лучше сразу исправить ошибку, нежели потом в неточностях будут обвинять нас. Всё-таки наша биография делается на основе официальных документов, не столь давно ставших достоянием гласности. Ну а в разведке, по строго установленному правилу, каждый знает ровно столько, сколько ему следует знать в интересах дела. Многие знания (излишние, разумеется) порождают не только многие печали, но и служебные расследования.
Кстати, даже легендарный Ким Филби, с которым мы не раз ещё встретимся по ходу нашего повествования, вряд ли знал про Арнольда Дейча что-то личное (точнее – лишнее). Недаром, описывая в своих мемуарах первую встречу со «Стефаном» (оперативный псевдоним Дейча), он писал: «Мы беседовали на немецком, которым он владел в совершенстве. Поскольку у него был южно-немецкий акцент, я сперва принял его за австрийца, но затем по каким-то признакам, настолько незначительным, что сейчас и не припомню, я понял, что он чех»14. Заметьте, не решил или подумал, но понял, а значит, так и оставался пребывать в этом заблуждении.
Зато у нас сейчас есть возможность рассеять все недоумения. Берём рассекреченную «Докладную записку», написанную на имя начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР, и читаем… Впрочем, чтобы сразу не оставалось лишних вопросов, тут имеет смысл объяснить значение и этой нумерации, и всех вышеприведённых сокращений. 5-м отделом внешняя разведка именовалась с июня 1938 года по начало февраля 1941-го – вот только до 29 сентября 1938 года это был 5-й отдел 1-го управления НКВД СССР, а затем, когда все оперативные управления этого ведомства вновь были выделены в ГУГБ НКВД СССР15, разведка вошла в его состав в качестве того же 5-го отдела. Затем, с февраля 1941-го, это было 1-е управление сначала Наркомата государственной безопасности (НКГБ) СССР, а с июля – НКВД. Последующие преобразования нас, к сожалению, уже не интересуют, потому как нашего героя никак не касаются. Начальником же 5-го отдела с декабря 1938 года по май 1939-го был Владимир Деканозов.
Так вот, в «Докладной» – «от сотрудника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР “Стефана”» (никаких фамилий, только оперативный псевдоним!) – указывается: «Я родился в г. Вене (Австрия) в 1904 году. Отец и мать евреи, происхождением из Словакии. Отец был там сельским учителем. После того, как они поехали в Вену, до 1916 года он работал служащим у одного торговца. В 1916 году он был призван рядовым в австрийскую армию, в которой прослужил до 1919 года. В 1919—20 гг. отец был старьёвщиком, а потом торговал готовым платьем и бельём в рассрочку с рук, т. к. магазина никакого не имел. С 1927 года он нанимал бухгалтера…» Вопрос с наймом бухгалтера по тем временам совсем не такой простой, как может показаться: хотя отец его и не был капиталистом, но наёмный труд всё-таки использовал. Получается, что ближайший родственник оказывался как бы чуждым элементом – вне зависимости от количества у него наёмных работников. Вроде бы мелочь, да и кто мог бы в Москве о том узнать, но Арнольд Дейч писал всё по-честному.
В вышеуказанной анкете обозначен и адрес проживания родителей: 2-й район Вены, Schiffamtsgasse (Шиффамтсгассе), 20/11 – то есть дом № 20 и 11-я квартира. Название это в переводе с немецкого означает «переулок Корабельного управления». Дом № 20 сохраняется и поныне, и даже на стене у его входа висит белая мраморная доска, посвящённая Арнольду Дейчу, но не как легендарному советскому разведчику, а… Впрочем, об этом мы расскажем в своё время, а пока лишь уточним, что у каждого государства – собственная история, в которую каждый человек входит по-своему.
Второй район Вены, именуемый Леопольдштадт, расположенный на огромном острове между Дунаем и Дунайским каналом, сегодня динамично развивается и пользуется большой популярностью в качестве места жительства горожан. Некогда же, в начале XVII века, именно здесь возникло «еврейское гетто», от первозданного вида которого ныне не осталось и следа. Зато «еврейский квартал», находившийся по другую сторону Дунайского канала, в 1-м районе Вены, именуемом Внутренним городом (Innere Stadt), фактически существует до сих пор. Найти его на плане австрийской столицы совсем несложно – по названиям улицы Юденгассе и площади Юденплатц, по Еврейскому музею и Мемориалу памяти жертв Холокоста в Австрии – таковых, к слову, было порядка 65 тысяч человек…
Но обратимся к событиям гораздо более давним, к истокам. Как известно, история Вены в качестве населённого пункта начинается где-то в середине I века нашей эры, и уже в XII столетии здесь поселились представители богоизбранного и вечно гонимого народа. На той самой площади, которую впоследствии нарекут Judenplatz – Еврейской, была построена первая в городе синагога – в 1930-х годах синагог и молитвенных домов в австрийской столице будет порядка 130, тогда как евреи составляли порядка 10 процентов от всего населения города.
Не нужно, впрочем, думать, что жизнь еврейского народа в столице Священной Римской и Австрийской империй, Австро-Венгрии и Австрии (то есть всё в той же Вене) была безбедной, спокойной, безмятежной или хотя бы просто стабильной. Еврейские погромы, причём довольно серьёзные, вошли здесь в традицию, но порой случалось и ещё хуже. Так, в 1421 году иудеям была предложена альтернатива: перейти в католичество или убираться из города. Тех же, кто рискнул избрать третий вариант – ни то ни другое, – просто-напросто сожгли на кострах, и таковых «диссидентов» оказалось не столь уж и мало – 92 мужчины и 120 женщин… Но время шло, раны, в том числе и душевные, затягивались, и через сто лет упорные и деловитые представители еврейского народа потихоньку начали возвращаться на обжитые их предками места. Впрочем, это были не только потомки венских евреев – сюда понаехали и единоверцы-беглецы с Украины, которым очень уж тяжко приходилось там при гетмане Богдане Хмельницком (в подробности вдаваться не будем, почитайте «Тараса Бульбу», там всё сказано). Так и возникло гетто в Леопольдштадте – около пятисот семей поселились здесь в 136 домах. Была там построена и синагога… Но, опять-таки, очередное пребывание евреев в Вене не было не только комфортным, но и продолжительным: уже в 1669 году их из столицы Священной Римской империи «попросили», причём с уверенностью, что это делается окончательно и бесповоротно, а потому даже Леопольдштадтскую синагогу «перекрестили» в католический храм.
Вот только дух наживы, который чаще всего вменяют в вину богоизбранному народу, оказался, очевидно, заразным. Так как австрийскому государству приходилось то воевать с турками, то подавлять всяческие мятежи и смуты в Европе, то это, разумеется, требовало денег. Ничтоже сумняшеся и поступившись принципами, деньги решили брать с евреев, которым для этого вновь разрешили поселяться в Вене, обложив их очень высокими налогами… Всё как бы стало налаживаться, но затем на австрийский престол пришла Мария Терезия16, которая по неизвестным нам причинам евреев ненавидела люто и называла их самой страшной напастью… Всё же около полутысячи представителей вечно гонимого народа, обложенные со всех сторон налогами и ограничениями, и тогда продолжали проживать в Вене… Но близок, близок был «просвещённый» XIX век, так что уже в конце «галантного» XVIII столетия император Иосиф II17 подписал «Эдикт о терпимости» – опубликованный в 1782 году пакет законов, позволявших евреям ходить без обязательных ранее жёлтых звёзд на уличной одежде, свободно заниматься торговлей и предпринимательством, их детям поступать в общеобразовательные школы, а молодёжи – в университет. Единственным, пожалуй, ограничением стал запрет на использование еврейских языков – иврита и идиша; с одной стороны, оно способствовало ассимиляции этих граждан в общество «германской нации», а с другой – затрудняло разного рода тайные сношения их между собой. Ведь одно дело – шептаться о чём-нибудь где-нибудь в укромном углу, что сразу становится заметным, и совсем другое – преспокойно что-то лопотать при всех на своём непонятном языке. И вот мы уже встречаем в литературе такое определение: «Многочисленное и процветающее венское еврейство с его сильной тягой к ассимиляции…»18
Только не нужно думать, что «еврейский вопрос» в Австрии XIX столетия был окончательно снят с повестки дня, потому как утратил своё наболевшее значение. Нет, далеко не всё получилось так легко и просто.
В 1870-е годы на австрийской политической арене появился некий Георг фон Шёнерер19, агроном по профессии, парламентарий по роду деятельности, активный антисемит по своим увлечениям и сторонник создания Великой Германии под руководством Пруссии. Мало того, что идеология, которую он проповедовал, впоследствии была взята на вооружение небезызвестным германским фюрером и его НСДАП20, так и два «ключевых», наиболее известных слова из жизни Третьего рейха – «фюрер» (так называли фон Шёнерера его соратники) и приветствие «хайль» пошли от него же. Но тут следует уточнить, что в отличие от своего печально знаменитого последователя создать по-настоящему массовое движение агроному-парламентарию не удалось. (Зато, отметим в целях соблюдения исторического равновесия, что массовое движение – да ещё какое! – удалось создать младшему современнику фон Шёнерера – Теодору Герцлю21, проживавшему в то же самое время в той же самой благословенной Вене. Движение это называется сионизм, и вряд ли тут что-то кому-то нужно объяснять.)
«Пика парламентской популярности Шёнерер достиг в 1884–1885 годах, когда возглавил борьбу за национализацию Северной железной дороги… Когда возмущение политикой свободного рынка ощущалось уже практически во всех слоях общества, владельцам этой доходной магистрали были в связи с предполагавшейся реконструкцией представлены налоговые льготы. Направив всеобщее возмущение банкирами и биржевыми маклерами в русло антисемитизма, Шёнерер взялся за дело с бешеной энергией… Он обвинял не только либералов и министров, но косвенно даже двор в том, что они “склоняются перед властью Ротшильдов и компании”, и угрожал “колоссальными” народными бунтами в том случае, если эта власть не будет тотчас же сломлена…
Другую мишень своей антисемитской кампании Шёнерер позаимствовал непосредственно у радикально настроенных венских цеховых ремесленников, с которыми теперь связывалось его имя. Евреи-разносчики играли в нижних слоях общества ту же роль, что евреи – владельцы магазинов – в более высоких: и те, и другие представляли собой непосредственную угрозу для традиционных лавочников; и те, и другие вызывали ненависть, но привлекали розничного покупателя»22.
А вот это уже имеет к нашему герою самое непосредственное отношение – ведь, насколько мы помним, его отец являлся именно торговцем-разносчиком, то есть «торговал готовым платьем и бельём в рассрочку с рук, т. к. магазина никогда не имел». Понятно, что эта работа была и нелёгкая, и совсем не престижная, да и денег, очевидно, приносила не так уж много, так что вряд ли Генрих Аврамович Дейч (так он обозначен сыном в соответствующей «Анкете…») желал для Арнольда повторения собственной своей судьбы. Тем более что он относился к разряду тех тружеников, которых в Российской империи именовали «сознательными» – с 1910 года Генрих состоял в рядах Социал-демократической партии Австрии. Но если в России в традициях «сознательности» было решительно порывать с религией, то в Австро-Венгрии одно другому совсем не мешало.
В России-то всё по этому поводу было предельно ясно и зафиксировано не только в теоретических трудах классиков марксизма-ленинизма, но и, вполне доходчиво, в такой весьма интересной книге, что была издана при жизни Арнольда Дейча в СССР и которой он, вне всякого сомнения, пользовался – книга эта называлась «Политический словарь»: «Религия в руках господствующих эксплуататорских классов служит средством духовного закабаления трудящихся. Она помогает держать народ в темноте, учит терпению и покорности на земле, обещая награду в “загробной жизни”… Служители религии… являются пособниками контрреволюции… пополняют ряды агентов капиталистических разведок»23. В общем, у нас с этим было строго. У них – гораздо проще, о чём и свидетельствует автобиография Арнольда: «Отец был религиозным евреем и пытался всякими принуждениями и прежде всего битьём сделать из меня такого же».
Сложно сказать, насколько «битьё определяет сознание» – религиозное сознание – и воспитывает любовь к богу Яхве! С Арнольдом у его религиозного отца дело как-то не сладилось… И сейчас, кажется, было бы самое время порассуждать о проблеме отцов и детей, о конфликте уходящих и приходящих поколений, но тут вдруг вспоминаются слова философа Теодора Гомперца24, выходца из еврейской купеческой семьи и выпускника, опять-таки, Венского университета, назвавшего религию своих предков «почтенным семейным сувениром». Ведь Гомперц нашему герою как раз в отцы годился, но ортодоксальных воззрений его собственного отца отнюдь не разделял.
Просто не его, Арнольда, это была жизнь – такая жизнь, как описана в «Повести о рыжем Мотэле», поэме Иосифа Уткина, военного корреспондента и поэта, впоследствии, как и Дейч, погибшего во время Великой Отечественной войны, только немного позже и совсем по-иному – один из них погиб в небе, а другой – в море:
В синагоге —
Шум и гам,
Гам и шум!
Все евреи по углам:
– Ш-ша!
– Ш-шу!
Выступает
Рэб Абрум
В синагоге —
Гам и шум,
Гвалт!..
В общем, так вышло, что любовь к Господу Генрих Дейч своему сыну вколотить не сумел, зато самого сына вскоре потерял. Наверное, это так, но подробнее о том мы расскажем чуть позже, а пока ещё несколько слов о семье нашего героя, хотя о ней мы знаем очень и очень мало.
Николай Иванович Ежов (1895–1940) – генеральный комиссар госбезопасности (1937); в 1935–1939 гг. секретарь ЦК ВКП(б) и председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б); в 1936–1938 гг. нарком внутренних дел СССР, в 1938–1939 гг. нарком водного транспорта СССР. В апреле 1939 г. арестован, в феврале 1940 г. приговорён к смертной казни. Расстрелян.
Лаврентий Павлович Берия (1899–1953) – генеральный комиссар госбезопасности (1941), Маршал Советского Союза (1943), Герой Социалистического Труда (1943); в 1931–1938 гг. 1-й секретарь ЦК КП(б) Грузии, в 1932–1937 гг. 1-й секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). В 1938–1945 гг. нарком внутренних дел СССР, в 1941–1953 гг. заместитель председателя СНК (с 1946 г. Совета министров) СССР. В 1953 г. 1-й заместитель председателя Совета министров СССР и министр внутренних дел СССР. В июне 1953 г. арестован, в декабре приговорен к смертной казни. Расстрелян.
Абрам Аронович Слуцкий (1898–1938) – комиссар госбезопасности 2-го ранга (1935); в 1935–1938 гг. начальник ИНО (с 1936 г. – 7-й отдел) НКВД СССР. Есть версия, что он был отравлен.
Сергей Михайлович Шпигельглас (1897–1941) – майор госбезопасности (1935); с 1936 г. заместитель начальника 7-го (иностранного) отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР, в феврале – марте 1938 г. и.о. начальника отдела. В ноябре 1938 г. арестован, в январе 1940 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян.
Зельман Исаевич Пассов (1905–1940) – старший майор госбезопасности (1938); в марте – октябре 1938 г. начальник 5-го (иностранного) отдела 1-го управления (с сентября – Главного управления госбезопасности) НКВД СССР. В октябре 1938 г. арестован, в феврале 1940 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян.
Владимир Георгиевич Деканозов (1898–1953) – комиссар госбезопасности 3-го ранга (1938); В 1937–1938 гг. председатель Госплана и заместитель председателя СНК Грузии. С декабря 1938-го по май 1939 г. начальник 3-го (контрразведка) и 5-го (разведка) отделов и заместитель начальника Главного управления госбезопасности СССР. В 1939–1947 гг. заместитель наркома (министра) иностранных дел СССР, с ноября 1940-го по июнь 1941 г. полпред (посол) в Берлине. В 1953 г. министр внутренних дел Грузинской ССР. В июне 1953 г. арестован, в декабре приговорён к смертной казни. Расстрелян.
Павел Михайлович Фитин (1907–1971) – генерал-лейтенант (1945); с ноября 1938 г. заместитель начальника, с мая 1939-го по июнь 1946 г. начальник внешней разведки (5-го отдела 1-го управления) НКВД/НКГБ СССР.
Джон Эдмонд Костелло (Costello; 1943–1995) – британский военный историк; первый иностранец, получивший доступ к оперативным документам КГБ и его предшественников.