Великая война и Февральская революция 1914–1917 гг. Воспоминания генерал-майора Отдельного корпуса жандармов, начальника императорской дворцовой охраны Николая II
Text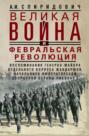


Go to audiobook
- Size: 920 pp. 33 illustrations
- Genre: Biographies and memoirs
Глава 9
Апрель 1915 года. – На пути от Бродов до Проскурова[49]. – На станции Здолбуново. – Разговоры в вагоне о Галиции и Распутине. – В Проскурове. – Из Проскурова в Каменец-Подольск на автомобиле. – Восторг крестьян. – Завтрак на поляне. – В Каменец-Подольске. – Возвращение. Посещение Одессы. – Дивная картина. – Исторический крест. – Смотр войскам. – Мечты о Константинополе. – Гвардейский экипаж. – Речь государя. – Посещения в городе и отъезд. – В Николаеве. – На судостроительном заводе. – Речь рабочего социал-демократа. Высочайший ему подарок. – Осмотр других заводов. – Отъезд в Севастополь. – Смотр флота. – Смотр пластунского батальона. – Разговор государя с офицерами. – Прогулка к Байдарским Воротам. – Отъезд на север. – Остановка на станции Борки. – Крушение царского поезда 17 октября 1888 года. – Прибытие на станцию Болва Орловской губернии. – Посещение Брянского завода. – Посещение рабочего поселка. – Беседа с рабочими. – Отъезд. – Десять минут в Москве. Встреча с великой княгиней Елизаветой Федоровной. – Посещение Твери. – Чай у дворян. – Речь предводителя дворянства Менделеева. – Подарки. – Речь государя. – Простота государя и радушие приема. – Государь у раненых. – Обед в поезде. – Отъезд. – Воспоминания
12 апреля провели в пути. Императорский поезд останавливался на станции Здолбуново, где стоял один из санитарных поездов, а на платформе были выстроены учащиеся с оркестром музыки, и было много публики. Последнее было новшество, введенное, кажется, по инициативе генерала Джунковского. Публику стали допускать под ответственность железнодорожной жандармской полиции. Государь обошел учащихся и затем много говорил с ранеными. К вечеру императорский поезд дошел до станции Красилова, и там заночевали, не доходя 40 верст до Проскурова.
Поздно вечером мы, несколько обычных спутников свитского поезда «литера Б», собрались в нашей комфортабельной уютной гостиной, перешедшей в этот поезд из старого императорского, «литера А».
В Бродах мы получили почту из Петрограда. Было много новостей. Устроились по удобным креслам. Дубенский, засунув руки за пояс блузы, ходил вразвалку посередине салона.
«Ну, вот вы, господа, – начал он, глядя на нас с Сусловым, – набросились на меня там, в Перемышле, вечером на мосту, когда я вам стал говорить, что в Галицию не надо было ехать, а выходит-то по-моему». И генерал стал рассказывать, что в Ставке получены кое-какие тревожные сведения. На галицийском фронте против армии Радко-Дмитриева стали заметно группироваться немецкие части. Видимо, что-то там подготовляется нехорошее. Черный Данилов уже ходит как туча, а Янушкевич нервничает.
«Ведь эта … – генерал непочтительно выругался, – только и умеет, что нервничать. Не было бы худа». И генерал, видимо со слов Брусилова и его окружения, стал рассказывать, что Иванов – человек узкий, нерешительный, бестолковый и очень самолюбивый, не понимает создающейся на фронте обстановки. Не понимает, что против 3-й армии генерала Радко-Дмитриева идет накопление больших неприятельских сил, и не усиливает Радко-Дмитриева, несмотря на все его просьбы.
Стали говорить о галицийском населении. Все сходились на том, что если простой народ и напоминает малороссов, то города производят впечатление вполне ополяченных.
Все имели одну и ту же информацию, что во главе враждебной России агитации и пропаганды стояло католическое духовенство во главе с униатским митрополитом графом Шептицким. Последнего военным властям пришлось отправить в Киев.
Перешли на петроградские новости. «Ну, Глинка, теперь вы нам сообщите, что у вас там, в Петербурге, Григорий Богомерзкий делает», – обратился по обыкновению ко мне Дубенский, именуя так Распутина. Все расхохотались. Я рассказал, что Распутин стал очень пить, чего до войны за ним не замечалось. Во-вторых, у одного знакомого он очень сердился, что государя уговорили ехать в Галицию, так как он считал, что эта поездка «безвременна», но что он молится и потому все сойдет в поездке благополучно. Мой корреспондент подшучивал, конечно, насчет молитв старца, но относительно несвоевременности поездки писал серьезно и прибавлял, что некоторые очень неодобрительно отзываются за это о Ставке.
Дар ясновидения у Распутина был большой, и то, что он накаркал в столице, как будто стало оправдываться относительно Галиции. Дубенский был смущен, а мы стали смеяться, что он работает заодно со старцем. Поговорив еще немного, мы пошли по купе, и Дубенский долго еще ворчал и возился по соседству со мной, что всегда случалось, когда он был в дурном расположении духа.
Утром 13-го императорский поезд продвинулся к Проскурову. Все местечко высыпало к дороге, по которой государь должен был ехать на автомобиле в Каменец-Подольск. Старые евреи в лапсердаках, с пейсами, были очень живописны. Детвора жалась около матерей. В 10 часов царский автомобиль тронулся под крики толпы и визг детей. При проезде через деревни автомобиль замедлял ход. Толпы народа стояли по пути, кланялись; перед многими домами, у дороги, стояли столы, накрытые белыми скатертями с хлебом и солью. При въездах и выездах были устроены арки из зелени и полотенец. Было наивно, хорошо и мило.
Не доезжая верст двадцати пяти до города, в придорожном лесу, на уютной поляне, был сервирован гофмаршальской частью завтрак для государя со свитою. Остановка нескольких автомобилей привлекла, конечно, внимание крестьян, работавших поблизости. Стали сходиться. Мы, охрана, подпустили их, насколько можно было, близко, установили в порядке и, после завтрака, государь подошел к крестьянам. Поздоровавшись, государь стал расспрашивать, откуда они, и долго разговаривал с ними. Крестьяне удивительно просто и толково отвечали государю. Государь пожаловал каждому серебряные часы с цепочкою. Крестьяне повалились в ноги. Стали целовать одежду и руки государя. Сконфуженный, государь поднял одного старика под руку. Сцена была замечательная. И этой встречей, и завтраком, и отдыхом в лесу государь остался очень доволен, и так как инициатива этого принадлежала Воейкову, то, конечно, он был в восторге.
При въезде в город встретили губернатор и депутации. Депутации были и около собора. Все подносили деньги на нужды войны. Всего поднесли до 53 000. Крестьяне подносили только хлеб-соль. У собора же были и военные власти. После молебна государь произвел смотр войскам, среди которых был и Крымский конный ее величества полк, столь хорошо знакомый по Крыму. Посетив затем раненых в двух госпиталях, государь вернулся в Проскуров, и императорский поезд отбыл в Одессу.
В 9 часов утра 14 апреля императорский поезд плавно подошел к дебаркадеру станции Одесса. Государь вышел в форме Гвардейского экипажа и принял рапорты, а также военных и гражданских чинов и депутации, которые поднесли в общем 256 500 рублей на раненых. Государь горячо поблагодарил городского голову Пеликана за щедрую отзывчивость городского самоуправления и жителей на пользу раненых. С вокзала отправились в собор. Широкий путь был украшен флагами, зеленью, но наибольший наряд придавали улицам бесконечные цепи учащихся с цветами и флагами и многочисленная нарядная толпа. Все балконы, все окна были усеяны публикой. На деревьях сидели мальчуганы. Все учащиеся корпорации были уставлены по одну сторону улицы, войска – по другую. Царский кортеж двигался тихо-тихо, и ему навстречу летел целый дождь цветов. Гремела музыка, неслось оглушительное «ура!» и звон колоколов, напоминавший Москву.
При южном радостном солнце, при дивной погоде, эти проезды государя нигде и никогда не бывали так красивы и нарядны, как в Одессе. Это была как бы привилегия нашей прелестной, широко раскинувшейся черноморской красавицы. Правда, и природа, да и заботы столь любившего монарха городского головы Пеликана, да и удивительно славного градоначальника Сосновского много способствовали этому успеху – первенству Одессы. Чувствовалось какое-то странное отсутствие официальности, которая, по существу, была в наличности, как и везде.
У входа в собор государь был встречен архиепископом Назарием с крестом и святой водой. Сказав краткое слово, владыка поднес государю икону Божией Матери и большой медный крест. Крест тот был отлит из тех медных денег, что жертвовались в 1854 году солдатами, шедшими на защиту Севастополя, когда их благословлял в поход тогдашний одесский архиепископ Иннокентий. Ныне, поднося тот крест государю, владыка пожелал, чтобы он был водружен в Царьграде на Святой Софии. Не ожидавший такого приветствия, государь был видимо растроган. После молебна его величество особенно милостиво благодарил владыку и затем отправился на Куликово поле смотреть войска.
То, о чем у нас, на севере, лишь шептались, и то некоторые, здесь, в Одессе, говорили громко и открыто, – это о десанте и походе на Царьград. Здесь все были уверены, что прибывающие войска предназначаются для этого десанта. Владыка своим открытым приветствием как бы подтвердил это государю. Одной из главных частей проектируемого десанта был Гвардейский экипаж. Им командовал великий князь Кирилл Владимирович. Экипаж имел уже боевое прошлое и за эту войну. Насчитывал и убитых, и раненых. Обойдя все войска, государь вызвал вперед тех моряков экипажа, которые были представлены к Георгиевским крестам. Государь расспрашивал каждого о деле, в котором тот участвовал, и лично навешивал каждому на грудь крест храбрых. Окончив раздачу наград, государь обратился к морякам со следующей речью:
«Я счастлив, что могу напутствовать Гвардейский экипаж перед выступлением во второй для него поход. Когда я уезжал из Петрограда, августейший шеф ваш просил меня передать свое благословение и привет родному Гвардейскому экипажу.
Во время последней турецкой войны Гвардейский экипаж занимал Константинополь, уверен, что Господь Бог приведет вам и ныне вступить в Царьград во главе наших победоносных войск. Дай Бог вам дальнейших успехов и окончательной и славной победы над упорным врагом. Господа офицеры, благодарю вас сердечно за первую часть совершенного вами похода, за неутомимую, ревностную, честную службу. Вам, молодцы, за совершенный уже поход, за славную боевую службу сердечное спасибо!»
Отойдя от фронта, государь, как бы не желая расставаться с этой любимой частью, еще раз сказал: «Прощайте, молодцы».
Исторический, поднесенный архиепископом, крест государь повелел передать Гвардейскому экипажу, где он затем и хранился, как драгоценная святыня. Обойдя затем два Донских казачьих полка (54-й и 55-й) и только что прибывший Кавказский стрелковый полк, государь сказал командиру бригады: «Я был рад повидать хотя бы часть молодецкой стрелковой бригады накануне выступления в поход. Передайте офицерам сожаление, что я не всех мог повидать».
Подойдя затем к выстроенным на поле раненым офицерам, государь долго беседовал с ними, расспрашивая подробно о делах, в которых они участвовали, и об их здоровье. Прапорщика 57-го Модлинского пехотного полка, имевшего четыре солдатских Георгия и дошедшего из солдат-крестьян до офицерского чина, государь особенно долго и внимательно расспрашивал о его здоровье. Тот был уже вторично ранен и собирался вновь ехать в полк. Государь сказал ему: «Желаю вам полного успеха и счастливой дороги. Дай Бог вам всего, всего лучшего». Государь подал прапорщику руку и как-то особенно сердечно попрощался с ним. Государь любил и понимал простых людей.
После смотра государь посетил два больших госпиталя с ранеными. В одном из них лежала женщина-доброволец. Государь пожаловал ей Георгиевскую медаль. Посетив затем колоссальную мастерскую белья для раненых, государь вернулся в поезд и, после завтрака, к которому были приглашены местные власти, отбыл в Николаев.
Проводив государя, я на автомобиле помчался в Николаев в то время, как мой отряд охраны ехал туда на пароходе. Этим мы выгадывали время, и я имел в своем распоряжении целый сегодняшний вечер.
Николаев – важный портовый город, имел несколько судостроительных заводов. Работало до 20 000 рабочих. Строились дредноуты. Государь должен был посетить их. Население носило особый характер провинциально-военно-портового. Градоначальник был моряк. Полиции до смешного мало. Но мой отряд был в форме, да и условия войны, благодаря всеобщему патриотическому подъему, создавали особую благоприятную для охраны обстановку. Мы быстро сориентировались, столковались с начальством и спокойно ожидали следующего дня.
15-го утром прибыл государь. Погода была холодная, неприветливая. Дул сильный ветер. Море было серое, угрюмое.
Встреченный на вокзале властями, государь проехал в собор. Население встречало государя попросту, по-провинциальному. Ему не только кричали «ура!» и махали платками и шапками, но за ним и бежали. Казалось, двигалась вместе вся улица. Попросту. Бежали и мои охранники. Народ стоял на заборах, на крышах низких домов, сидели на деревьях и размахивали оттуда шапками.
Из собора государь поехал на Николаевский завод. Сойдя с автомобиля, государь шел между двумя стенами рабочих. Рабочий Белый, социал-демократ, приветствовал государя, поднеся хлеб-соль, складной речью. «Мы верим, – сказал он, – что наши труды не пропадут даром, и Россия узрит на Святой Софии, в Константинополе, православный крест вместо мусульманского полумесяца».
Государь поблагодарил и вручил Белому серебряные часы с государственным гербом и цепочкой. Этот подарок, тут сразу сделанный, произвел большое впечатление на рабочих. Как только государь пошел дальше, Белого стали поздравлять и сотни рук потянулись трогать царский подарок.
Государь пробыл на заводе три часа. Он обходил мастерскую за мастерской и интересовался буквально всем, расспрашивая не только инженеров, но самих рабочих. Много докладывал директор завода Дмитриев, вставлял часто свое увесистое слово морской министр Григорович, умный, дельный, но и ловкий человек. В тени держался шикарный англичанин, деловой человек Крукстон. На этом заводе строился дредноут «Императрица Мария». Окончив осмотр завода, государь посетил лазарет и морской госпиталь.
После завтрака государь посетил завод Общества Николаевских заводов и верфей, где смотрел строившиеся военные суда, посетил все мастерские, обо всем расспрашивал, во все входил, во все вникал, так же как и утром. И здесь государь пробыл более трех часов и, покидая завод, благодарил неоднократно рабочих, администрацию и начальство. Все взаимно были довольны, а государь позже, в вагоне, не мог достаточно нахвалиться на удивительную продуктивность во время войны Николаевских заводов.
В шесть часов государь уехал из Николаева в «милый», как он выражался среди близких, Севастополь.
Уже стало смеркаться, когда 16 апреля императорский поезд прибыл в Севастополь и остановился, как всегда, у Царской пристани. На рейде отдыхал весь Черноморский флот, вернувшийся лишь накануне из похода. На рассвете 12 апреля англо-французские войска высадили десант на Галлиполийский полуостров, и в то же утро наша эскадра, согласно уговору, бомбардировала укрепления Босфора. Наши разрушили одну из береговых батарей, потопили миноносец и заставили весь турецкий флот укрыться на внутреннем рейде. Весь Севастополь был полон рассказами про этот набег нашей эскадры.
17-го утром государь с министром Григоровичем и флаг-капитаном Ниловым отбыл на катере на флагманский корабль «Георгий Победоносец», где командующий флотом адмирал Эбергард сделал подробный доклад о действиях флота. Государь посетил несколько кораблей и госпитальное судно и был в отличном настроении от всего виденного. В четыре часа на пристани был произведен смотр одному из пластунских батальонов.
18-го, в шестом часу утра, наш флот стал выходить в море. Утро было тихое, море спокойное. Мы, несколько человек нашего поезда, поспешили на Приморский бульвар. Там уже стоял великий князь Кирилл Владимирович. Один за другим вытягивались корабли из бухты, оставляя за собой клубы дыма. Но вот весь флот ушел, и как-то пусто и скучно стало на рейде. Отлетела душа. Зато на берегу кипела жизнь. За городом, на огромном Куликовом поле выстраивались одиннадцать пластунских батальонов, саперные и воздухоплавательные части. Все они, как говорили, предназначались для десанта, все горели желанием идти на басурмана.
В 10 часов государь посетил Адмиралтейский собор и затем прибыл к войскам. Его величество был в форме Кубанского казачьего войска и в серой папахе. Государь медленно обходил часть за частью и благодарил за боевую службу. Все эти пластунские батальоны уже покрыли себя славою в боях с войсками Энвер-бея. Они принимали участие в разгроме его армии. В знак особой милости к пластунам государь объявил 3-му батальону, что назначает наследника шефом этого батальона. Как бы остолбенев от неожиданности, батальон замер на несколько секунд и затем разразился неистовым «ура!». Это был какой-то рев радости. Каждой части государь желал: «Дай вам Бог дальнейшего успеха и окончательной победы».
Пропустив войска церемониальным маршем и поблагодарив еще раз каждую часть, государь вызвал к себе офицеров. Тесным кольцом окружили кавказцы государя, и начался тот простой, задушевный, откровенный разговор, на который умел вызывать каждого государь Николай Александрович. Офицеры были в восторге. Говорили и про только что содеянные боевые подвиги, и про дела домашние, семейные, про старое славное прошлое своих частей. Государь, знавший военную историю не хуже любого профессора, напомнил, что 2-й и 8-й пластунские батальоны покрыли себя славою еще при обороне Севастополя. На загорелых лицах улыбки расплывались во весь рот. Снявшись с офицерами и по частям, и в общей группе, государь отбыл, при криках «ура!», в Севастополь, а батальоны, с музыкой и песнями, пошли по казармам.
И неслась лихая казачья песня через Черное море к родным кавказским берегам и замирала вдали.
После завтрака государь пожелал взглянуть на столь любимый им южный берег Крыма и совершил прогулку на автомобиле за Байдарские ворота, до ближайших деревень, где произошли оползни. Пострадали даже сакли. Осмотрели места катастрофы.
В 11 часов ночи государь отбыл на север. Его провожала тихая, звездная южная ночь.
19 апреля императорский поезд остановился близ станции Борки, у платформы храма Христа Спасителя, на 49-й версте от Харькова, где 17 октября 1888 года царский поезд, следовавший из Севастополя в Гатчину, и в котором находился Александр III со всей семьей (супруга, три сына и две дочери), потерпел страшное крушение.
В 12 часов 14 минут дня, в то время, когда царская семья завтракала со свитой в вагоне-столовой, поезд, шедший со скоростью 64 версты в час по насыпи, вышиною в 6 сажен и шириною в 4 с половиною сажени, с крутыми откосами, сошел с рельс. Несколько вагонов были разбиты вдребезги, несколько скатилось с насыпи. Убитых оказалось 23, раненых – 41, из которых 6 умерло.
Вагон-столовая тоже скатился с насыпи, но царская семья, слава богу, не пострадала. По рассказу одной из великих княгинь, сидевшие [в вагоне] почувствовали страшное сотрясение, страшный треск и первый толчок, от которого все были сброшены со своих мест. Вагон летел вниз, получился второй толчок, и столовую как бы повернуло слева направо. Затем – третий толчок, вагон развалился, крыша упала и как бы накрыла всех. Маленькие же Михаил Александрович и Ольга Александровна были выброшены на насыпь, но невредимы. Государь[50] и дочери получили легкие ушибы.
После первого потрясения, высвободившись из-под обломков и увидав, что все живы, их величества со старшими детьми тотчас же стали подавать помощь раненым. Отовсюду неслись стоны. Государь отдавал все распоряжения. Увидав обломок гнилой шпалы, государь передал его жандарму. На вопросы о здоровье государь отвечал: «Ничего, я только ушиб немного правую ногу».
Причины крушения, как оказалось после соответствующей экспертизы, были чисто технические. Поезд шел с не соответствующей его составу большой скоростью, с двумя товарными паровозами и с не вполне исправным вагоном министра путей сообщения во главе. (Летом того же года, после проезда императорского поезда по Юго-Западным железным дорогам, начальник дороги Витте, сопровождавший поезд, подал министру путей сообщения Поссьету рапорт, в котором предостерегал, что непомерно быстрое движение с двумя товарными паровозами, с таким тяжелым поездом, как императорский, так расшатывает путь, что поезд может вышибить рельсы, вследствие чего может потерпеть крушение. Витте требовал изменения расписания для его дорог, заявляя, что в противном случае он отказывается проводить поезда. На рапорт не было обращено соответствующего внимания, хотя скорость для дорог Витте и была уменьшена согласно его требованию.)
Никакого злоумышления революционного характера не было, но в публике пошел слух, что крушение явилось результатом взрыва бомбы, которая-де была подложена в форму, в которой приготовлялось мороженое. На месте крушения была воздвигнута красивая часовня, и при проезде государя там всегда служили молебен. Отслужили молебен и теперь.
20 апреля государь прибыл на станцию Болва Брянского уезда Орловской губернии. Около станции находился большой завод Брянского акционерного общества. Один завод общества его величество уже видел в январе в Екатеринославе. На обоих заводах работало до 35 000 рабочих, которым выплачивалось до тридцати миллионов рублей в год. Расход заводов на церкви, школы, библиотеки и больницы достигал свыше 300 000 рублей. Завод работал ныне на войну: снаряды, вагоны, паровозы, продолжая выработку и сельскохозяйственных машин.
Встреченный на станции губернскими и уездными властями, заводской администрацией и депутациями от населения, государь принял хлеб-соль и пожертвование на раненых. Население заводского поселка, учащиеся и нарядная пожарная команда с оркестром музыки стояли по обе стороны дороги к церкви. После молебна, при входе на заводскую территорию, у красивой триумфальной арки, депутация от рабочих поднесла хлеб-соль.
Один из рабочих произнес речь: «Великий государь, рабочие Брянского завода счастливы тем, что ты, державный хозяин земли Русской, не забываешь нас и пришел посмотреть на наш труд. В эту годину наши дети и братья грудью стоят за тебя и родину дорогую, а мы здесь не покладая рук своих с радостью отдаем свой труд и свое достояние на славу тебе и счастье России. Милостиво прими, державный государь, нашу хлеб-соль».
Поблагодарив депутацию и подарив говорившему речь часы, государь вступил на территорию завода. Сплошными стенами стояли тысячи рабочих и горячо встречали государя. Спокойно и внимательно осматривал государь отдел за отделом, слушая объяснения администрации и рабочих. Время от времени благодарил то одну, то другую группу, а иногда и отдельных рабочих у станков.
«Я очень рад быть у вас на заводе. Великое вам спасибо за ваш труд», – говорил не раз государь рабочим.
Непосредственная близость государя, его простое обращение, простые, но показывающие знание дела и условий труда вопросы производили очень большое впечатление на рабочих. А кругом все шумело, визжало, скрипело – завод работал полным ходом. Прервав осмотр для завтрака, государь поехал в поезд и по дороге остановился и посетил несколько домиков семейных рабочих. Семьи были дома, а мужья на заводе. Удивлению женщин и детей не было предела. Сперва наступало как бы остолбенение, но ласковые, простые, сердечные вопросы государя подбодряли женщин, и те скоро оправлялись и уже радостно, но толково отвечали государю на его расспросы и даже угощали, чем могли. Когда же государь передавал женщинам подарки на память о своем посещении, вновь наступала растерянность, и затем они хватали руки государя и покрывали их поцелуями.
К высочайшему завтраку в числе приглашенных были: председатель правления Кошкаров, директор завода Буховцев. После завтрака осмотр продолжался еще несколько часов. В музее государю поднесли модель бронированной крепостной башни, модели двух плугов и бороны с просьбой передать их наследнику. Поднесли и альбомы завода. Расписавшись в золотой книге завода, государь беседовал с группой наиболее старых рабочих и подарил им часы. Были осмотрены больница, хлебопекарня, госпиталь. Стало уже смеркаться, когда государь окончил свое посещение, и перед отъездом подошла еще одна депутация от рабочих, прослуживших на заводе не менее сорока лет каждый. Они поднесли государю, от имени 15 тысяч рабочих завода, икону Божией Матери в ризе, шитой жемчугом, и просили принять ее на память о посещении завода. Государь был растроган.
В 6 часов 20 минут государь отбыл со станции Болва. Весь заводской поселок и тысячи рабочих провожали уходивший поезд долго не смолкавшим «ура!», оркестры играли «Боже, царя храни».
21 апреля утром императорский поезд имел десятиминутную остановку в Москве, когда в поезд приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна.
В два часа прибыли в Тверь. Тверские земство и дворянство считались, как известно, громко либеральными. Весьма понятно, что посещение Твери интриговало оба поезда. У меня заранее был послан туда блестящий офицер, подполковник Управин, окончивший Тверское кавалерийское училище. Приняв на станции начальство и депутации от всех сословий и пожертвование 6000 рублей на раненых, государь проехал в собор. На этот раз в автомобиле его величества сидел только министр двора. Архиепископ Серафим (Чичагов), из военных, приветствовал государя и благословил иконою святого Михаила Черниговского. Игуменья женского монастыря поднесла иконы для царицы и наследника. Духовенство поднесло 60 000 рублей на раненых, а депутация от церковно-приходских школ – 35 000 рублей на ту же надобность, но в распоряжение наследника.
Приложившись к мощам святого Михаила, государь отбыл из собора, принял почетный караул Тверского кавалерийского училища и проехал во дворец. Там представлялись все военные и гражданские власти и были осмотрены склад и мастерские белья для раненых. Супруга губернатора Бюнтинга пдедставила всех дам, работавших в складе. Посетив затем музей Тверского края, государь прибыл в Дворянский дом.
Уже за два дня до того генерал Джунковский передал генералу Воейкову просьбу дворянства посетить прежде всего их дом, что сразу не понравилось. Государь не любил, когда ему указывали, что и когда он должен делать. Было дано знать, что государь примет от дворянства чай, регламент же всей программы был оставлен по принятому порядку. Все съехавшиеся из губернии, нарочно приехавшие из Петрограда и Москвы с женами, ждали в зале собрания. Государь был встречен речью губернского предводителя Павла Павловича Менделеева.
«Светлым праздником искони было для всех городов и всей державы ваше царское посещение, – так начал звучным голосом Менделеев и потом, после короткой паузы, с чисто ораторской дикцией, продолжал: – Но в грозный час народных бедствий общение с царем не только великая радость, но и насущная потребность. Предстать в такой день пред ваши, государь, очи – значит приобщиться ко всей неодолимой мощи государства Российского». Красиво, проникновенно звучала речь. Она хватала за сердце, сжимала горло. Говорилось о серьезном, упорном враге, об усилиях России сломить его, о вере в будущую победу и закончилось дивными словами: «Непобедима мощь России, духовно слившейся с царем».
Восторженное «ура!» естественно вырвалось у всех. Растроганный государь крепко жал руку Менделееву. С адресом поднесли 10 000 рублей на раненых и ларец с пряниками для наследника. Государь обошел дворян, отдельно дам, которые поднесли складень, посетил лазарет, где комитет губернского земства поднес хлеб-соль. Когда проходили в зал, дамы поднесли целый склад белья, прося передать ее величеству. Желая знать, не имеет ли подарок какого-либо специального назначения, государь спросил: «А ее величество может сделать с ним все, что хочет?» На что, конечно, последовал утвердительный ответ.
Зал, куда вошел государь, был так красиво убран и декорирован зеленью, что у государя невольно вырвалось: «Боже, какая красота». А навстречу неслось сперва «ура!», а затем «Боже, царя храни». Кругом царило восторженное, но в то же время какое-то особенно задушевное настроение. Государь сразу стал разговаривать настолько просто и симпатично, что это как бы передалось и захватило всех. Подали шампанское. Менделеев поднял тост за государя. Опять «ура!», и опять «Боже, царя храни». Государь сказал в ответ: «Я сердечно тронут вашим радушным приемом и приношу вам, господа дворяне, вашим супругам и родственникам за теплые и сердечные заботы о раненых и больных наших воинах, которых я посетил и посещу еще сегодня, и за те жертвы, которые вы принесли на пользу родины, свою благодарность. За ваше здоровье, за процветание тверского дворянства». В ответ опять пение «Боже, царя храни».
Когда государь сел, завязался простой разговор. Менделеев извинился, что ввиду такого особого события дворяне позволили себе подать шампанское, несмотря на запрет продажи крепких напитков. Государь ответил, смеясь, что в день взятия Перемышля он также справил с великим князем это событие шампанским. Дворяне наперерыв угощали державного хозяина. Государь ел и хвалил пасху, говоря, что он очень любит ее. Штюрмер предлагал ту самую наливку, которую государь пробовал в Ярославле в 1913 году. Государь рассказывал про свое путешествие. Восхищался, насколько все население России проникнуто удивительным патриотическим подъемом. Восхищался, что народ слился с ним, царем, в мыслях о войне. А время шло, и министр двора напомнил, что уже время для дальнейших посещений. Государь, улыбаясь, ответил: «Мне здесь так хорошо» – и продолжал разговаривать.
На слова Менделеева, что владыка огорчен, что государь не посетил его госпиталя, государь сказал: «Если бы я поехал туда, я бы не был у вас».
Когда государь стал прощаться, а Менделеев начал благодарить за оказанную дворянам честь, государь сказал: «Я вас благодарю, вы меня завалили подарками». Кто-то разбил стакан. Послышалось со всех сторон: «К счастью, к счастью». Государь, смеясь, сказал: «Ну да, к счастью». Обступив тесным кольцом, провожали дворяне государя до экипажа. И вновь неслось восторженное «ура!», «Боже, царя храни», высоко поднимались украшенные плюмажами шляпы.
«Господи, как хорошо, и это у самого беспокойного, оппозиционного дворянства. Ну, разве это не чудо? Вот что делает война» – так говорил мне один из растроганных спутников по поезду, влезая в мой автомобиль.
