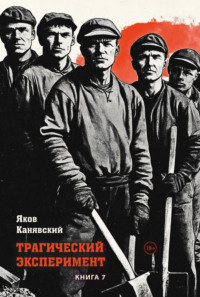Read the book: «Трагический эксперимент. Книга 7»
Всякую революцию задумывают романтики,
осуществляют фанатики, а пользуются её плодами
отпетые негодяи.
Томас Карлейль
Всякий раз, когда я вспоминаю о том,
что Господь справедлив, я дрожу за свою страну.
Михаил Жванецкий
Народ, забывший своё прошлое,
утратил своё будущее.
Сэр Уинстон Черчилль

© Канявский Яков, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
Судьба страны
Глава 1
Индустриализация
Чтобы начать с нуля, до него
ещё нужно долго ползти вверх.
Михаил Жванецкий
С 29 марта по 5 апреля 1920 года в Москве прошёл IX съезд РКП (б), ставший апогеем ленинского учёта и распределения – прыжка в социализм. Именно это собрание нарождающейся номенклатуры – рекордное по сравнению с предыдущими по количеству участников – приняло решения, вылившиеся в усиление дефицита, окончательное разорение народного хозяйства, доставшегося большевикам в наследство от царских властей, а затем и повальный голод в Поволжье, на Украине, в Казахстане и Западной Сибири. Одержимые властью, которую давал контроль над продовольствием, коммунисты называли торговцев жуликами, да и к крестьянам – мелким собственникам – тоже не испытывали тёплых чувств. Красный тоталитаризм расцвёл во всём своём убожестве, и различия с тем, что большевики устроили в 1930‑е, были косметическими. Стрелки часов вертелись в обратном направлении: в итоге вышло нечто примитивное, хотя и невиданное.
Руководители страны отлично понимали, какие риски содержит их экономическая политика. В докладе съезду Ленин выразил удовлетворение тем, что конец Гражданской войне близок, тем не менее не видел скорого конца лишениям: «…Наши шаги к миру мы должны сопровождать напряжением всей нашей военной готовности, безусловно не разоружая нашей армии». Глава государства поставил задачу – начать хозяйственное строительство: «Тут нужна железная дисциплина, железный строй… Этот переход требует многих жертв, которых и без того много понесла страна». Далее он уточнил, что имеется в виду начало экономики, работающей согласно долговременному замыслу: «Мы должны помнить, что этот план рассчитан на много лет, мы не обещаем сразу избавить страну от голода».
Сам Ильич не собирался затянуть пояс, и благодаря закрытому от глаз трудящихся спецпайку в том году питался не только ржаным хлебом и манкой, но и мясом, яйцами, сыром, салом, сливочным маслом, лакомился икрой, запивая импортными чаем и кофе.
При этом сложно истолковать иначе как признание в абсолютизме следующие слова, произнесённые им на съезде – скромно, без имён: «…Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре нисколько не противоречит. Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим».
Троцкий гремел с трибуны о том, что надо расширить применение принудительных работ, прикрепить пролетариев к заводам – как на мануфактурах Петра I, увеличить число трудовых армий, что смахивало на аракчеевщину: «…Принуждение играет и будет играть ещё в течение значительного исторического периода большую роль. По общему правилу человек стремится уклониться от труда. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное. <…> Рабочая масса не может быть бродячей Русью».
Как и Ленину, человеческое существование подданных не виделось Льву Давыдовичу ближайшей задачей: «…Надо обеспечить возможность жить стране хотя бы в нищенских условиях, сохранить города (откуда народ бежал за границу, к белым или в сёла). <…> Наш хозяйственный план, при максимуме напряжения трудящихся, даст не кисельные берега и молочные реки <…> при самых больших усилиях в ближайший период, мы направляем нашу работу на то, чтобы подготовить условия для производства средств производства. И лишь после того, как в минимальных размерах мы будем иметь средства производства, мы перейдём к производству средств потребления и, стало быть, предметы личного потребления, непосредственно осязательный для самих масс плод работы, получатся в стадии последнего звена этой хозяйственной цепи».
Чтобы управлять теми, кто гнул спину из-под палки, требовалось всё больше сотрудников государственного аппарата, о разрастании которого наркомвоенмор заявил с предельной откровенностью: «…бюрократизм и волокита заложены в самой структуре наших учреждений».
Тем не менее Троцкий на съезде с гордостью вещал о движении к социализму, считая продовольственные затруднения оправданными издержками: «Мы убили вольный рынок, эксплуатацию, конкуренцию, спекуляцию. <…>
Во время моего пребывания [на Урале] многие указывали на такой факт: в одной губернии люди едят овёс, а в другой, соседней, лошади едят пшеницу, и губпродком не имеет права перебросить пшеницу из одной губернии в другую…»
Впоследствии Лев Давыдович вспоминал о суровых буднях военного коммунизма, когда он вселился в покои самодержца: «Тяжёлое московское варварство глядело из бреши [царь-]колокола и из жерла [царь-]пушки. <…> Красной кетовой икры было в изобилии… Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции». В кремлёвских продовольственных ордерах отмечается, что в ноябре 1920 года Троцкий не брезговал орехами, мёдом и монпансье.
Рабочие же и крестьяне прозябали не впустую – именно на IX съезде наркомвоенмор предложил отказаться от кадровой армии и перейти к территориально-милиционной системе, поставив под ружьё почти без отрыва от производства едва ли не весь народ: «…Если милиционная форма организации обороны рассматривается в развёрнутом виде, со всеми необходимыми вспомогательными учреждениями, со школьной и допризывной подготовкой с широкой организацией всех видов спорта в стране на государственный счёт, с созданием необходимых ристалищ, стрельбищ, тиров – то, несомненно, что развитая милиция, хорошо организованная, будет дороже уже по одному тому, что она охватывает несравненно более широкие массы», чем армия кадровая.
Далее он расписал грядущие тяготы: «…Это – армия дорогая. Она предполагает <…> широкую организацию на местах, она предполагает высокого типа кадры, она предполагает колоссальные запасы орудий и снаряжения. Это всё предполагает колоссальные расходы. <…> Если мы говорим о милитаризации труда, то мы ставим перед собой и другую задачу – индустриализацию нашей армии…» Подготовленная Троцким соответствующая резолюция была принята без прений и единогласно, то есть её поддержали и Ленин, и Сталин, являвшийся одним из делегатов с решающим голосом.
Постановление съезда по отчёту ЦК должно было обладать едва ли не всемирно-историческим значением: «Основным условием хозяйственного возрождения страны является неуклонное проведение единого хозяйственного плана, рассчитанного на ближайшую историческую эпоху».
Далее речь шла о способах воплощения этого великого замысла – «о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности (новой барщине), милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд»; о сочетании пропаганды на народ «с репрессиями по отношению к заведомым бездельникам, паразитам, дезорганизаторам»; о «применении системы уроков, при невыполнении которых понижается паёк» в трудовых армиях; а также XV пункт, наиболее ярко показывавший торжество победившего пролетариата: «Ввиду того, что значительная часть рабочих, в поисках лучших условий продовольствия самовольно покидает предприятия, переезжает с места на место, съезд одну из насущных задач видит в планомерной суровой борьбе с трудовым дезертирством, в частности, путём публикования штрафных дезертирских списков, создания из дезертиров штрафных рабочих команд и, наконец, заключения их в концентрационный лагерь».
Но по-настоящему чудовищным стал XIII пункт – «Продовольственные задачи», что, однако, на первый взгляд не бросается в глаза: «1. Собрать путём высшего напряжения сил продовольственный фонд в несколько сот миллионов пудов. <…>
2. <…> Заготовка сырья должна основываться на системе государственной развёрстки и обязательной сдаче сырья согласно развёрстке. Должна быть применяема система расплаты за сдаваемое сырьё в известном, установленном каждый раз особо, размере продуктами и полуфабрикатами…» То есть следовало вернуться к бартеру – примерно в VIII век нашей эры, во времена родоплеменных отношений.
В действительности товарообмен уже тогда был прозван крестьянами товарообманом, поскольку в условиях, когда заводы вставали, продотряды отдавали за изымаемое зерно в лучшем случае квитанции, на которые нельзя было получить почти или вообще ничего. А забирали по развёрстке – определённой властями по своим потребностям, а не по возможностям села, что на практике вылилось в изъятие как минимум всего найденного товарного хлеба, а иногда и зерна посевного фонда.
У селян, весной 1920 года узнавших о решениях съезда, окончательно пропал стимул к производству больше, чем было необходимо для простого самообеспечения. Именно сокращение посевных площадей стало основной причиной катастрофы 1921–1923 годов. Да и коммунистический дефицит, острейшая нехватка промышленных товаров, топлива, а также даже уже и в селе многих видов продовольствия не способствовала успешной пахоте, посеву, сбору и хранению урожая.
То есть Ленин в 1920 году не желал массового умерщвления крестьян голодом, но принимал в расчёт возможность такого развития событий. Ведь приведённые выше его высказывания на IX съезде показывают, что он знал – положение с питанием в России стало удручающим. Да и как иначе? Ведь сам Ильич ещё весной 1918 года в тезисах по текущему моменту вольно или невольно заложил основы соответствующей политики на более долгий срок:
«1) Военный комиссариат превратить в Военно-продовольственный комиссариат – т. е. сосредоточить 9/10 работы Военного комиссариата на переделке армии для войны за хлеб и на ведении такой войны – на 3 месяца: июнь – август.
2) Объявить военное положение во всей стране на то же время.
3) Мобилизовать армию, выделив здоровые её части, и призвать 19‑летних, хотя бы в некоторых областях, для систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива.
4) Ввести расстрел за недисциплину».
Да и принудительный труд вернулся вскоре после прихода большевиков к власти, на IX съезде были приняты решения лишь о расширении его масштабов.
Весной 1918 года Ильич на заседании президиума ВСНХ предлагал ввести в России на предприятиях изощрённый менеджмент – тейлоризм (который он всего за четыре года до этого заклеймил как «порабощение человека машиной»), приспособить его к условиям, когда рабочих плохо кормят, а также творчески дополнить иным образом: «Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходима кара вплоть до тюремного заключения».
Недаром это выступление Ленина впервые было опубликовано в 1940 году, когда в СССР были введены похожие законы, одним из которых стал указ «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство». Как показывают документы Российского государственного военного архива, за несколько месяцев до IX съезда РКП (б) командующий Южным фронтом Александр Егоров издал похожее распоряжение, подписанное также и членом военного совета этого фронта Сталиным, о мерах по борьбе с воровством и порчей оборудования вагонов, осуществляющих воинские перевозки: «Все лица военного ведомства, а равно и агенты наркомата путей сообщения и служащие железнодорожной милиции за неисполнение и нарушение означенной инструкции, а также уличённые в хищении или порче вещей и других воинских приспособлений, подлежат ответственности вплоть до высшей меры наказания…» Очевидно, что этот карательный документ стал для Сталина определённым опытом: среди прочего, он расстрелял своего бывшего сослуживца Егорова двадцать лет спустя, в его профессиональный праздник – 23 февраля 1939 года.
В пошаговой милитаризации труда Сталин принял непосредственное участие ещё до IX съезда, причём в ключевом для большевиков регионе – Донбассе, который тогда называли «всероссийской кочегаркой». В частности, 21 января 1920 года Совнарком РСФСР принял постановление о создании одной из трудовых армий:
«1. В районе Юго-Западного фронта (Украина) создаётся Укрсовтрударм.
2. Задачи Укрсовтрударма – максимальное усиление добычи продовольствия, топлива, сырья, установление трудовой дисциплины в предприятиях, снабжение предприятий рабочей силой.
3. В распоряжение Укрсовтрударма передаются воинские части, резервные или из запасных частей фронта (смотря по условиям), в размере не менее армии, каковые части используются в качестве рабочей силы или в качестве орудия принуждения, смотря по обстановке. <…>
5. Во главе Укрсовтрударма назначается особоуполномоченный Совета Обороны на правах председателя, член Совета Обороны, тов. Сталин».
На начальном этапе своего существования Укрсовтрударм был хозяйственным центром УССР и органом милитаризации экономики с широкими полномочиями. В дальнейшем его деятельность ограничивалась преимущественно Украинской трудовой армией, где служило свыше 20 тысяч бойцов, вооружённых не только винтовками, но также ломами, кирками и лопатами.
Через неделю Сталин издал распоряжение о снабжении донецких рабочих продовольствием, где писал, сколько фунтов муки выдавать забойщикам, сколько – подземным рабочим, сколько – пролетариям, трудящимся на поверхности, как распределять сахар, сало, селёдку, овощи, спички, мыло и махорку… К таблице выдачи продуктов сделано важное примечание: «В деле распределения жиров и мяса в первую очередь удовлетворять забойщиков». Также в этом документе слышны отголоски ревностной межведомственной борьбы разных советских учреждений:
«11. Единственным распределительным аппаратом продовольственных продуктов и предметом первой необходимости между рабочими и членами их семейств в Донецком бассейне должен быть Союздонбассейн.
12. В отношении распределения Союздонбассейн подчинить всем указаниям и распоряжениям Продонбасса.
13. На все продовольственные продукты и предметы первой необходимости Опродкомюгзапу установить отпускные твёрдые цены».
Ну и, конечно, не забывал Иосиф Виссарионович об упреждающем устрашении: «Примечание: Отпуск рабочим и членам их семейств продуктов и предметов первой необходимости по ценам выше твёрдых будет караться по всей строгости законов военного времени». Не лишним будет упомянуть, что под этим и предыдущим документом стоит также подпись члена совета этой трудовой армии Власа Чубаря, которого Сталин расстрелял в 1939 году.
В годы военного коммунизма пролетарии становились в прямом смысле слова солдатами революции даже в отношении внешнего вида. В марте 1920 года Сталин издал постановление «О снабжении рабочих Донбасса обмундированием»: «1. Из запасов обмундирования, имеющихся в распоряжении Чусоснабарма, передать для рабочих Донбасса: обуви 7000 п., шинелей 8000 п., рубах и гимнастёрок 1000 п., шаровар 3000 п., рубах нательных 2000 п., кальсон 2000 п., лаптей 35000 пар.
2. Поручить Чусоснабарму дать для рабочих Донбасса в течение трёх месяцев: в марте 20000 пар, в апреле 30000 пар, в мае 30000 пар комплектов обмундирования, включая обувь.
3. Находящиеся в Луганске и Таганроге мастерские Воензага приспособить преимущественно для обслуживания Донбасса и предложить Чусоснабарму в течение 10 дней выяснить и доложить, какое количество обмундирования и обуви может быть изготовляемо в названных мастерских.
4. Все наряды на мануфактуру и др. материалы для пошивки обмундирования, адресованные в адрес Донбасса, передать в распоряжение Чусоснабарма, за исключением того, что может пойти на удовлетворение нужд семейств рабочих Донбасса.
5. Потребовать из центра вне всякой очереди наряд для Донбасса на необходимые материалы, согласно прилагаемой ведомости.
6. Предложить Главтекстилю предписать Орловскому губтекстилю не задерживать отпуска верёвки для изготовления чуни.
7. Аппарат Главугля по распределению обмундирования построить по типу военному и ввести туда представителей Чусоснабарма».
Пространное цитирование этих материалов необходимо, чтобы показать деспотизм на бытовом уровне – лидеры огромной страны не гнушались заглядывать в рот разным «категориям» подданных, определять их наряды. Вспомним, что Сталин в 1920 году являлся, помимо прочего, членом Политбюро, Реввоенсовета Республики, а также правительства, где возглавлял наркомнац.
Так или иначе, как показывает исследование киевского историка Ивана Кудинова, весной Сталину удалось добиться небольшого роста добычи угля.
При этом документы Центрального государственного архива общественных объединений Украины показывают, что положение в подчинённой Джугашвили трудармии было далеко от образцового. Например, 14 июля 1920 года комиссар 2‑й бригады этого воинства послал в информационный отдел политотдела Юго-западного фронта трёхдневную политсводку, где коснулся морального состояния строителей коммунизма: «III. Боеспособность. 1‑й отдельный батальон вовсе не имеет оружия. 9 полк в периоде формирования и многие не обучены строю. Боевой дух: часто поступают многочисленные просьбы для отправки на фронт (вероятно, в надежде, что там лучше кормят или можно разжиться едой самому). В отдельном батальоне боевой дух слабый. В остальных частях удовлетворительно. IV: Политсознание: …К вопросу организации армии труда в 1 отдельном батальоне трудармейцы полагают, что они дома сделали бы больше пользы… VI: Комсостав: …Поведение среднее, были случаи дезертирства, в 1 отд[ельном] батальоне бежал взводный командир и в 9 полку то же самое. VII. Политсостав: …Был случай, в 8 полку за пьянство исключён из партии и предан тов[арищескому] суду тов. Ермаков… VIII. Поведение трудармейцев. Был случай в 9 полку – 6 трудармейцев отказывались идти на работу, но приняты меры, и попытка была пресечена. Самовольные отлучки наблюдаются в 9 полку среди уроженцев Харьковской губернии».
Не удивительно, что солдаты хотели до хаты или же в самоволку – вероятно, в поисках пропитания, ибо Х пункт этого документа описывает полуголодное прозябание невольных борцов за светлое будущее: «Недочёты орудиями производства ощущаются в больших размерах, требуется 5 кузнец (так в тексте, вероятно, «кузен»), 30 кипятильников, 18 кухонь, 150 комплектов упряжи, 450 лошадей… В 9 полку нет санитарных повозок. В отношении обмундирования дело обстоит очень плохо, в особенности в 9 п[олку] и 7 полку. Нам отпускают лапти, но у нас есть эскадрон кавалерии, котор[ую] в лапти обувать нельзя.
…[в] 9 полку многим красноармейцам не выдано деньги по аттестатам за 2 месяца.
Продовольствие плохое, приготовляют один обед из круп, мясо дают очень редко. Но 9 полк получил мясо, совершенно не пригодное для употребления, и пришлось вернуть обратно. 1 отд[ельный] батальон работает на паровозостроительном заводе, где раньше получали хлеб, но теперь выдачу почему-то прекратили, и среди трудармейцев идёт ропот по этому вопросу».
От подобного процветания распространялись заразы, ведь и марксистское совместное потребление прочно вошло в быт: «Гигиенические условия очень скверные в 9 полку за отсутствием котёл[ков], т. к. приходится есть из баков на 10 человек и больше. А также отсутст[вует] постельная принадлежность, и трудармейцы спят на голых нарах. Убор[ные] не в порядке точно также и в 1 отдельном батальоне. Заболеваемость в [боль]ших размерах выражается в 9 полку – ежедневно отправляются в околодок [неразборчиво. – «до»?] 50 человек, и в госпиталь по 2–3 чел. Род заболеваний в отдельном батальоне – много случаев дизентерии… Недостаток медперсонала…» Отметим, что служба доводила до ручки призывников – молодых здоровых мужчин.
Читаем далее: «Жилищные условия слишком плохи в 9 полку и 1 отдельном батальоне по случаю тесного расквартирования и отсутствия постельной принадлежности. За отсутствием белья в 9 полку в баню ходят редко».
Похожую картину дают сообщения о состоянии всей сталинской Украинской трудовой армии, в частности, сводка её политотдела за № 10 от 6 июня 1920 года: «1 бригада. <…> Последние пополнение в количестве 331 человека совершенно не обмундированы… В бригаде острый недостаток в обуви и в обмундировании. 2 бригада. Снабжение продовольствием плохое. Острый недостаток обуви и обмундирования». Аналогичная сводка за 29 июня – 2 июля описывает трудармейцев Донбасса оборванцами и голодранцами: «2 бригада. <…> Снабжения продовольствием плохое.
Хлеб получают 1½ фунта, обед часто непригодный к употреблению. Острый недостаток обмундирования. У большинства обмундирование в негодном состоянии, много босых». Благо, что стояло лето.
Политсводка по Уксовтрудармии № 11 от 10 июля 1920 года: «Снабжение неудовлетворительное. <…> В связи с отсутствием обмундирования и неразрешения отпусков участились случаи дезертирства».
Сильно ли отличаются эти условия жизни от будней зэков в ГУЛАГе 1930‑х годов? Важно то, что даже при таком положении мобилизованных эти документы не отмечают какой-то массовой политической нелояльности или крамолы солдат трудового фронта.
Однако поражение в войне с Польшей, всё усиливающаяся продразвёрстка и перебои с едой и снабжением в конце концов заставили население предъявить счёт властям. Из-за массовых крестьянских восстаний – Антоновского, Западносибирского, десятков украинских атаманов, Кронштадтского порыва к свободе – большевики вынуждены были отказаться от военного коммунизма и ввести НЭП – полурынок. Тем не менее для миллионов земледельцев эта мера фатально запоздала – начался страшный голод 1921–1922 годов.
При этом у тех селян, кто погибал или болел от недоедания, уже не было сил на сопротивление большевикам. А остальная страна их терпела, поскольку начала потихоньку штопать одежду, латать обувь, лечиться от сыпняка и цинги, отъедаться, ремонтировать обветшалые коммуналки и хаты.
Но и НЭП представлял собой народное хозяйство, насквозь прошитое госслужащими, что позволяло в любой момент вернуться к сверхмилитаризации. Между основными субъектами товарно-денежных отношений большевики «вставили» красных чинуш, не только проверявших, но и утверждавших каждую важную сделку или договор. Не случайно именно к этому периоду относится бесчисленная сатира против бюрократизации – от «Прозаседавшихся» Маяковского (1922) до «Волокиты» Зощенко (1927). Тоталитаризм не стал обычной диктатурой, то есть не ушёл, хотя и немного сдал позиции. Левиафан, утратив часть управления, оставил над экономикой полный контроль, который можно было легко превратить обратно в прямое управление в ручном режиме, что власть и сделала в 1928–1932 годах.
Таким образом, 1917–1921 годы стали для Сталина не только временем ползучего движения к власти, но и дали ему опыт, который он впоследствии, обдумав, с небольшими изменениями воплотил в жизнь. Реквизиции хлеба, которые он выполнил по поручению Ленина на Юге России в 1918 году, он начал в ходе коллективизации и не закончил до самого конца своей жизни, отлично зная, что это может привести к миллионам жертв от голода. При этом в городах вождь вновь вернул карточки на еду, отменяя их в годы лёгкого откручивания гаек в середине 1930‑х и конце 1940‑х. Массовый террор, в котором Коба принял непосредственное участие в Царицыне, он возобновил уже десять лет спустя и постепенно перенёс в масштабы всей страны. Война как повседневность стала неотъемлемой чертой сталинизма даже на бытовом уровне – надев армейские сапоги в год Великого Октября, он не снимал их до самой смерти, попеременно примеряя разные виды униформы: френч, фуражку, будёновку, шинель, китель, брюки с лампасами. Трудовая армия позволила поднатореть в таком деле, как принудительный труд, к коему генсек спустя десятилетие привёл в той или иной форме всех работоспособных подданных. Сталин завершил превращение СССР в казарму рядом с номерным заводом.
Он учился на ошибках – своих собственных и огрехах однопартийцев. В 1923–1927 годах Джугашвили сплёл по всей стране железную сеть партсовактива, затем учинив то же самое, что и Ленин с Троцким, только «лучше». Если повальное огосударствление в годы Гражданской войны привело к хозяйственному краху, то в 1929–1935 годах военная промышленность росла как на дрожжах. Если в 1918–1920 годах изъятие хлеба из деревни породило бунты, от которых зашаталась большевистская власть, то волнения времён коллективизации не стали опасностью для режима. Если поражение на Западном фронте и недоедание тыла стали причиной Кронштадтского мятежа, то, истребив, посадив или сослав всех потенциальных противников своей власти, Сталин запугал всех остальных, и армия осталась покорной в 1941–1942 годах, когда в сёлах народ горбатился за трудодни, умирая от голода.
Вскоре после Х съезда РКП (б), 21 марта 1921 года, был введён продналог. Он пришёл на смену продразвёрстке как части политики «военного коммунизма», когда революционные отряды обменивали у крестьян продовольствие на промтовары, а «излишки» забирали силой. Нарком продовольствия А. Цурюпа писал: «У нас нет другого выхода, как объявить войну деревенской буржуазии, которая имеет значительные запасы хлеба даже недалеко от Москвы…»
Продналог стал первым законодательным актом новой экономической политики. Крестьяне же, однако, не забывали, что ещё 27 октября 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о земле. И его первый пункт гласил: помещичья собственность на землю отменяется без всякого выкупа и передаётся в распоряжение местных земельных комитетов и уездных Советов. Крестьяне ждали, что наконец-то станут хозяевами земли. Но всё происходило не так, как звучало на съезде и в лозунгах.
Мировая война, революция, война гражданская, интервенция нанесли крестьянству невиданный ущерб – пожалуй, как никакой другой части населения. Были разорены тысячи деревень, заброшены миллионы гектаров пашни. Повсюду в стране начинался голод. Буржуазия пыталась использовать его для подавления новой власти. А той надо было, спасая людей, спасать себя. Вот и ввели продразвёрстку. Но довольно быстро Ленин осознал, что она вызывает у крестьян ненависть к власти большевиков, и предложил ввести в рамках НЭПа продналог – часть продукции закупать по рыночным ценам. Людям стало легче, но вскоре, уже летом, грянула засуха.
По рассказам очевидцев, тогда в Уфе, например, по городу ездили волы, запряжённые в арбы. Погоняли их мужики – по два с каждой стороны арбы. Подбирали на улицах лежащих, ползающих и стонущих голодных людей, забрасывали в арбу и вывозили за город. Там сбрасывали в овраги и засыпáли землёй…
После введения НЭПа, рассказывали, будто упала манна небесная – стали появляться хорошие и дешёвые продукты. Крестьяне, исстрадавшиеся по своему делу, в ожидании обещанной передачи земли трудились не покладая рук. И опять мало чего дождались. Опасаясь реставрации капитализма, правительство довольно скоро прихлопнуло НЭП, а крестьянам оставалось жить надеждой, что землю им всё-таки дадут.
Долго не удавалось повысить урожайность зерновых в сравнении с царским временем. И всё же (без тракторов и комбайнов!) с 1922 по 1928 год сбор зерна вырос с 36 до 77 млн тонн. Поголовье крупного рогатого скота, другой живности увеличилось на треть. Сказывалось воздействие НЭПа, хотя крестьяне, работая с невероятным напряжением, жили по-прежнему бедно…
В июне 1928‑го на Пленуме ЦК ВКП (б) И. В. Сталин обосновал теорию обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Вскоре сам возглавил заготовку зерна в Сибири. Закупочная цена, которую он называл крестьянам, их не устраивала. Возмущению Сталина не было предела. Решил, что нужно силой взять хлеб у зажиточных земледельцев. Были созданы специальные тройки, их решения стали обязательны для исполнения крестьянами. Кроме того, генсек заявил, что государство не должно зависеть от мелких хозяйств, их надо укрупнять. Если кулак – зажиточный крестьянин, не хочет вступать в колхоз, имущество его – конфисковать, семью – сослать на работу в глухие районы.
Что в то время происходило в деревнях, можно судить по рассказу очевидцев:
«В отличие от семьи моей матери, где все были загнаны в колхоз и находились там до смерти “великого кормчего”, родители моего отца сумели избежать подобной доли, хотя и жили изначально в селе Романово Новосибирской области. После изменений уклада сельской жизни, вызванной революционными катаклизмами, народ стал задумываться, а как бы выжить в создавшейся ситуации. На то, что жить в ближайшее время будет “лучше и веселее”, сельский люд как-то не надеялся. Первыми признаками такого уныния стала организация комитета бедноты, в который председателем “комбеда” был избран самый-самый бедный из жителей деревни. Действительно, был он самый-самый, потому что всё пропил в своё время, и, несмотря на наличие земли, находился на грани голода, а потому ему приходилось постоянно попрошайничать. И тут ему улыбнулась удача – человек получил портфель. Пользовался этот руководитель очень дурной славой, так как даже его внешний вид многих обескураживал. Дело в том, что из-за отсутствия какой-либо запасной одежды носил этот персонаж телогрейку, которую никогда не снимал. Пуговиц на ней не было, а чтобы она не распахивалась, он зашил её снаружи нитками. В баню он не ходил, гигиену не соблюдал, и от того дух от него исходил, как от последнего бомжа, какие ещё до недавнего времени тёрлись у входа в метро на Ленинградском вокзале. Естественно, что кроме всеобщего презрения он у людей не вызывал. А тут вдруг по рекомендации партийных органов привалило ему такое счастье. И стал новоиспечённый руководитель ходить по деревне в своей фуфайке с папкой под мышкой и учить народ жить. Это был мощный сигнал местному населению, что из деревни надо валить. К тому же пошли слухи о надвигающихся колхозах, от которых сельским труженикам становилось худо.
К счастью, при отсутствии колхоза народ ещё жёстко к земле не привязывали, и дед решил вместе с семьёй уехать в город. Город не город, а прибиться удалось на каком-то полустанке, где новосёлам досталось ветхое служебное жильё, так как дед устроился работать на железной дороге путевым обходчиком. Потом было ещё одно “великое переселение”, когда дед устроился работать на шахту, где, заработав силикоз, окончательно сгубил своё здоровье. Но это уже другая история из колхозного времени».
Другие очевидцы тех событий вспоминали:
«Бедные крестьяне охотно записывались в члены колхоза. Те же, кто был побогаче, отказывались. Собрания проводили во всех сёлах. Но это не помогало. Вскоре стали действовать иначе. У меня на столе лежала разнарядка из губернии – сколько крестьян оформить в колхоз. Вызывая повесткой хозяина каждого двора, я клал на стол пистолет – на видное место. Когда человек входил, его взгляд останавливался на оружии. Слушал меня как заворожённый, кивал головой и ставил крестик в ведомости: согласен. Тех, кто отказывался, раскулачивали: отбирали имущество, семью отправляли на “сталинские стройки”».