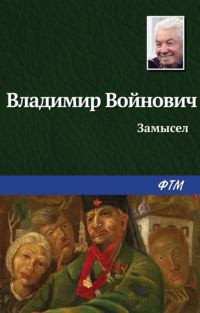Read the book: «Замысел»
В начале поставим слово, и это слово будет Бог.
Бог в религиозном, философском или любом доступном вашему пониманию смысле. Кто бы ни стоял за нашим созданием, трудно не увидеть, что каждый человек несет в себе некий Замысел, вложенный в него и составленный в виде загадки. Ключа к загадке нет, но есть разбросанные там и сям туманные намеки на то, что она существует и при некотором усилии поддается разгадке, хотя бы приблизительной.
Человек может не подозревать о вложенном в него Замысле, не думать о нем и проносить его в себе всю жизнь, как зерно в мешке, которое, не попав на мельничный жернов или в почву, так осталось и пропало в виде зерна.
Человек может верить в Замысел, но не угадать и мучить себя игрой на скрипке, не зная того, что создан для игры в городки. Или наоборот.
Эта книга многослойная, как капуста.
В ней речь:
Об авторе этих строк, который до попытки разглядеть в себе себя произрастал вегетативно, по принципу: семя брошено, дождь идет, солнце греет и что-то будет.
О том, как, заскучав в процессе роста, подумал: а что, если вдруг в нем есть задатков чуть побольше, чем в простейшем растении, – и попробовал сделать из этого выводы.
О том, как стал вглядываться в себя, искал вложенный Замысел; о том, насколько его разгадал, как пытался ему следовать и почему от него отклонялся.
О собственном общем замысле автора, о том, как он замыслил провести свою жизнь и что из этого получилось.
О замысле всего своего писания, зачем он за это взялся, что кому хотел сказать-доказать, о замысле разных книг, тем, сюжетов, образов и, наконец, об определенном замысле, воплотившемся частично в образе солдата Ивана Чонкина.
О том, как обстоятельства жизни автора влияли на возникновение и развитие замысла.
О том, как замысел, осуществленный и воплощенный, как бы материализовавшись, стал причиной многих треволнений автора и таких поворотов судьбы, которые прошлой жизнью не были ни малейшим образом предвещаемы.
И наконец о том, как новые обстоятельства жизни резко повлияли на развитие общего и частного замысла и привели к разным осязаемым результатам, включая вот эту книгу, которая называется ЗАМЫСЕЛ.
Книгу эту я буду писать предположительно всю оставшуюся жизнь, и все, что отныне будет (и кое-что, что доныне было) мною сочинено, может считаться входящим в нее. На вопрос, о чем эта книга, я отвечаю всегда: она обо всем. Меня спрашивают: а если серьезно? Я отвечаю серьезно: она обо всем. Я надеюсь, что в числе ее достоинств будут предельные искренность, откровенность и непредвзятость в описании отдельных событий и личностей. Но при этом она есть не проповедь и не исповедь, а в какой-то степени самопознание, попытка объяснить себе себя и себя другим, и других себе. В ней я собираюсь выйти на люди со всеми своими воспоминаниями, наблюдениями, переживаниями, замыслами, идеями, сюжетами, соображениями по поводу и без повода, фразами, пришедшими на ум просто так. Книга эта не вписывается ни в какой жанр: она отчасти роман, отчасти мемуары, а в общем, ни то, ни то. Части книги самостоятельны, самодостаточны и взаимозаменяемы. Ни одна из них не может считаться ни первой, ни второй, ни следующей, хотя бы потому, что они пишутся одновременно и друг друга не продолжают, но дополняют. Книга эта, если сравнить ее с водным пространством, не река с истоком и устьем, а озеро, в которое можно войти с любой стороны. Начало книги условно, вступительные главы могут быть перенесены из одной части в другую, а что касается конца, то он точно не планируется, но последнее написанное автором в этой жизни слово должно стать и последним в книге.
Поворот сюжета
Описывать жизнь писателя вне его замыслов столь же бессмысленно, сколь жизнь шахматиста без сыгранных, выигранных, проигранных и недоигранных партий. Замысел этой книги возник… Когда он возник, я, право, уже и не припомню, тут, может быть, никакого определенного момента и не было, как не бывает, наверное, момента образования облака. Но, во всяком случае, когда-то он все же возник и медленно тлел в сознании, пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах.
Автор этих строк, которого обозначим инициалами В. В., совершал очередную прогулку в пределах рощи Форст Кастен, которая начинается сразу за уже прославленным нами Штокдорфом. А сама эта роща еще ничем не прославилась, хотя говорят, и один местный житель страстно в том В. В. уверял, что именно в этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин и даже известно место, где охотник соорудил, может быть, свой первый в жизни шалаш. Теперь рощу Форст Кастен с именем вождя мирового пролетариата, ныне развенчанного, связывают только отдельные специфически подготовленные эрудиты, тысячам же баварцев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах биргартена, то есть пивной на открытом воздухе, охотно посещаемой и автором книги «Замысел».
И сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом биргартене, если бы неожиданный поворот сюжета не предопределил ей иное, более интересное завершение.
Передвигаясь в сторону указанного заведения, В. В. обдумывал план своей предстоящей поездки в Америку, где он собирался встретиться с важными людьми по важному делу, которое важными людьми могло быть подвинуто в желательном направлении. Предвкушая будущий свой разговор с важными людьми и отбирая для него наиболее убедительные аргументы, В. В. из спокойного состояния переходил в возбужденное, размахивал руками, бормотал что-то себе под нос, когда в груди у него, и не слева, а ровно посредине, возникло и стало нарастать непонятное жжение с одновременной отдачей в локти и одеревенением губ. В. В. показалось, что в него вставили кипятильник и он весь сейчас закипит.
Испытывая столь незаурядное ощущение, он прислонился спиной к ближайшей сосне, а ноги стал выдвигать вперед. Трава была скользкая после дождя, ноги поехали, спина притормаживала, и автор плавно опустился в мокрое там, где стоял. Пока он опускался, все его предыдущие планы показались ему совершенно ничтожными, люди, встречи с которыми он ожидал, не стоящими ожидания и страна Америка недостойной того, чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета. В. В. сидел на мокрой траве, упершись в нее руками, смотрел, как смещаются в странном смешении деревья, люди, собаки и облака, и, вслушиваясь в завывания недалекой сирены, сказал смущенно склонившимся к нему лицам:
– Es brennt hier.
Кажется, именно тогда, на парусиновом лежаке реанимобиля, визгливо оповещавшего о неотложности своего движения, весь этот замысел возник перед автором с такой ясностью, которая, как говорят, озаряет человека только на грани потери сознания.
Пакет, пришедший с оказией
За два дня до того пришел довольно толстый пакет, отправленный из Амстердама, видимо, кем-то из советских туристов. Содержимое обернуто плотной светло-коричневой бумагой того сорта, из которого делают мешки для цемента. Я разрезал лохматый шпагат хлебным ножом и извлек рукопись (первый экземпляр), напечатанную на тонкой полупрозрачной желтоватой бумаге. На первой странице было написано название: «ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» и в правом верхнем углу – фамилия автора: Элиза Барская.
Это было время, когда горбачевская перестройка стала проявлять себя воскресением забытых имен, голосов и лиц, телефонными звонками, неожиданными визитами и почтой, приходящей сперва кружным путем и с оказией, а потом уже и прямо с советскими марками и штемпелями. Резко возросло количество рукописей, авторы которых, похоже, еще не очень надеялись на отечественных издателей и преувеличивали возможности своего зарубежного адресата. Рукописей скопилось уже столько, что о прочтении их всех целиком не могло быть и речи. Но первые страницы я обычно читал. Полагая, что качество любой книги можно оценить по нескольким страницам, иногда даже и по одной первой.
Я налил себе чашку кофе, сел тут же на кухне за стол и стал читать рукопись, предполагая, что терпение мое иссякнет вместе с содержимым чашки…
Элиза Барская. Пробуждение
…Я просыпаюсь оттого, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется не туда…
Публикатор (то есть В. В.) считает своим долгом предупредить целомудренного читателя, что здесь и далее Элиза Барская подобно многим другим нынешним сочинителям описывает подробности своей жизни с полной или даже чрезмерной откровенностью и не желает считаться с пределами так называемой нормативной лексики. По этому поводу публикатор имел с сочинительницей некую эпистолярную дискуссию, в которой она выразила свое отношение к предмету таким образом. «Возможно, будучи испорченной прочитанными мною в больших количествах американскими романами, я с некоторых пор думаю, что в литературе никаких запретных тем, положений и выражений быть не должно, как в медицине, где никому не приходит в голову считать, что гинеколог и проктолог занимаются чем-то более неприличным, чем, допустим, дантист. Чем больше я думаю, тем меньше понимаю, почему литература должна избегать описания тех сторон жизни, которые нас больше всего волнуют, являются причиной нашего появления на свет и бывают источником наших наиболее острых переживаний. Соображения, что раньше литература обходилась без этого, меня нисколько не убеждают, раньше не было Фрейда и вообще люди не понимали, что причина их многих волнений, психических расстройств и всяческих комплексов кроется именно в той сфере, о которой не то что говорить, а и думать – фи, как дурно! Что же касается нормативов в лексике, то и тут я потеряла ориентиры, для меня каждое слово означает не больше того, что значит, и я не вижу никаких доказательств того, что, допустим, латинское слово «пенис» звучит благозвучней или приличней нашего русского эквивалента. Мне говорят, что вообще-то я права и даже ломлюсь в открытую дверь, в конце концов, можно употребить самое нецензурное слово, но только (только!) в том случае, если это диктуется художественной необходимостью. Эти глупости слышу я от самых умных людей, которым не приходит в голову, что в художественном сочинении никакое слово, даже «каша» или «погода», не следует употреблять, если нет художественной необходимости.
Все живые слова нашего языка я считаю естественными и пригодными к употреблению, а если и согласилась заменить в некоторых из них буквы точками, то только уступая твоему и всеобщему (и своему тоже) ханжеству. Хотя замена такая приводит лишь к тому, что читатель, восстанавливая пропущенное, переберет в уме не одно, а несколько слов, и иногда пойдет дальше того, что имелось в виду. Помню, что в классе шестом, читая какую-то старинную книгу, я наткнулась на место, где было сказано, что Екатерина II на балконе …….ась с гвардейцем. Я перебрала все известные мне глаголы, призвала на помощь нескольких одноклассниц и одного одноклассника, но количество букв в приходивших нам на память словах никак не совпадало с количеством проставленных точек, и только став взрослой, я случайно узнала, что данное сочинение имело в виду, что Екатерина на балконе с гвардейцем целовалась. Всего лишь. Во всяком случае, только это имел в виду автор книги».
И вот цитата из ответного письма Элизе.
«С твоими рассуждениями по данному поводу полностью солидарен, чему подтверждение ты найдешь, например, в главе «Евреи тела» и др. Я также согласен и с теми людьми, которые говорят, что ходить нагишом естественно и уж никак не более безнравственно, чем одетым, но, подчиняясь принятым в человеческой среде обычаям, я все же на улицу выйти без штанов не решусь и даже в шортах чувствую себя неуютно. Вот и на прямое и безыскусное написание слов, употребляемых всеми слоями нашего общества, я по воспитанному с детства (ты правильно заметила) ханжеству и вопреки своему убеждению решиться никак не могу, и рука сама норовит заменить их эвфемизмами или точками…
Кроме тех редких случаев, где даже точки могут противоречить художественной необходимости».
…Я просыпаюсь оттого, что он, раздвинув мне ноги коленями, сопит и тычется не туда.
Мне ужасно хочется спать и ничего больше, но, чтобы избавить себя от его неловких попыток, я протягиваю руку, помогаю ему, а затем, слегка подтянув и развернув колени, чтобы ему было удобно, расслабляюсь. Его действия не вызывают в моем организме никакого отклика, не волнуют и не особенно раздражают, мое влагалище бесчувственно, как пересохший оазис. Даже воспоминания о моем первом муже не пробуждают во мне уже ничего, я опять впадаю в дремотное состояние и думаю о чем-то, не имеющем ни малейшего отношения к происходящему.
Свет уличного фонаря сочится сквозь тюль, размазав по потолку грязную тень четырехрожковой люстры. Кстати, пора ее протереть.
За окном звуки раннего утра: дворник шуршит метлой, проехала «Скорая помощь», в булочную привезли хлеб, слышен стук ящиков, швыряемых на наклонный лоток.
Существо, нависающее надо мной, сопит, наша арабская кровать отзывается деловитым скрипом, дворник шуршит метлой, на кухне капает кран, время течет в рваном ритме, подчиняясь которому я уплываю куда-то в сторону, может быть, даже в сторону моря с запахом рыбы, водорослей и помидоров.
О чем я думаю, пересказать трудно. Пожалуй, ни о чем интересном. О том, что мне исполняется сорок лет, что с утра будет много звонков, вечером гости, а в промежутке надо будет сходить на рынок, отнести в издательство переведенную рукопись, сделать прическу и маникюр, забежать к Лариске насчет того платья, которое я у нее присмотрела, съездить в стол заказов на Кузнецком мосту, заодно выкупить в Лавке писателей очередной том Достоевского, навестить родителей и, самое главное (самое главное чуть не забыла), к пяти часам я должна быть в райкоме, где выездная комиссия, состоящая из заслуженных пенсионеров, должна утвердить мою кандидатуру на турпоездку в Англию.
О боже! А в восемь у меня уже гости. Придется позвонить Люське. Пусть придет и поможет.
Пока я обо всем этом думаю, он продолжает надо мной трудиться и делает это с достойным восхищения однообразием: упершись волосатыми руками в матрас, совершает возвратно-поступательные движения, точно так же, как потом, перед душем, будет отжиматься на полу. Вдох – задержка дыхания – выдох, вдох – задержка – выдох. А потом задергается, захрюкает, обвалится на меня всем своим волосатым и вялым телом и затихнет. И, отдохнув на мне минуту-другую, перевалится на край кровати, повернется спиной и тут же заснет, чтобы проснуться, как всегда, в четверть восьмого.
Сколько я с ним живу, не могу понять, что он за человек. Зачем он на мне женился, что обо мне думает и вообще для чего я ему? Почему он не говорит мне приятные слова, не обнимает, не ласкает, не целует? Если он меня не любит, то чем вызывается его регулярное желание? Если даже просто физическим здоровьем, то почему он делает это так скучно, не пытаясь достичь хоть какого-то разнообразия?
Я его понять не могу, но для других он тоже загадка. Он один из главных авторов и энтузиастов проекта поворота сибирских рек, за что наши патриоты готовы разорвать его на куски. Они обвиняют его в злостном намерении погубить русскую природу, которая, по их предположению, ему ненавистна, почему и пытаются вычислить в нем еврея. А он настоящий русак, вятич, Василий Гаврилович Спешнев. Да и сами его фантазии выдают в нем русского самородка с размахом. Его интересует не уничтожение русской природы, но, правду сказать, и не сохранение, а исключительно грандиозность инженерной задачи. Он с детства мечтал прорыть туннель под Ла-Маншем, перекинуть мост через Берингов пролив, растопить Антарктиду, изменить планетарный климат, а вопрос «зачем?» для него второстепенен. Хотя моему присутствию в его жизни у него, я думаю, все-таки какое-то рациональное объяснение есть. Это очень удобно иметь при себе …льную1 машину, которая к тому же умеет варить и стирать. По-моему, он даже не представляет себе, что у меня к сексу тоже может быть определенное отношение, и даже не удивляется, почему, несмотря на регулярность его усилий, я ни разу не забеременела.
Вообще никакого интереса к организму своей жены. Когда я говорю, что мне сегодня нельзя, он очень удивляется (Да? Гм!) и, отвернувшись к стене, немедленно засыпает, видимо, недовольный тем, что машина несовершенна и время от времени останавливается для профилактики.
Не могу даже представить себе, как он ко мне относится. Как бы себя повел, узнав (предположим), что я ему изменяю. Что бы сделал? Стал бы устраивать сцены, накричал, дал по морде, молча собрал бы чемоданы и ушел? Я подозреваю, что он не сделал бы ничего. Просто пропустил бы это сведение мимо ушей, а по ночам трахал бы меня, как всегда, не хуже, не лучше, не заревновав, даже не возбудившись, как это случилось с очередным Люськиным мужем по прозвищу Общий Рынок…
Встречное перетекание душ
В рукописи было письмо, которое я не сразу заметил, потому что оно оказалось вложенным в середине между страницами. В отдельном незакрытом конверте с рисунком, посвященным какой-то годовщине стахановского движения. На рисунке был сам Стаханов в шахтерской каске, с отбойным молотком на плече, на фоне чего-то зловещего. А ниже разместились точечные линии, по которым следовало четко выводить цифры индекса предприятия связи в соответствии с образцами, приводимыми на другой стороне конверта.
Из конверта был вынут двойной лист бумаги из тетради в линейку, весь исписанный смутно припоминаемым круглым некрупным почерком.
Дорогие! Прошла вечность с тех пор, как. В течение вечности несколько раз передавала вам приветы через знакомых иноземцев и прочих оказиантов, а писать не писала. Каюсь и не оправдываюсь. Но не писала не из трусости или осторожности, а по предположению, что все равно общения не может быть никакого, кроме отрывочного, спорадического, не утоляющего насущную жажду и лишь саднящего. Общение дружеское или любовное только тогда ценно, когда оно есть непрерывное встречное перетекание душ. А какое уж тут перетекание, когда пишешь на деревню дедушке, никогда не зная, дойдет ли, через какие руки пройдет и кем будет прочитано. Когда отправитель и адресат существуют в разных мирах и находятся в несовпадающих обстоятельствах и настроении. Я чувствовала, что это уже не общение, а, как говорит мой Антон, сплошная дрочиловка, и потому сколько раз бралась за письмо, столько раз и бросала. Вы уехали так далеко и так навсегда, что я вас просто оплакала, похоронила и повесила на стену вашу фотографию, где вы оба на лыжах и такие спортивные, правда, Володька уже с брюшком, которое он безуспешно пытается втянуть в себя, отчего раздувает щеки. Интересно, а как сейчас?
Сейчас у нас забрезжило и моросит эликсиром жизни. Такое ощущение, что срастается разрубленное, воскресают почти буквально вымершие организмы и усопшие человеку (читай поэта Андропова) подают голоса с того света. И затеплилась надежда, что свидимся, чему не верю, к чему всем своим чахлым сердцем стремлюсь и дрожу от страха – а не слишком ли мы за прошедшие столетия почужели?
Представить состояние нашего общества со стороны, мне кажется, невозможно. Творится что-то невероятное, чего нельзя осмыслить и объяснить. Все пришло в движение. Издают Платонова, не печатают Маркова, говорят об отмене цензуры, о многопартийной системе, об индивидуальной (слово «частная» никто произнести не решается) трудовой деятельности, моя племяшка Аленка бегает куда-то на аэробику (буржуазное разложение), на улицах появились панки и кришнаиты, молодой человек полчаса простоял на Красной площади возле ГУМа с плакатом «Я – гомосексуалист», но потом был все же побит (по Антону – отмудохан) своими высокоморальными соотечественниками.
Что же касается отношения общества к отъехавшим, то оно, увы, не то, которого вы (и я), может быть, ожидали. Диапазон от недружелюбного до враждебного. Куда ни зайдешь, везде слышишь: мы были здесь, мы терпели, мы свое пережили, выстрадали, вынесли, а они уехали, пусть там сидят и кушают свою колбасу. Меня поражает бесстыдство, с которым многие наши благоразумные умники, просидев всю жизнь под корягами, ни разу не вякнув против властей, теперь самоутверждаются и изображают свое премудрое пескарство как подвиг. Они словно сговорились и называют друг друга правдолюбцами, апостолами совести, мужественными борцами (одному, отличавшемуся всю жизнь весьма робким характером, даже премию дали за мужество). Одна из моднейших тем: диссиденты ничего не сделали. Уехавшие все уехали добровольно и, разумеется, исключительно из бытовых соображений. Теперь они понимают, что совершили ошибку, и, не видя пути назад, надеются, что наша перестройка провалится.
У нас недавно Антон по случаю своего многолетия устроил попойку, и сошлись все свои. Разговаривали тихо-мирно, пока не зашла речь о выступлении украинского партийного письменника, который где-то на какой-то капээсэсной тусовке (самое модное слово) сказал, что ничего хорошего туда (на Запад) не уехало. Тут Сигов сказал: «Ну и правильно». – «Что правильно?» – переспросил Антон. «Правильно, что ничего хорошего туда не уехало». – «Подожди, – сказал Антон, – я хотел бы уточнить. Ты тоже считаешь, что среди уехавших туда нет ни одного стоящего писателя? Так я тебя понял?» – «Не так, – сказал Сигов. – Один там есть». – «Кто? – спросил Антон. – Как его зовут?» Сигов сказал: «Солженицын». Антон вышел в коридор и, вернувшись с пальто и шапкой Сигова, сказал: «Позвольте мне как гостеприимному хозяину за вами поухаживать».
Сигов побледнел, вырвал пальто и шапку и выскочил, хлопнув дверью. Вечер был испорчен. Все стали расходиться, а я осталась помочь Антону помыть посуду. Когда все ушли, Антон выключил телефон, открутил воду (чтобы заглушить возможные микрофоны) и сказал, что на днях он встретил бывшего своего однокашника по военно-морскому училищу, тот сейчас работает в ГБ. Этот гэбэшник сказал Антону, что у них разработана полная программа постепенной перестройки в литературе и возвращения запретных имен. Сначала опубликовать тех, которые здесь, потом мертвых, которые умерли здесь, потом мертвых, которые умерли там. С мертвыми вообще возиться подольше и пошумнее. Устраивать разные церемонии. Возложение венков, открытие памятников, перезахоронения, переименования. Пусть будут звезда Пастернака, улица Ахматовой, дом-музей Цветаевой, теплоход «Михаил Булгаков» и типография имени Зощенко. В то же время следует распространять кислые мнения о живых. Надо говорить, что они мелкие люди, уехали из шкурных соображений, теперь кусают локти, оставшихся презирают и желают им зла, там ничего хорошего не написали, сюда возвращаться не собираются. Из всех оказавшихся там есть только один, один, совсем один, великий, непримиримый, неподкупный, не мелочный, не чета всем прочим, он больше всех любит свою Россию, только он один жил всегда интересами России и только он один приедет к нам не туристом, как некоторые, не гостем (он уже сказал, что домой в гости не ездят), он приедет сюда, чтобы жить здесь и умереть.
Кагэбэшник сказал Антону, что они свою прямую борьбу с Солженицыным прекратили, теперь будут подрывать его репутацию неумеренными похвалами и подрывать репутацию других, противопоставляя им Солженицына.
Услышав такое, я сразу поняла, что к чему. А то все удивлялась: как это такие разные люди – правые и левые (левые даже чаще, чем правые) – и в газетах, и по телевизору, и в ресторане, и на кухне без конца одно и то же плетут, как будто их всех инструктировали в одном кабинете. Теперь думаю, что и правда в одном. Еще думаю, что, может быть, есть инструктированные, а есть такие, кому сия точка зрения лично дорога.
Если до вас это бредятина, сварганенная на Лубянке, доходит, не огорчайтесь и не думайте, что все принимают подобные откровения за чистую монету. Хотя многие принимают.
Что же касается подательницы сих каракуль, то она, являясь существом легкомысленным, вздорным, грешным и отнюдь нисколько не героическим, одно только ставит себе в заслугу, что всегда пыталась отличить правду от того, что ею не является, и сама себе намеренно не врала. Чему доказательством могут служить…
Да, дорогие, вы правильно заподозрили, надумала и я на старости стать, прости господи, писательницей. Живя в нашем мраке и совсем ошалевши от всего свалившегося на мою голову с закрашенными сединами, решила я описать свою бабскую жизнь такой, какой она была и пока еще есть, и с первой страницы поняла, что если описывать ее в рамках, дозволенных общей цензурой, то и за дело приниматься нечего, она вся состоит из действий, явлений, мыслей и слов, ни с какой цензурой не совместимых и не передаваемых намеками, многоточиями и эвфемизмами. Насчет последнего я как раз очень сильно старалась и избегала описания некоторых положений и употребления крепких слов, но потом подумала: а как же я опишу свою жизнь и жизнь своих знакомых, если в нашем кругу писателей, ученых, переводчиков, литературоведов, людей в высшей степени интеллигентных и образованных, все без исключения и давным-давно вышли за пределы нормативной лексики? Так что, если попытаться наши разговоры изобразить средствами, допускаемыми цензурой, они превратятся в сплошное многоточие, соединяемое изредка предлогами и приставками. Я долго над этой проблемой мучилась, даже, можно сказать, извелась ею. Описание любого дня моей жизни немедленно приближало меня к тому или иному табу, через которое я по природной робости не осмеливалась переступить. Но однажды по пути в поликлинику встретила того же Антона, который вместо «здрасьте» приветствовал меня такими словами: «Что-то у тебя, старуха, сегодня такой вид, словно бы с пере…»2
Воротившись домой, я в порядке литературного упражнения попробовала записать эту фразу, заменив неприличное слово приличным. Написала несколько вариантов: «Что-то ты, старуха, словно не выспалась… словно недоспала… словно тебе чего-то недодали…» Плюнула на все и написала: «словно бы с пере…». И поняла, что так и надо. Пушкин сказал: пиши, как говоришь, – а мы все говорим именно так, да другие слова к нашей жизни и не подходят.
Так я думаю. Если, Володя, ты меня не осудишь и найдешь мою писанину достойной печатного станка, то, будь добр, поспособствуй этому под указанным псевдонимом. Он мне нравится тем, что пошловат и загадочен…