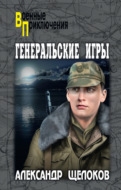Read the book: «Черный камень»
© Дружинин В.Н., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Знак синей розы
С чего же начать?.. Все неожиданно распуталось, но мне едва удается привести в порядок мои разрозненные, наспех набросанные записки. События, о которых я собираюсь рассказать, слишком значительны для меня. Кажется, они обнимают всю мою жизнь. Я часто спрашиваю себя: неужели я только два месяца назад узнал, что означает знак синей розы?
Так недавно…
Но честное слово, я понятия не имел об этом в ту летнюю ночь, когда вместе со Степаном Вихаревым вышел в разведку. Помнится, накануне я писал в Ленинград:
«Очень прошу вызвать еще раз по радио Ахмедову Антонину Павловну. Это моя жена. Я не знаю, где она находится, и очень беспокоюсь. Целый год от нее нет вестей.
Старшина Михаил Заботкин».
Профессия разведчика – опасная профессия. И все-таки я надеялся, что останусь жив и когда-нибудь разыщу Тоню. Я верил, что дождусь этой счастливой минуты. Конечно, Тоня могла и погибнуть. Она могла погибнуть еще год назад – в пути. И все-таки она точно живая стояла передо мной в землянке при свете горящего телефонного провода, когда я заклеивал смолой конверт и писал адрес радиокомитета. Я знал, что если перестану надеяться, то смерть уж наверное настигнет меня. Ведь потерять надежду – значит примириться со смертью, покориться тем, кто несет нам смерть, – этого не будет, никогда не будет!
С Тоней мы встретились в Дербенте. Это было зимой. Собственно, настоящая зима была в Ленинграде, откуда я – выпускник Института водного транспорта – приехал в командировку. В Дербенте в феврале уже весна. Я должен был осмотреть новый буксирный пароход и сделать на нем испытательный рейс. Тоня работала в порту. Я зашел в диспетчерскую, а Тоня сидела у окна за счетами. Я сразу и не заметил ее. Она – тоненькая, светловолосая, в шелковой лимонно-желтой кофточке – вся точно растворилась в солнечном луче, светившем в окно. Она вышла из луча и сказала: «Ваш на пятом причале». Тут я ее и увидел. У меня много фотографий, но они все не похожи. Примусь мечтать – представляется одна какая-нибудь черточка: блеск ее улыбки, всегда такой быстрой, внезапной, или прядь волос, свешивающаяся на нахмуренный лоб. Прекрасно вижу ее манеру морщить переносицу. Это у нее – знак иронии. Странно: цельный портрет как-то не получается. Но я не упомянул об одной очень важной детали: у Тони на руке, повыше запястья, татуировка – синяя роза.
Тоня говорила мне:
– Не бойся, Мишка, я никогда не потеряюсь. Я ведь с отметиной.
Я спрашивал:
– Откуда это у тебя?
– В школе баловалась. Дура была, – отвечала Тоня. – Как-нибудь расскажу.
Так и не рассказала.
В начале войны я вернулся в Ленинград. Тоня осталась в Дербенте с больной матерью.
В июле тысяча девятьсот сорок второго года мать умерла. Тоня дала телеграмму: «Выезжаю». Я был уже на передовой. Телеграмму мне переслали из порта. Тоня знала, что я пошел воевать. Она знала, что творилось тогда в Ленинграде. Для чего нужно было ехать? Но отговаривать Тоню бесполезно. У нее появляется в глазах такой диковатый неласковый огонек. Глаза у нее дедовские. Дед Тони со стороны матери был отчаянный дагестанский джигит, а отец – русский офицер.
После той телеграммы с одним коротким словом я ничего не знал о Тоне. Я писал в Дербент ее тетке, но не получил ответа. Я не знал, что произошло. Немцы жестоко бомбили Волховстрой, бомбили Ладогу, засыпали снарядами Ленинград. Но я верю, что Тоня жива… Может быть, она разлюбила? Нет. Я верю в Тоню…
Итак, мы пошли в разведку – я и старшина Степан Вихарев.
Заботкин – разведчик?
Тот, кто меня знает, улыбнется, прочитав это. Ничего не поделаешь, я решил действовать наперекор своей натуре. Я не так ловок, как Вихарев, стреляю хуже его, неважно ориентируюсь на суше, особенно в лесу, и, наконец, я нескор на догадку. Вихарев называет меня бомбой замедленного действия, а в боевой обстановке сокращенно – бомбой. Три рапорта пришлось мне подать, прежде чем меня зачислили в разведывательную роту. Представьте себе передний край у Пушкинского парка: землянка, возня голодных крыс между бревнами наката, долгая борьба на измор, на выдержку – страшно неподвижная и страшно жестокая. Немецкие самолеты пикируют на пригород, а у нас осыпается земля, и крысы перестают возиться. Ничто не отделяло землянку, пирамиду винтовок, шеренгу котелков на полке, запыленное письмо на подоконнике, адресованное товарищу, которого нет в живых, от города. От города, где, быть может, Тоня. Траншея была продолжением городской улицы. Тоне тяжелее, чем мне. Было какое-то чувство вины, или стыда, или невыполненного долга – точно не скажу. Меня обуяла неистребимая жажда действия. Я вообще человек спокойный. И вот наперекор моим привычкам, моей медлительности я стал разведчиком. Правда, это произошло уже тогда, когда фронт далеко отодвинулся от Ленинграда в Прибалтику. На мое зачисление повлияли два обстоятельства: умею обращаться с радиоаппаратурой и немного знаю немецкий язык. Последнее особенно действует на Вихарева.
– Бомба, – говорил он, – ты не обижайся на меня. Ты голова.
На него я не обижаюсь. Скорее – на себя. Мне никогда не быть таким разведчиком, как Вихарев. Это красивый, ладно скроенный парень, года на три моложе меня. Перед войной он учился в Институте киноинженеров. Учился неважно, предпочитал книгам футбольное поле. Он уверял – без особенной досады, впрочем, – что, если бы не война, он вышел бы в мастера спорта. Постоянно слетают с его губ разные фут-пуш-баскетбольные и боксерские словечки, так что мне приходится переспрашивать. Кончики бровей у него самоуверенно лезут вверх. Вообще он парень неплохой, но самоуверенность портит его.
То, что он самоуверен, – это факт. Он никогда не советуется со мной. Даже для вида…
В ту ночь я шел позади Вихарева и нес рацию. Конечно, я не умею ходить так, как он. Валежник у меня под ногами трещит громче, я проваливаюсь в какие-то норы, натыкаюсь на острые пни, вылезающие из темноты.
Осталась позади нейтральная полоса, где мины ждут, чтобы на них наступили, болото, где мины таятся в мокрых кочках и висят на маленьких сосенках-уродцах. Мы углубились в лес. Я повесил автомат на шею и шел, защищая лицо ладонями. Временами по лесу пробегала тихая молния, вырезывался громадный папоротник или непомерно толстый ствол дерева. За вспышкой следовал глухой, далекий взрыв, уходивший глубоко в землю где-то позади нас.
На вспышки мы и держали курс. Мы спешили туда. Воротник пропитался потом и стал точно крахмальный.
Стреляла «квакша».
Так прозвали сверхтяжелую немецкую пушку, которая вот уже с неделю тревожила наши тылы. Ни летчики, ни звукометристы не могли точно засечь «квакшу»: поговаривали, что на ней установлены какие-то усовершенствованные звукопоглощающие приборы. Известно было одно: «квакша» стоит в районе разрушенной усадьбы, километрах в двенадцати от переднего края немцев и в четырех – от второй, запасной линии обороны, возведенной ими совсем недавно. Мы имели сведения, что линия закончена, что просека, вдоль которой она проложена, безлюдна.
И вдруг…
На просеке – на той самой немецкой просеке, к которой мы приближались, – зазвенел топор. Мы залегли, и я, как водится, угодил носом в крапиву. Мы чертовски близко… Степан сразу определил на слух, что немец очищает ветки. Я же ничего не мог определить и ощупывал гранаты в карманах. А немец срубал ветки, и топор у него звенел чистым серебром. Колокол – не топор. Мы вслушивались. Вихарев шептал:
– Со страшной силой.
– Что – «со страшной силой»? – прошептал я.
Он притих и стал жевать травинку. На окутанной туманом просеке – справа и слева – стучали другие топоры. Далеко справа и далеко слева. А туман уходил. Я проклинал его за то, что он уходит как раз в такую минуту.
Ясно, о чем думает Вихарев, жуя травинку. Немцы рубят ветки для маскировки своих новых огневых точек. Они почуяли, что мы готовимся возобновить наше наступление, и торопятся. Обойти просеку невозможно – проканителишься до следующей ночи. Нам всего две ночи отпущено на поиски «квакши» и на передачу ее координат. Выход один – прорываться.
Степан сделал знак, и мы поползли дальше. Теперь мы достигли опушки просеки.
Немец перестал рубить. Топор со смачным хрустом вонзился в пень. Невидимый немец закричал:
– Курт!
Никто не ответил.
Тут я совершил неосторожность. Подо мной с треском сломалась вершина сваленной рябины.
– Это ты, Курт? – крикнул немец.
Он направился, судя по голосу, в нашу сторону. Голос у него хриплый, простуженный. Я почему-то решил, что немец низенький, толстый.
Туман в это мгновение разорвался. Вернее, немец показался из тумана. Он был невысокий, но не толстый. Немец шел и звал:
– Курт!
Степан вскочил, словно подброшенный пружиной. Я лежал. Я еще не мог сообразить, что происходит. Степан схватил охапку веток и, держа ее перед собой, так что она наполовину закрывала его, пошел на немца. Тот, как ни в чем не бывало, шагал навстречу. Он, видно, был уверен, что перед ним Курт. Вихарев подошел почти вплотную, отшвырнул охапку и, замахнувшись ножом, кинулся.
Немец увернулся и, нагнувшись, схватил Вихарева за ноги.
Они покатились.
Немец визгливо звал Курта. Крик оборвался. Вихарев подмял врага, занес нож и опустил. Больше я ничего не видел. Все поглотила темнота. Тяжелая, тупая, вошедшая в самый мозг темнота.
Потом я все узнал от Вихарева. Курт появился. Он ударил меня прикладом по голове, и я упал, потеряв сознание. Разбежавшись, Курт хотел ударить Вихарева. Тот отпрыгнул в сторону и двинул Курта ногой в спину. Немец растянулся, выронил карабин, потянулся к нему, но Степан опередил его, крепко наступил на карабин и всадил Курту нож между лопаток. Спрятав трупы, Вихарев осмотрел меня, убедился, что я всего-навсего оглушен, взвалил на плечи вместе с рацией и понес. Я и очнулся на плечах у Степана. Очнулся нервным рывком, так что он пошатнулся и чуть не уронил меня. Одним словом, Вихарев изрядно со мной повозился. Голова у меня первое время кружилась, держался я нетвердо, как маленький. Счастье, что немцы, работавшие на просеке поодаль, не заметили нас.
Солнечным утром мы достигли района разрушенной усадьбы и здесь, среди ивняка, на берегу речонки с трудным эстонским названием, встали на бивуак до темноты.
– Ну и раздобрел ты, бомба, – безжалостно сказал Вихарев. – Пудов на шесть.
Я молчал.
Конечно, не выйдет из меня такой разведчик, как Степан. Живо представлялся разговор в роте. «Слыхали, – скажет один, – как Заботкин ходил на “квакшу”?» А другой ответит: «Это тот, что прошлый раз языка привел?» – «Ну да, – скажет первый, – так ведь он и тогда с Вихаревым ходил. Он солдат несамостоятельный». Скажет и бросит ложку в пустой котелок. Разволновавшись, я захотел есть. Это еще одна моя дурацкая особенность. Я полез в мешок за свиной тушенкой.
Вихарев сказал:
– Не вытаскивай банку на солнце. Блестит ведь со страшной силой.
– Знаю, – ответил я.
Когда я очистил с помощью финки половину банки, я несколько примирился со своей участью, а Вихареву мне захотелось сделать что-нибудь приятное. Он же спас мне жизнь. Я протянул ему свой кисет – один из тех, что вышила мне Тоня, – и взял из его пальцев помятую коробку из-под монпансье, служившую портсигаром.
– Поменялись, – объявил я. – Мою фамилию можешь спороть, если хочешь.
Но он не спорол мою фамилию, выведенную по темному бархату нитками медно-красного цвета. Если бы он это сделал – многое пошло бы по-другому…
Первое открытие, которое нам удалось сделать, было то, что «разрушенная» усадьба вовсе не разрушена. Стоило немного проползти кустами до берега, чтобы увидеть это. На слепящем солнцепеке мирно колыхалось маскировочное полотно, а на нем – выведенные кистью обломки стены, рухнувший карниз, придавивший сброшенную колоннаду, провал окна. В просвете между полотнами нагло белела штукатурка настоящей стены. Даже ржавая водосточная труба, внушавшая мне доверие сначала, внезапно наморщилась и в одном месте вздулась. Ловко! Что же прячут немцы в этих бутафорских руинах? Не «квакшу» ли? Но Вихарев, попыхивавший трубкой, процедил, что машина со снарядами прошла мимо усадьбы в парк. Я прервал его на полуслове:
– Так тут штаб «квакши».
Я тотчас уверовал в свою догадку и начал тормошить Вихарева – вот бы запустить рацию да передать: нашли штаб.
Степан, не вынимая изо рта трубки, спрашивал:
– У тебя голова не болит?
Понятно, что он имел в виду. Нечего тратить аккумуляторы, поднимать шум, пока не разобрались как следует. Это верно. Но мне хотелось выполнить что-то своими силами.
Случай представился.
Чтобы попасть на ту сторону речонки, надо спуститься с одного крутого откоса и вскарабкаться на другой. Гибкие чуткие кустики ивняка и боярышника одевают овраг. Малейшее движение может выдать. Решили так: одному заняться «квакшей», которая, быть может, скрывается в парке, другому – усадьбой. Я высказал это соображение вслух, старательно подбирая доводы. Сейчас Вихарев опять спросит – не болит ли голова. Нет, он выслушал на этот раз серьезно и кивнул:
– Я заберу рацию.
– Почему?
– Ты сегодня слабоват, Бомба. Бледный. Нет, я заберу рацию.
Искать «квакшу» и радировать координаты, конечно, хотелось мне.
Но попробуйте спорить с Вихаревым!
Разделились мы, когда перешли вброд холодный, стеклянно-дребезжащий поток мутно-желтой воды. Уже стемнело. Вихарев двинулся вдоль берега по направлению к парку, а я уцепился за корень и подтянулся на руках. Немецкие часовые, вышагивающие наверху, не могли меня слышать: шум воды отлично помогал мне.
Добраться бы поскорее до гребня. А дальше? Дальше – притаиться, поймать ухом поступь часовых. Одна пара немцев обходит усадьбу по часовой стрелке, другая – против. Это мы заметили еще днем из нашего убежища. К счастью, усадьба стоит в саду и проскользнуть, улучив удобный момент, из прибрежных кустов под сень молодых садовых вишен не составит труда. Но на войне все получается не совсем так, как предполагаешь. Метрах в десяти от воды моя рука, нащупывавшая опору, наткнулась на камень. Я взгромоздился на этот камень. Сел, перевел дух, поплотнее надвинул пилотку. Стало еще темнее. Листья надо мной потеряли форму, слились в темное пятно. Наверху прошелестели шаги патрульных. Трава, смоченная росой, уже скрипела. После этого только я уяснил себе, где нахожусь. Я сидел не на камне, нет, – на выступе, выложенном камнем. От выступа вела куда-то пропадавшая в чаще тропинка. Странно было еще другое: на меня пахнуло вдруг промозглым, застоявшимся холодом и плесенью, точно из подвала. Над площадкой, как стерегущий глаз, зияло отверстие. Это еще что за новость? Я встал, чтобы обследовать отверстие, и коснулся гладкой поверхности булыжника. Один булыжник, другой… Целая кладка, загораживающая небольшой, в половину человеческого роста, арочный вход.
Стенка поросла сочной молоденькой зеленью. Из-под свода арки один булыжник выпал, оттого и появилась поразившая меня амбразура.
От легкого нажатия соседний булыжник свалился внутрь. Я вздрогнул, но камень упал на что-то мягкое. Можно пролезть внутрь. Нужно пролезть! Никакая сила не заставила бы меня отказаться. «Подземный ход ведет, разумеется, под усадьбу, под самый штаб немецких артиллеристов», – рассуждал я. Втиснувшись, я на всякий случай заложил проем изнутри тем же булыжником и зажег фонарь. Луч света лег на глинистый пол, на стены, подпертые ветхими досками. Все точно слеплено из пыли и праха и вот-вот разлетится, если дунешь. А потолок навис тяжелый, неровный, готовый обрушиться. Его тяжесть болью отдалась в висках. Сверкнул вделанный в стену полированный гранит. На нем надпись:
ЛЮДВИГ фон КНОРРЕ
скончался 21 мая 1852 г.
Мрачное местечко выбрал этот фон Кнорре для своих костей. Фон Кнорре. Усадьба, оказывается, баронская. Что-то шевельнулось в памяти. Слышал ведь я про какое-то баронское подземелье.
Вспомнил: слышал от Лейды. То была маленькая, румяная старушка эстонка, ютившаяся в бане, на окраине выжженного немцами городка. Она чудом сохранила корову и поила бойцов парным молоком. Старушка и упоминала о пещере в баронском имении, где крепостных травили медведями…
Фонарь осветил еще плиту:
АМАЛИЯ фон КНОРРЕ
скончалась 9 января 1848 г.
Коридор раздался вширь. Стенки облицованы бревнами, замыкают круглую комнату. Зловещий, рыжий от ржавчины крюк торчит из бревна. Привязь для медведя? А это что? Обломок обшивки или кость? Как человек, склонный к фантазии, я нисколько не удивлялся. Я постоянно ждал необычного, – вот оно явилось в виде подземелья – извилистого, неровного, ведущего к новой, неведомой главе моей жизни. Теперь я положительно убежден, что думал так.
Круглое помещение завалено землей и балками, – рухнул потолок. Шинель зацепилась за гвоздь, порвалась. Я перекатился через баррикаду. Коридор повел дальше. Теперь я, наверно, под самой усадьбой. Хрустят куски стекла. Непонятно, откуда они взялись. Потом слышу: «Тук-тук-тук…»
Я выключил фонарь. С размаху прислонился к толстой подпорке. Кто там стучит впереди? Немцы? Но здесь ни одного свежего следа. Кожа моя и ребра стали тонкими-претонкими, а сердце гулко колотилось.
Снова вслушиваюсь… Никто не стучит. Это вода. Вода каплет. Осторожно, не зажигая света, я подкрался и подставил ладонь под капли. Вода. В это время над головой заскрипело, зашаркало. Прошел кто-то. Хлестнула долгая, визгливая рулада – кто-то резко и злобно провел по клавишам рояля.
Коридор все поворачивал вправо. Вдали, точно раскаленный железный брус, преграждавший дорогу, висел тонкий луч. Он пропал в кромешной тьме. Опять засиял.
Несколько раз этот луч то мерк, то рождался. А наверху щелчком закрылась крышка рояля, стонали половицы. Впрочем, теперь уже трудно было различить, что тут чудится и что есть на самом деле. Но луч, луч! Я отдышался, с усилием привел в порядок мысли. Нет, не выйдет из меня разведчик, пока не научусь рассуждать хладнокровно. Просто же… Тьфу, просто, как дважды два. В стене дырка. За стеной, верно, освещенная комната и там люди размахивают руками, – вот почему этот проклятый луч такой суматошный.
Мягко ступая на всю подошву, я пересек луч. Пересек и испугался, – точно те, в соседнем подвальном помещении, могли меня заметить.
Судя по голосам, их двое. Но скоро один замолчал или ушел. Остался другой. Только толщина стены и отделяла меня от него. Там что-то свистело и шипело. Стена глушила, искажала звуки, поэтому я не сразу сообразил, что немец сидит за радиостанцией. И точно для того, чтобы устранить мои сомнения, немец заговорил:
– Я Штеттин.
Аппарат пискнул.
– Я Штеттин, – сонно долбил немец. – Я Штеттин. Плохо вас слышу.
Свистнуло.
– Я Штеттин.
«Открытым текстом передают. Вот сволочи!..»
– Отто! – крикнул радист.
Он заговорил с подошедшим Отто. Немецкий язык я знаю далеко не в совершенстве. Нахватался у матросов, когда плавал на лесовозе. Подслушать бы прямо через дырку, из которой выбивается свет, но она высоко. С трудом вылавливая знакомые слова, я выяснил, что радисту не удается связаться с кем-то и он сетует на помехи. После этого к аппарату сел Отто. Аппарат верещал, улюлюкал. Временами в этот хаос влетала очередь морзянки.
– Черт тебя возьми! – заорал Отто… – Не видишь… Под носом русский.
– Чушь. – И первый радист прибавил мощность. – Это… Это… История… – растерянно пробормотал он. – Отто, он же нашел пушку. Где майор? Он же нашел пушку!
Я чуть не привскочил. Вихарев там. Вихарев! Какой же еще русский? Степа, милый, нашел. Работает, передает координаты. Со страшной силой. Хорошо. Действуй, Степа, действуй! Торопиться мне, значит, нечего. Можно продолжать наблюдение. Вихарев нашел пушку, а я – штаб. Здесь радиостанция, здесь майор, – должно быть, самый главный у них. На миг я забыл про немцев за стеной. Они препирались, кому будить майора. Препирались сердитой скороговоркой. Я уразумел только, что Отто боится, как бы майор и радистов не поднял на поиски русского. Это я принял почти равнодушно: Вихарев не попадется. Я так преклонялся перед боевыми качествами своего товарища, что видел его всегда и во всем победителем. Глупая беспечность. Правда, здесь я не ошибся, но…
Однако не буду забегать вперед. В конце концов майора разбудили и привели к рации. Оба радиста совали майору наушники. Я кусал ногти от нетерпения, а майор молчал. Очухавшись, он пробасил:
– Ф-ферфлюхте…
– Слышите, господин майор?
– Лаушер!
– В вашем распоряжении.
– Вы – кандидат в офицеры, займитесь… Обшарьте берег. Нет, лейтенанта на берег, вы еще утонете. Берите троих и проверьте… Что вы на меня вылупились, как кролик на волка, черт вас дери! Проверьте подземелье. Кое-как заложили там…
Точно ветром отнесло меня от стены. Скорее вон отсюда – к выходу! По крайней мере я встречу там немцев, подстерегу их там, у входа, за камнями. Это решение всплыло в сознании само по себе, всплыло, когда я уже оставил позади баррикаду в круглом зале.
В темноте я ухнул в неведомую яму и шлепнулся во что-то липкое, оказавшееся на ощупь глиной. Не помню, ушибся я или нет. Я только подумал с безотчетным, нарастающим страхом, что здесь яма, а я не видел никакой ямы… Фонарь озарил шероховатые стены без подпорок. Этого еще не хватало!
Я заблудился.
А наверху, очень высоко, по комнатам старой баронской усадьбы, разливалось жалобное, зовущее, смертельным ужасом пронизанное пение сирены.
Тревога!
После падения я не мог вспомнить, в каком направлении шел, но наконец отыскал свои следы на исчерченном ручейками полу. Обратно, скорей обратно – к круглому залу. Из него должен быть еще выход. Я захлебнулся от радости, когда свет фонаря упал на баррикаду. Где же другой ход? Я обомлел. Передо мной, точно насмехаясь, зияли на малом расстоянии друг от друга два входа.
Секунды три-четыре я постоял и успел перечувствовать много горького. И если бы эту горечь выразить связной речью, то получилось бы вот что: дурак, Заботкин, редкий дурак, никогда не будешь ты настоящим разведчиком. Элементарную предосторожность упустил: не оставил ни затесов, ни других опознавательных знаков.
Потом я подошел к одному из выходов и с облегчением поправил ремень автомата, – здесь вовсе не ход, а ниша, перегороженная железной решеткой. Медвежья клетка? Да, вот она. Здоровые прутья. Я ощупал их, как ни спешил.
Вскоре, погасив свет, я расположился в засаде у входа. Сирена сделала свое дело: кусты ходили ходуном, щели между камнями стали зелеными, потом пунцовыми, – значит, горят ракеты. И не осветительные, а сигнальные – немцы перепутали, должно быть. Сломалась ветка. Кто-то высморкался и сказал по-немецки:
– Здесь.
– Здесь, – отозвался еще голос.
На площадку у входа в подземелье съехал, звякнув чем-то, третий немец и сказал:
– Здесь.
Все мускулы мои напряглись. Автомат наготове. Но враги молчат.
– По-моему, – сказал один, – всё на месте.
– Нет, не совсем.
– А этот камень вроде трогали.
– Трогали?
– Хотя черт его знает.
– Господин кандидат в офицеры! Прикажете расчистить?
– Э… прикажу.
Голос кандидата зябко подрагивал. Я сжал автомат. Немец убрал два камня.
– Вот что… – замямлил Лаушер. – Я считаю, лезть туда незачем. Там никого нет. Я… вот что приказываю… Охранять это место. Допустим, он там. Хотя он, конечно, не там.
– Конечно, – одобрил кто-то.
– Ну, допустим, там. Все равно. Он высунется – мы его и… – Тут отважный кандидат в офицеры произнес непонятное словечко, означавшее, скорее всего, «сцапаем».
Тогда заговорил солдат. Со странным горловым акцентом он рассказывал о привидениях в долине, где-то в Верхней Баварии. Я очень мало понял из того, что он рассказывал. Но это, во всяком случае, кстати. Суеверные немцы уж, наверно, не решатся лезть. А я так и буду торчать, как истукан? Большой булыжник в верхнем ряду просил: «Столкни меня, столкни меня». Пихнуть его, чесануть из автомата, кубарем к реке… Глупости. На площадке появились еще немцы. Слух подсказывал, что их было трое или четверо. Донеслось:
– Покурим.
– Майор с перепою еще не то выкинет. Слонов ловить заставит. Ах, прошу прощения. Здесь, если не ошибаюсь, господин кандидат.
Я не стал дальше следить за беседой фрицев. Положение выяснилось: Вихарева не нашли, он выполнил задание, передал координаты «квакши» и скрылся. Я вернулся на прежний свой пункт наблюдения – к стене с дыркой.
За стеной разговаривали.
Радиостанция не работала, и в комнате ясно можно было различить два голоса, говоривших по-немецки, мужской и женский.
Женщина хохотала. Она хохотала задыхаясь, нервно. Она заходилась хохотом. Ножки стула процарапали по полу, женщина затопала:
– Уберите… Уберите…
Мужчина что-то объяснял шепотом – и она оборвала смех на пискливой ноте. Послышалось бульканье. Женщина, по-видимому, налила что-то. Мужчина сказал:
– Довольно.
– Последнюю, обер-лейтенант… На дорожку. А потом вы меня проводите…
– Не знаю.
Что-то ударилось, разлетелось вдребезги. Она, видимо, швырнула рюмку.
– Не надо, детка.
Она вздохнула:
– Сапоги мне велики.
– Вы проводите ее и сразу назад.
– Как я проведу ее… Не представляю. Через русскую оборону…
Я точно прилип к стене. Кого это ей надо провести?
– Сбрейте усы. Фу!.. Подайте мне сумочку. Там ножницы. Я срежу ваши противные усы.
Потом она опять круто изменила свой разухабистый тон и проговорила:
– Меня расстреляют большевики.
Тупая безнадежность в этой фразе. Расстреляют? Тут я понял. Ясно. Ясно, какая у нее дорожка, зачем на ней сапоги… Ее посылают к нам в тыл. Да не одну, а с другой шпионкой, которой надо показать дорогу. И, как назло, усатый немец шепелявит, не разжимая рта. Ни черта не понять. Отдельные слова только – шоссе, мельница. Которая мельница? Их в здешней местности тьма-тьмущая. Он еще сказал, вернее, продышал что-то вовсе не разборчивое.
– Нет, она уже пробовала, – ответила она. – Ничего не выходит.
– Пусть перевяжет.
– Идет.
– Куда идет?
– Идет – значит «хорошо».
– А!..
Что перевязать? Вы засмеетесь, но, честное слово, была минута, когда мне хотелось окликнуть их через стенку. Я не слушал, нет, – я впивался в то, что говорилось там, вбирая ухом, ладонью, прижатой к стене, коленями. Подхватил немецкое слово «моргенрот». Чего он шепчет, чего шепчет, проклятый? Дом какой-то. Похоже, что в дом надо прийти на утренней заре. Может быть, слово «моргенрот» имеет другое значение? Непослушными пальцами я извлек из кармана замусоленную книжонку и написал на обложке это самое слово – «моргенрот». Что же еще? Но я напрасно старался найти хоть намек на разгадку. Усатый задал мне еще одну головоломку. Он сказал:
– Найдете в газетах.
Словом, когда эта баба наконец ушла и я попытался подвести итог, он выглядел очень неутешительно. Дом на утренней заре, нечто напечатанное в газетах, или завернутое в газеты, или… Я с ума сходил от досады. И еще та – вторая. Что надо ей перевязать и зачем? Офицер включил радио, голос берлинского диктора забубнил: «Крайсляйтер Мариенбурга шлет привет эсэсовцу Гергарду Шнитке, эсэсовцу Бруно Шварцкаммеру, эсэсовцу…» Снедаемый досадой, я поплелся к выходу.
Дорога была еще закрыта. На площадке по-прежнему сидели солдаты вместе с кандидатом в офицеры. Придется переждать.
Я вернулся и примостился на гнилом чурбане. За стенкой было тихо.
Вдруг как тряхнет! Я свалился с чурбана, крепко стукнулся оземь, ушибся, но невольно рассмеялся.
Наши бомбят!
Сигнал Вихарева принят. Это самое главное. Мне почему-то не пришло в голову, что я могу погибнуть от нашей же советской бомбы. Такое предположение всегда кажется нелепым. И не от того острый холодок, точно струйка воды, побежал по спине. Что, если подземелье осыпалось и я погребен в нем заживо? Со всех ног я кинулся к круглой комнате. Три толчка нагнали меня. Казалось, били не сверху, а снизу. Снизу, и прямо по моим пяткам. Подземелье тряслось и гудело, в горле стало горько от пыли, поднявшейся густыми, почти непроницаемыми для света клубами. В круглой комнате ничего не изменилось. Беда ожидала меня дальше. Недалеко от выхода вал из земли и обломков дерева перегородил мне путь.
С разбегу я лег на этот вал и – в чем был, не снимая мешка, – начал лихорадочно рыть.
Фонарь, засунутый в щель стены, наводил на гнилушки, на сырую гальку маслянистый глянец. Я больно занозил ладонь, с кровью вытащил занозу и не обтер пораненное место. Было тихо, но я боялся следующего толчка. Бомбы, только что сброшенные, казались мне игрушечными по сравнению с новой, ожидаемой бомбой. Она небось уже свистит. А я тут роюсь, как крыса, и не слышу. А бомба свистит и сейчас… (я вбирал голову в плечи, но руки бешено разгребали землю, под ногтями ныло)…двинет. Мама дорогая, сейчас двинет! Полированный гранит надгробной плиты, черный мерзкий гранит, и на нем я читаю не «фон Кнорре», а «Михаил Заботкин». Чепуха. Конечно, чепуха. Тихо. Нет, врешь, жив Заботкин. Надо скорее рыть, скорее, скорее…
Все-таки тряхнуло. Тряхнуло очень слабо, – видно, наши пикировали на другую цель.
Я долго работал.
Должно быть, я пробивался часа три или четыре. Когда я, шатаясь от волнения и усталости, подошел к выходу, за камнями сверкал огромный, ослепительный день и живительно сладкое, очищающее дыхание дня лилось в пещеру.
Я прильнул к щели, жадно дыша. На площадке никого не было. В кустах тоже никого. Внизу, по самому берегу, должен каждые десять минут проходить патруль. Я прождал полчаса – патруль не появлялся. Листья настороженно шушукались. Потом я начал спрашивать себя: почему нет патруля? Глубоким, безопасным спокойствием пахнуло от реки. Я разобрал кладку, выскользнул наружу и начал спускаться. Переправился на ту сторону, оглянулся. Вокруг усадьбы было безлюдно. А сама усадьба красовалась в натуральном своем виде, без всякой бутафории. И один флигель усадьбы был по-настоящему разбит. Маскировку увезли. И «квакшу», очевидно, если ее не успели припечатать к земле наши бомбардировщики.
И в лесу было тихо, но не везде. Впереди, где раньше была линия фронта, ни выстрела. В стороне, не очень далеко, протянулась пулеметная очередь. Потом сыграла «катюша». Тысяча тонн камней сыпалась по железному лотку, – вот как она сыграла!
Невидимый край неба начал гулко проваливаться. Взрезали воздух снаряды.
Однажды я, кажется, уловил далекое, как отзвук песни, «ура».
Шло наступление.
Это, конечно, хорошо, что началось наступление. Замечательно хорошо. Мы знали, что оно не сегодня завтра начнется. За сутки до нашего похода к передовой подвезли лодки, большие просмоленные лодки для форсирования цепи озер. Лодки еще придется везти к озерам километров двадцать. Мы видели, что саперы укрепляли мосты, танки выходили на исходные рубежи. И вот наступление началось. Но в моих ушах голос наступления звучал в то же время упреком. Сведения о штабе «квакши» теперь бесполезны. А что касается шпионки – черт ее знает, как выследить ее по таким ничтожным данным. Утренняя заря. Повязка. Что-то в газетах. Зря ходил в разведку Заботкин, зря. Как я посмотрю в глаза полковнику? Он один раз сказал мне: