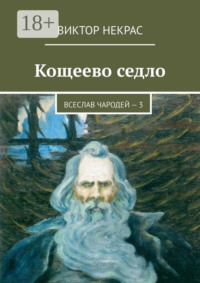Read the book: «Кощеево седло. Всеслав Чародей – 3»
ШПИОН – (неодобр.) человек, занимающийся шпионажем – негласным сбором секретной информации для противной стороны. Этимология: происходит от нем. SPION – то же от итал. SPIONE, которое основано на герм. форме, родственной нем. SPÄHEN «следить». Русск. начиная с Ф. Прокоповича, 1703 г.
ВИКИСЛОВАРЬ
© Виктор Некрас, 2020
ISBN 978-5-0051-2109-7 (т. 3)
ISBN 978-5-4498-6394-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пел ветер всё печальнее и глуше,
Навылет Время ранено, досталось и Судьбе.
Ветра и кони и тела, и души
Убитых выносили на себе.
Владимир ВЫСОЦКИЙ
Маме, которая верила, несмотря ни на что
ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ
ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Осень 1067 года
ГЛАВА ПЕРВАЯ
У РАЗБИТОГО КОРЫТА
1
В киевских яблоневых садах – красно, запах спелых яблок сводит с ума. Ночью дрогнет ветка яблони от ветра, обрушится спелое яблоко на гонтовую кровлю, звонко лопнет пополам. Убилось яблоко.
Колюта задумчиво усмехнулся. Где сейчас у него те гонтовые кровли? За много лет жизни в Плескове, а после в Киеве, бывший гридень навык к иным кровлям, камышовым да соломенным. Хотя вот и сейчас по камышу хорошо было слышно, как скатилось спелое яблоко наземь. Не забыть бы утром его подобрать – жалко, если пропадёт.
Яблоневый сад на Оболони был невестимо чей, хозяин давным-давно погинул в войне Ярослава с печенегами, но тридцати лет с его исчезновения ещё не миновало, а потому никто не отваживался наложить лапу на достояние великокняжьего воя. Так и догнивал в саду понемногу глинобитный дом, крытый камышом, служил долгими зимами приютом для калик перехожих. Навсегда же поселиться там никто не отваживался.
Впрочем, тридцать лет миновало как раз в прошлом году, – поправил себя Колюта. – Тридцать лет в одно лето – что разгрому печенегов от Ярослава, что смерти Мстиславлей, славного черниговского князя Мстислава Владимирича Лютого, что заточению его господина, Судислава Ольговича. И его холодной и голодной жизни – тоже тридцать лет миновало в прошлом году. Может быть, уже в этом году появится охотник тут поселиться, можно будет забыть про временный приют, хорошо послуживший Колюте в прошлые годы. Одно к одному, раз уж и так всё рухнуло, так и жалеть теперь про то нечего. Новое пристанище найдём. Хоть в Берестово подавайся – за время своей тайной киевской жизни Колюта уже не раз менял свои приюты, раз и в Вышгороде зимовал.
И всё-таки бывший гридень не плакался на судьбу. Судьба была ровно такой, какой он её выбрал когда-то. Не тогда, когда порешил идти служить князю Судиславу, сорок с лишним лет тому, совсем ещё мальчишкой, отроком несмышленым, только недавно наловчась держать в руках меч, щит да лук. А тогда, тридцать один год назад, после несчастливого белозёрского нятья Судислава. Тогда он мог (а не мог, Колюто, не мог!) порешить иначе. Когда очнувшись, узнал про судьбу князя и дружины, мог бы махнуть рукой, как иные из воев, а и гридней даже – мол, не так велика оказалась удача того князя Судислава, чтоб ему служить и дальше. А иные и так рассудили – не столь уж и долго кормил их князь Судислав в своём терему, чтобы служить проигранному делу.
Колюта не осуждал решивших так. Но сам он выбрал иное.
Будь живы те, кто тогда погиб… всё поворотилось бы иначе. Но всё сбылось так, как сбылось.
Вот в тот день, тридцать один год тому, Колюта мог и перерешить свою жизнь иначе. Только…
Только что это была бы за жизнь?!
Жизнь предателя?
Отступника?
Колюта дёрнул щекой и, поняв, что ему больше не заснуть, поднялся с брошенного на лавку рядна. Высек огонь. Трепещущий огонёк на светце осветил небольшое жило, колченогий стол и на нём – глубокую глиняную чашку с яблоками, висящий на стене короткий топор. Сел к столу, с хрустом откусил от яблока, задумался.
Второй раз у него была возможность всё изменить после смерти князя Судислава. Передать Всеславу Брячиславичу грамоту господина, а после… а что – после? Никакого «после» для Колюты уже не было, дальше он мог только продолжать делать то же самое.
Так и теперь.
Слух о том, что схваченного обманом полоцкого князя держат в его же терему в Берестове под неусыпной охраной, пронёсся по Киеву уже в начале зарева, с месяц тому назад. И сразу же тот слух стал постоянной головной болью для Колюты.
После того, как ускакал в Полоцк с донесением о зимнем походе Горяй, да так там и погинул без вести и навести, бывший гридень Судислава Ольговича, а ныне зажившийся в Киеве калика остался почти что один.
Что у него было?
И кто у него был?
Было у него невеликое бремя серебра, хватило бы, пожалуй, небольшую торговлю открыть, соль развозить из Киева в древлянскую сторону, а больше и ни на что.
И было у него пара знакомых в городовой страже, волхв в Вышгороде, которому самому впору таиться от великокняжьих воев, да мальчишка-холоп в Берестове, тот, что зимой рассказал ему о готовящемся походе Ярославичей на кривскую землю.
В Берестове!
Но Бус, про которого всё время помнил Колюта, служил в Берестове не в терему у Всеслава, а в великокняжьем. И что скажет мальчишка-холоп, кривич, если попробует сунуться на Всеславль двор, а приставленные стеречь страшного и драгоценного пленника вои спросят у него, что ему надо? Начнёт околесицу плести, про то что, заблудился, а то про то, что соли в долг попросить пришёл?
Нет, тут следовало всё как следует продумать. Так, как Колюта навык делать за все долгие двадцать три года служения Судиславу Ольговичу в порубе, да за четыре года служения ему же в монастыре. Да и за время службы у Всеслава, тоже уже немаленькое, никто так и не смог угадать в калике оторвиголову-гридня. Да и забыли все давным-давно про гридня Колюту за тридцать лет, а кто и знал его, так либо думает, что он умер, либо сам в могиле. Потому они с Всеславом тогда, четыре года тому, так и порешили.
Собственно, помочь Всеславу убежать не столь уж и сложно.
Нужны только люди.
Сделать подкоп. В Берестове это сделать будет трудно. Очень трудно. Берестово – село великого князя, там все друг друга знают, каждый человек на виду. Но и это преодолимо.
Бежать… а куда бежать полочанину? В Полоцк, вестимо. Это понятно, к жене и детям… детям. А полоцкие княжичи, Рогволод и Борис…
Колюта застонал, схватясь за голову, вновь утыкаясь в ту же самую беду, что и до того.
Нужно узнать, где княжичи.
Нужно вызнать, как подобраться к Всеславу, заслать к нему человека, хотя бы одного.
Нужно проложить тропу для бегства.
И самое главное, самое первое – нужно побывать там, в кривской земле, посмотреть, что там и как.
Тем более, что пришла пора исчезнуть из города, где Колюта изрядно намозолил людям глаза. За четыре года он несколько раз покидал Киев, уходил в Чернигов, Вышгород, бывал и в Переяславле. Для калики – обычное дело.
И исчезнуть лучше всего – немедленно.
Великий тысяцкий Киева, воевода Коснячок хмуро глядел исподлобья, так, словно сожрать хотел своего верного воя. Борис поднял голову, встретился взглядом с воеводой, чуть дрогнул в душе, но глаз не опустил. Не хватало ещё. Был бы виноват в чём – иное дело, а тут-то с чего?
– Ну и куда он делся? – хмуро спросил Коснячок, чуть приподымая косматую бровь. – Сорока унесла? Горяй, вестимо, блестящий вой был, да только разве ж сороке поднять такое?
Борис невольно усмехнулся, но на деле ему было вовсе не до смеха. Он всё ворочал в голове услышанное от пленных полочан, и не мог уложить погоднее, чтобы обмыслить и потом сообщить воеводе. А пока прикидывался безответным, ни в чём не виноватым. Хотя и Коснячок, надо сказать, вряд ли ему верил в том – он-то отлично знал, насколько хваткий и толковый вой Борис Микулич.
– Когда его в последний раз видели?
– Зимой, – мотнул головой Борис, уложив, наконец, мысли в голове и поняв, что и как он будет говорить Коснячку. – Здесь, в Киеве, его последний раз перед походом видели. Как рати начали собирать, так он и пропал невестимо куда.
– Здесь, в Киеве? – тут же ухватил главное тысяцкий. – А где его видели ещё?
Борис помялся, потом бухнул напрямик:
– В Менске его видели. И на Немиге. И наши видели, и полочане. У Всеслава он был. Он ему весть принёс про то, что наши Менск сожгли, он и на Немиге в его рати стоял, и в жертву себя Перуну принёс в самом начале боя.
Коснячок закашлялся, захрипел, вытаращив глаза. Разного он мог ожидать от Бориса, но вот таких слов явно не ждал. Никто бы и не подумал на Горяя такого.
– А семья его что говорит? – справясь, наконец, с кашлем, просипел тысяцкий.
– Да сирота он был, – пожал плечами Борис, и вдруг поднял глаза просветлённо. – Вспомнил!
– Что ты вспомнил?
– Я его несколько раз тут в Киеве с каликой одним видел, – торопливо сказал Борис. – Как кличут того калику, не знаю, но вот живёт он где-то на Оболони, когда в Киев приходит.
– Калика, который ходит то туда, то сюда, – задумчиво пробормотал тысяцкий. – То он в Киеве, то в Чернигове, тот в Вышгороде, то в Переяславле… пожалуй, лучшей личины и не придумать, а, Борисе?
Борис понял с полуслова.
– А найди-ка ты мне, Борисе, того калику, – холодно процедил тысяцкий, сузив глаза. – Да и поспрошаем мы его… с душой поспрошаем.
– Здесь ли он сейчас? – засомневался Борис.
– Здесь он, Борисе, – засмеялся Коснячок недобро. – У нас же князь полоцкий в полоне, они сейчас обязательно к нему подобраться захотят, если тот калика – Всеславль подсыл. Здесь он, Борисе, обязательно здесь.
Киевский вымол кишел людьми. У самого помоста, сбитого из толстых брёвен, притёрлось несколько лодей, туда Колюта и направился.
Никто издалека (да и вблизи тоже!) не смог бы сказать, глядя на Колюту, что когда-то этот человек был воем и даже гриднем. Согбенная спина скрывала высокий рост, опущенные плечи не давали заметить могучие когда-то (да и сейчас не сильно ослабли!) мышцы. Серая небелёная рубаха до колен, залатанная там и сям по-мужски крупно, такие же посконные порты, кожаные поршни, тоже там и сям зашитые. Серая свита поверх рубахи, подпоясанная мочальной верёвкой, валяная шапка. И – полуседая борода в сочетании с длинными волосами.
Калика.
Около второй лодьи калика на мгновение задержался – рядом с брошенными на вымол сходнями сидели на корточках два холопа, в которых Колюта намётанным глазом вмиг признал кривичей. Бросив по сторонам беглый взгляд – не видно ли купца-хозяина – он шагнул ближе.
– Кривичи? – негромко спросил он.
– Ну? – угрюмо, не то отвергая, не то подтверждая, буркнул один, неприветливо глядя на калику. А с чего ему приветливо на киянина глядеть?
– Из Менска ли?
– Ну из Менска, – всё так же неприветливо подтвердил тот. Второй только зыркнул хмуро, но промолчал. Но Колюта не унимался:
– Так ваших ещё зимой всех побрали, пригнали и попродали. А ты о сю пору здесь?
– А меня воевода Коснячко сначала себе хотел оставить, – криво усмехнулся кривич. Кривич. Криво.
– А потом?
– А потом передумал, – холоп усмехнулся ещё кривее. – Зубы мои ему не показались. Остры больно.
– А ты… – Колюта на миг запнулся.
– Ну? – кривич поднял глаза.
– Не помнишь такого – Горяя-киянина?
Кривич несколько мгновений смотрел на Колюту всё с тем же равнодушием, потом покачал головой и отворотился. Но тут неожиданно подал голос второй.
– Я знаю такого, – этот смотрел и вовсе почти враждебно. Изрядно заросшая голова была когда-то брита, длинные усы смешивались с длинной щетиной на подбородке. Это вой. – Он твой сын?
– Нет, – калика покачал головой.
– Он погиб, – обронил вой, равнодушно отворачиваясь. И вдруг обернулся опять, сквозь равнодушие прорвалась нечеловеческая злоба, глаза засверкали. – Он шёл пешком через дебри, зимой, чтобы нам весть донести о зимнем походе. Он, киянин, Менск защищал от ваших князей, которые пришли как воры – зорить чужое княжество! Он на Немиге в жертву себя принёс, чтоб победу добыть! Понял, ты, киянин?!
Колюта несколько мгновений смотрел на кривича, и ему смерть как хотелось бросить в ответ что-нибудь глупо-напыщенное, вроде «Я знаю. Это я его послал». Задавив неуместное бахвальство, он вновь понурился, кивнул и шаркающими шагами двинулся прочь.
Калика миновал две лодьи и остановился около третьей, когда вдруг ощутил за спиной чьё-то присутствие и упорный взгляд – быстрый и скользящий, чтобы не привлечь внимания. Спина его аж вся напряглась, Колюта едва удержался, чтобы не выпрямиться.
Следил кто-то один. Кто? Впрочем, понятно кто – скорее всего, люди Коснячка. Ищут Горяя, кто-то вспомнил, что его не раз видели рядом с ним, Колютой. А тут ещё Колюта неосторожно принялся расспрашивать про того же Горяя на вымоле. И у кого? У холопов известного греческого иудея, Исаака Гектодромоса. Вовремя ты надумал из Киева уходить, Колюто, только чуть поздновато.
Проворонил.
Рядом как раз собиралась отойти лодья, и хозяин её, плотный коренастый купец, бегал по кораблю от носа к корме и обратно, строжил корабельщиков и холопов. Вот-вот и чалки сбросят на берег. Нужно ли тебе что лучше, Колюто?!
Чутьё Колюты внезапно обострилось, он видел многое сразу. Но виду не подал, что заметил что-то, только взялся левой рукой за пояс, поближе к кожаной калите, раздёрнул коротким движением шнурки. И тут же крутанулся на пятке, уходя в сторону и вырывая из калиты окатыш. Над ухом взвизгнул остро заточенный оцел брошенного кем-то ножа. Тот хмырь в толпе! Руки всё делали сами – окатыш с глухим стуком врезался хмырю в лоб, и хмырь повалился назад.
Расталкивая людей, по вымолу уже бежала стража – всего двое, но при топорах и стегачах (а у Колюты не было почти ничего!), народ сбегался со всех сторон, и калика огромным прыжком перемахнул с вымола на лодью, рванул из ножен длинный нож и приставил к горлу растерявшемуся купцу:
– Отходим! Живо!
Купец сглотнул и, косясь на широкое острожалое лёзо ножа, махнул своим людям, замершим было с чалками в руках. Чалки отдались, течение мягко подхватило лодью и понесло кормой вперёд, но дружно ударили вёсла, и она рывком двинулась против течения.
Когда вымол остался позади на два перестрела, а над головой хлопнул, разворачиваясь, парус, тут же наполнивший ветром свои широкие, объёмистые пазухи, Колюта отпустил купца и убрал нож. И, глядя в испуганно расширенные глаза, сказал:
– Ты уж прости, добрый человек, что обидел, да только нельзя было мне в Киеве оставаться.
Сузив в бешенстве глаза, купец выразился. Потом ещё и ещё, с каждым разом всё крепче, срывая злость. Колюта его понимал – именно в такие вот мгновения непривычные к войне люди и седеют враз.
– Ну прости, говорю. Ну не мог я иначе, – сказал калика вдругорядь, оглядываясь – не видать ли челноков с погоней. Их не было – невестимо почему, может, просто лодок не оказалось поблизости. Но, в любом случае, Киев удалялся прочь, и я вновь поворотился к купцу. – Ты не бойся, я заплачу за дорогу и за оружие больше хвататься не буду. И даже на вёслах посижу, если надо будет, грести я тоже умею, доводилось.
Купец ещё несколько мгновений разглядывал калику, потом, отходя, наконец, от гнева, кивнул:
– Ин ладно. Будь по твоему. Заплатит он! – запоздало вспыхнул он опять. – Дырами на своей рубахе заплатишь, небось?! На весло тебя посажу, будешь мне до самого Турова грести!
– А ты в Туров идёшь, господине? – смиренно спросил Колюта, низя взгляд.
– О! – купец опять пыхнул нерастраченным гневом. – Он даже не знает, куда я иду! Спросил бы хоть, прежде чем на борт бросаться! Да меня в Киеве всякий пёс знает, я торгую от Турова до Белой Вежи!
– Ну так то пёс ведь, а я ж не пёс, – пробормотал Колюта себе под нос, но так, чтобы и купцу было слышно. Тот вновь запыхтел, готовясь ругаться, но Колюта опередил. – Дозволь на весло сесть, хозяин?
– Ступай! И чтоб до Турова на глаза мне не попадался!
2
В месяц зарев жара отступает, лето становится мягким, и тёплые ровные ветра гудят в вышине, играют листвой дубов и берёз на киевских горах. А в низине, у воды, там, где с Киевой горы сбегают к Днепру и Подолу дома Боричева взвоза – тишь, только вода в Днепре морщится от лёгкого ветерка.
Мальчишки остановились у самой воды, огляделись по сторонам.
– В самый раз будет, – обронил старший. – И глубина добрая, и течение тихое, и не видит никто.
И в самом деле, выбранное ребятами место было укромным – от берега его отгораживали густые заросли ивняка, через которые они и сами едва пролезли, а от Горы, с которой далеко видно, – густой сосняк на окраине Подола.
Младший сбросил с плеча котомку из посконины, потянулся, повёл плечами:
– И чего на рыбалку всегда надо вставать в такую рань, а, Сушко?
Старший походя отвесил ему лёгкий подзатыльник:
– Потому что на утренней зорьке всегда самый лучший клёв, бестолочь.
Младший увернулся и пробурчал себе под нос:
– Вымахал, орясина.
Сушко беззлобно усмехнулся в ответ, разматывая с гребешка конский волос:
– Ладно, не ворчи. Доставай крючки, рыба ждать не будет.
– Пожди, – младший полез в кусты, что-то невнятно бурча под нос.
– Чего пожди-то? – не понял Сушко. – Ты куда? По нужде что ль? Торля?!
Торля промолчал. Сушко покосился в его сторону – младший брат стоял в ивняке столбом, словно змею увидел, потом оборотился (а лицо – бледное!) и молча позвал старшего одним движением руки.
– Ну чего там? – Сушко раздвинул кусты и тоже замер, словно прикованный к месту.
Человек лежал в воде у самого берега вниз лицом – видно, вползти в кусты у него сил ещё хватило, а вот на берег выбраться – уже нет. Вода полоскала крашеную буро-зелёным плауном рубаху и тёмно-серые штаны, трепала длинный чёрный с заметной проседью чупрун на когда-то бритой, а теперь поросшей коротким волосом голове.
– Эва, – шёпотом сказал Торля и кивнул на чупрун. – Вой, никак. А то и гридень, а, Сушко?
– Помалкивай, – оборвал старший, и младший обиженно смолк – трудно в десять лет спорить со старшим братом, которому уже четырнадцать. Хотя и очень хочется.
Сушко шагнул к лежащему, присел рядом, опасливо прикоснулся кончиками пальцев к плечу и тут же отдёрнул руку.
– Ну что? Живой он, нет? – Торля вмиг оказался рядом – отстать от старшего брата в таком страшном и интересном деле – позорище.
– Да не пойму пока, – Сушко помолчал, кусая губу, потом сказал решительно. – Давай-ка его перевернём.
– Страшно, Сушко, – сказал Торля почему-то шёпотом, но старший брат тут же отверг:
– Нечего бояться. Даже если и топляк, то свеженький, встать не успел ещё.
Вдвоём дружно ухватили воя за плечи, рывком перевернули на спину. И тут же отпрянули – изо рта послышался сдавленный хрип, тут же перешедший в слабый стон.
– Живой, – прошептал Торля.
Братья переглянулись и вновь уставились на свою находку. Рыбалка была забыта вмиг.
– Что делать будем, а, Сушко? – Торля поднял на старшего брата испуганные глаза.
Тот в ответ только головой мотнул – нишкни, мол! Смотрел на лежащего, не отрывая глаз и покусывая нижнюю губу. Думал.
Вой. Вестимо, вой – длинные усы на верхней губе, короткая щетина на нижней челюсти – давно, видно, бриться не доводилось вою. Лет под сорок, крепкий. Вышивка на праздничной рубашке, порванной в двух местах.
Не порванной, порубленной! – тут же поправил себя Торля и поёжился.
Вой был ранен. И не один раз.
Из прорех в одежде слабо сочилась кровь. И то добро! Кровь идёт, стало быть, есть надежда, что выживет! – вспомнил Сушко слышанное от бывалых людей.
Что же с ним делать?
– Надо на Гору бежать, рассказать, – предложил Торля, заглядывая Сушко в лицо. – Пусть людей за ним пришлют! Вой же! А, Сушко?
Но старший брат не спешил. Скрестив ноги, он сел рядом с раненым и задумался. На нетерпеливые же вопросы Торли не отвечал. Младший тоже принялся разглядывать раненого и только тут заметил то, что надо было бы ему увидеть сразу – что вышивка у воя на рубашке – отнюдь не киевская, не полянская.
На его слова Сушко только качнул головой:
– Ну и что? Думаешь, у великого князя одни только поляне да русь в дружине, что ль?
И то верно. Изяслав Ярославич прежде киевского престола и в Турове княжил, и в Новгороде, а к великому князю в дружину кто только не идёт.
– Да и в Киев сам кто только не едет, – подтвердил Сушко. – Вон мы с тобой вятичи, как и батя наш.
Сушко же потянулся к вороту рубашки раненого, туда, где завязки были распущены, и виднелось серебро. Распустил ворот.
Креста не было.
На серебряной цепочке висел волчий клык, обвязанный по верхнему краю волчьей же шерстью.
– Это тоже ничего не значит, – Торля покусал губу и покосился на старшего брата – страшно хотелось сказать хоть что-нибудь умное. – Небось, у великого князя в дружине…
Сушко раздражённо оборвал:
– Покинь! Был бы дружинный, его бы уже искали! Не видишь разве, – он уже несколько дней как ранен.
И правда! Торля смолк и снова поглядел на раненого – удивлённо и со вновь пробудившимся страхом.
В этот миг раненый шевельнулся, и Сушко тут же отдёрнул руку от его груди. Вой открыл глаза, мутно глянул на мальчишек, пробормотал что-то неразборчивое (мальчишки разобрали только «княже», «бежать», «боярин», «княгиня ждёт» и «Полота») и снова закрыл глаза и обмяк. Братья вновь переглянулись, подумав об одном и том же.
О полоцком князе, заключённом в Берестове, невдали отсюда.
– Полота! – Торля затеребил старшего брата. – Ты слышал, он сказал – Полота! Может, это сам Всеслав?!
– Да слышал, слышал, – огрызнулся Сушко, думая о чём-то своём. – Нет, не похож…
– А то ты Всеслава видел, – съязвил Торля.
– А то как же, – усмехнулся старший брат. – Видел. Когда наши вместе с черниговцами, переяславцами да полочанами в степь ходили, торков гонять.
– Но он сказал – Полота…
– Ну сказал, – Сушко задумчиво кивнул. – Полочанин он, кривич, и по выговору слышно.
– Ну так надо… – и Торля вдруг замолк, сам не понимая, что именно ему «надо».
– Что – надо? – неласково глянул Сушко. – Полочанина выдать великому князю? Раненого – его врагам? Кривича – христианам?
– Но что же делать-то? – в отчаянии спросил Торля.
– Помолчать и подумать! – отрезал старший брат. – Или хотя бы не мешать думать мне, понял?!
Торля умолк. Ждал, что скажет старший брат – в любых трудных случаях он привык слушаться Сушко.
– Придумал, – сказал вдруг Сушко, и Торля так весь и подобрался. – Пойдёшь за Глубочицу, к Туровой божнице, к владыке Домагостю, расскажешь ему всё. А там уж он пусть сам решает, что делать. Понял ли?
– А… ты?
– А я здесь посижу, постерегу.
К волхву!
– Страшновато, – Торля поёжился, представив, как это – подойти к волхву, пусть даже и по делу. А ну как не в духе будет альбо ещё что… заворожит, превратит в крысу… – Может, вместе, а, Сушко?
– Нельзя вместе, – Сушко мотнул головой – он не ведал никаких сомнений. – Один должен тут остаться, неровён час, наткнётся на него кто. Ну хочешь, ты останься, а я к божнице побегу.
– Ещё чего! – оставаться наедине с раненым полочанином было ещё страшнее, чем пойти к волхву на Турову божницу. – Я… я пойду, Сушко!
– Вот и хорошо, – старший брат даже не усмехнулся, чего втайне побаивался младший. – Беги быстрее!
Святилище на Подоле, меж Глубочицей и Юрковицей ещё со времён первых киевских князей прозвали Туровой божницей. И бежать туда Торле было не близко – без малого три версты.
Паче того, братья Казатуловичи жили на Боричевом взвозе, а идти было за Нижний вал почти к самой Оболони – там когда-то князь то ли Дир, то ли Тур, поставил святилище, которое ныне и звали Туровой Божницей. А мальчишки с Нижнего вала враждовали с мальчишками Боричева взвоза. И то, что он, Торля, сейчас идёт по делу (по важному делу! взрослому!) вовсе не избавляло его от необходимости глядеть в оба.
Попался он, как и следовало ожидать, быстро, у самой Глубочицы. Встречный мальчишка (ещё младше него, лет шесть – семь, должно быть) прошёл мимо, словно ни в чём не бывало, но Торля мгновенно понял – всё, влип! Потому что звали того мальчишку Путшей, и был он младшим братом вожака нижневальских ребят, Зубца. Путша прошёл мимо, не моргнув и глазом, но когда Торля через несколько шагов оборотился, то увидел, как Путша смотрит ему в спину со злорадной улыбкой, от уха до уха. А когда оборотился вторично, ещё через несколько шагов, Путши уже не было. Небось, помчался своих созывать.
Хуже всего было то, что он, Торля, плохо знал эту путаницу домов, переулков, садов и репищ – бывал-то здесь всего пару раз с отцом.
На миг в душе возникло непреодолимое желание бросить всё, побежать обратно к Печерам и сказать брату: «Давай поменяемся, я тут с раненым посижу, а ты иди к волхву». Торля ясно представил, как брат, дослушав его, только вздохнёт, дёрнет щекой, скажет своё любимое «Мда…» и добавит снисходительно: «Ладно, сиди тут, я сейчас сам схожу». И таким враз стыдом облило, что Торля вмиг подавил второе неуёмное желание – броситься бегом, так, чтобы никакие нижневальские не догнали.
И пошёл спокойным шагом, хотя в глубине души родилась противная мелкая дрожь.
Когда он оборотился через несколько шагов, за ним уже шли двое – Путша и ещё один такой же мелкий, незнакомый.
А ещё через несколько шагов – уже четверо.
Началось.
Он изо всех сил заставил себя не ускорить шаг.
А ещё через несколько шагов из-за угла навстречь ему вышли ещё двое. Стали посреди улицы. Ждали.
Торля остановился, не доходя до них с сажень. Оборотился – той мелкоты позади уже не было, шли двое его ровесников.
Четверо на одного.
Несколько мгновений они молча глядели друг на друга, наконец, тот из передних, что повыше (Зубец, – узнал Торля, – сам!), сплюнул себе под ноги и сказал лениво:
– Вы только посмотрите, кого к нам принесло… чего здесь забыл, Боричевский?
– По делу иду, – изо всех сил стараясь не сорваться на писк (проклятый голос в последнее время взял навычай ломаться вовремя и не вовремя) ответил Торля. Показалось ему или у него и впрямь получилось почти не дрогнуть? – К Туровой божнице.
Все четверо захохотали.
– Боярин, – протянул стоявший рядом с Зубцом. – Жертву, небось, несёт волхву.
– Не туда ты зашёл, Торля, – сказал Зубец. Торля про себя изумился – Зубец, этот отчаюга, которым сквозь зубы восхищались почти все мальчишки Боричева взвоза, оторвиголова, в одиночку однажды отбившийся от четверых войских отроков с Горы, помнит, как его зовут, надо же. – По другой улице надо было идти к божнице-то. Вон погляди.
Островерхий тын, из-за которого торчали макушки капей, и впрямь виднелся в полусотне сажен на другой улице – его хоть и плохо, а было видно через заплоты и плетни.
Совсем рядом.
– Четверо на одного, да?
– Не, – весело отверг Зубец, ковыряя в зубах щепочкой. – Четверо – это чтобы ты не сбежал. А тебе и одного достанет. А кого – мы по жребию решим.
Ну побьют, – Торля закусил губу. – Не убьют же. Потерплю. Но вот раненый кривич… доживёт ли?
– Вы бы меня пропустили, а? – безнадёжно спросил он. – А я бы потом из божницы к вам сам вышел. Вот честное слово.
Снова хохот четырёх глоток:
– Ну отчебучил!
– Держи калиту шире…
– Ссыкун!
Торля в отчаянии огляделся по сторонам. И мгновенно вспыхнул надеждой.
Из ближней калитки, как раз с нужной стороны, кто-то выходил. Вятич рванулся так, что засвистело в ушах. Мальчишки, вмиг поняв, бросились к нему, но опоздали. Торля, даже не глядя, кто попался навстречь, сбил с ног выходящего со двора человека, вихрем промчался мимо цепного пса (тот на миг оторопел от такой наглости, но потом, ощеряясь, ринулся на остальных мальчишек), сиганул через плетень на репище и помчался напрямик, топча ботву репы, огуречные плети и жёсткие перья лука.
Прыгнул через второй плетень, оказавшись смежной улице, метнулся по ней и вылетел на широкую площадь прямо напротив ворот Туровой божницы. И вбежал в ворота прямо на глазах у нижневальских мальчишек, выскочивших следом за ним из улочки.
– Ловок, – протянул Зубец, зажимая ладонью порванные псиными зубами штаны и утирая нос запястьем. – Ладно, мы подождём.
Ждали, сидя на траве под раскидистой липой.
Торля вышел обратно через невеликое время – достало бы матери любого из ждущих мальчишек, чтобы перемотать спрядённую нитку с веретена на клубок. Вышел, и сразу увидел их. Постоял несколько мгновений, глядя как мальчишки неспешно встают с травы, отряхивая штаны – спешить им было некуда, бежать ему было некуда, тем паче, что нижневальских за это время прибыло – вместо четверых стало семеро. И злости у них – прибыло.
А он – постоял и зашагал прямо к ним. И твёрдо шёл, так, что мальчишки залюбовались. И каждый спросил себя – а ты бы смог вот так? Подошёл вплоть и сказал, криво улыбаясь, словно пересиливая в себе что-то:
– Ну вот… я же обещал, что выйду.
Несколько времени они смотрели друг на друга, потом Зубец вдруг рассмеялся и протянул Торле руку:
– А ты храбёр! – сказал он одобрительно. – Не зассал! Ладно! Живи! Коль шайка на шайку – не обижайся, а одного больше не тронем! Все слышали, что я сказал?!
Ошалевшие от такого поворота нижневальские вразнобой подтвердили – слышали, мол!