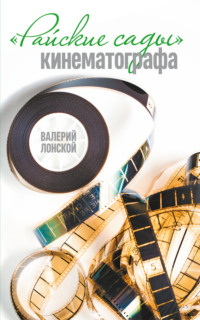Read the book: «Райские сады кинематографа»
© Лонской В. Я., 2016
© ООО «БОСЛЕН», издание на русском языке, оформление, 2017
* * *
Посвящается моей жене Надежде
«Райские сады» кинематографа
Мои друзья в издательстве «Бослен», нередко слушая истории из кинематографической жизни, которые я им рассказывал, предложили мне написать книгу о кино. Нечто вроде мемуаров. Я долго отказывался. И в первую очередь потому, что не считаю себя фигурой столь значительной, чья жизнь может представлять интерес для широкого круга читателей. И все же по прошествии некоторого времени я решил написать такую книгу.
В меньшей степени, размышлял я, она должна быть мемуарной. Не хотелось на страницах этой книги любоваться своей персоной, сочинять истории об удивительных талантах автора, проявленных еще в детстве, и излагать откровения типа того, как, к примеру, классик нашего кино Сергей Михайлович Эйзенштейн, влюбленный в мою мать, носил меня, когда я был ребенком, на руках, – увы, не было этого! И последнее дело – выдумывать подобного рода глупости.
В итоге я пришел к мысли, что книга должна представлять собой некий литературный коллаж, где собраны самые разные истории – связанные со мной и не связанные. Серьезные и не очень. Драматические и смешные. Повествующие о прошлом и о сегодняшнем дне. Где действуют наши кинематографисты и зарубежные. При этом я не хотел, чтобы книга эта стала сборником киношных баек, из разряда тех, каких немало вышло в последнее время из-под пера кинематографистов, в том числе и весьма уважаемых. Не буду называть здесь их имена.
Поэтому в этой книге вы найдете и подробный рассказ о моей работе на «Мосфильме», и портреты некоторых кинематографистов, порою нелицеприятные, и разного рода небольшие по объему новеллы, повествующие о курьезных случаях, имевших место в нашей среде, и выдуманные юмористические истории, как бы сочиненные одним нашим коллегой, кинорежиссером, любителем описывать в своих мемуарах то, чего не было или было несколько иначе.
Одним словом, вот эта книга – перед вами.
О былом. Личный взгляд
документальные записки режиссера
Предисловие
В этом объемном сочинении, посвященном моей работе на «Мосфильме», я не ставил себе задачей исследовать каждое свое движение, каждый свой чих, любуясь при этом оригинальностью собственных замыслов и красотой их исполнения. Один мой коллега, известный режиссер, аж три тома накатал о своей жизни, привлек туда массу фотоматериалов, не имеющих к нему непосредственного отношения, желая, видимо, придать больше значимости своим запискам и переплюнуть (в смысле объема) Жан-Жака Руссо с его трехтомной «Исповедью».
Меня же интересовала атмосфера, в которой делались фильмы, и люди – внутри моих фильмов и вне их. Я не стремился анализировать художественную ткань своих картин – это дело критиков. Я хотел лишь рассказать о том, что происходило за пределами съемочной площадки, как решались судьбы сценариев и готовых фильмов. И сколько это стоило автору душевных сил. Не знаю, насколько убедительно прозвучит мой рассказ для самых разных читателей, искушенных в закулисной жизни кино и не искушенных, но я старался быть правдивым и откровенным.
Глава первая
Все мои фильмы были сделаны на киностудии «Мосфильм». Или при ее участии. С этой студией практически связана вся моя творческая жизнь.
Впервые я оказался на «Мосфильме» в 1969 году, когда нас с моим однокурсником Владимиром Шамшуриным определили на практику в съемочную группу кинорежиссера Веры Павловны Строевой, работавшей в тот период над фильмом о революционных событиях в Москве в октябре 1917 года. Фильм назывался «Сердце России» и был, как теперь показало время, фальсификацией подлинных исторических событий того периода, где происходившее подавалось через призму «правильности ленинского дела». Это сейчас существует иной, более объективный взгляд на историю революционного движения в России и события тех лет, а тогда постановщик фильма Вера Павловна, как и многие другие, в том числе и мы с Шамшуриным, разделяла официальную точку зрения, сформированную за многие годы советскими идеологами.
В этой связи мне запомнился поступок актера Игоря Кваши. Будучи хорошим знакомым В. Строевой, придя на пробы, он категорически отказался сниматься в фильме «Сердце России», где ему предлагалась роль лидера московских эсеров г-на Минора, по причине того, что все противники большевиков были выписаны в сценарии либо откровенными негодяями, либо недоумками. У Кваши, оснащенного опытом работы в трилогии театра «Современник» («Декабристы», «Народовольцы», «Большевики»), посвященной русским революционерам, был иной взгляд на участников сложного исторического процесса. И он не боялся открыто говорить об этом, что вызвало у меня чувство удивления и восхищения.
Но вернемся к «Мосфильму». Несколько месяцев, проведенных в группе В. Строевой, многое дали мне для понимания работы студии, ее цехов и отделов. И главное, я разобрался в хитросплетениях многочисленных коридоров, лестниц и закутков, переходов из одних помещений в другие, о чем кинорежиссер А. П. Довженко говорил: «На „Мосфильме“ нигде не близко и нигде не прямо!» А еще один классик нашего кино С. М. Эйзенштейн утверждал, что на «Мосфильме» имеется комната, которую еще не нашли.
В те годы «Мосфильм» представлял собой большой производственный организм, состоящий из множества цехов, отделов, съемочных групп, павильонов, в которых трудилось пять с половиной тысяч человек. Жизнь здесь била ключом. В год снималось около пятидесяти кинокартин. А если сюда приплюсовать и несколько фильмов, ежегодно снимавшихся по заказу центрального телевидения, то получалось все шестьдесят.
На студии в это время еще трудились мастера старшего поколения М. Ромм, Ю. Райзман, Е. Дзиган, Г. Александров, М. Калатозов, Г. Рошаль, А. Зархи, Л. Арнштам, родившиеся в начале двадцатого века и принимавшие активное участие в становлении советского кинематографа. Успешно трудилось набравшее силу поколение кинематографистов-фронтовиков. Это Г. Чухрай, Ю. Озеров, С. Бондарчук, В. Ордынский, С. Колосов, А. Алов, Л. Гайдай, В. Басов и др., сумевшие проявить себя в счастливое время оттепели. Сюда же можно отнести М. Швейцера, Э. Рязанова и С. Самсонова. Снимали свои фильмы представители третьей волны кинорежиссуры: А. Тарковский, Э. Климов, Г. Данелия, И. Таланкин, Л. Шепитько, Э. Кеосаян, Ю. Чулюкин и др. Постоянным был приток на студию молодежи, окончившей ВГИК или Высшие курсы режиссеров. Молодые художники толкались в коридорах студии в ожидании своего шанса, делясь впечатлениями от фильмов, сделанных их товарищами. Одним словом, это была золотая пора «Мосфильма».
Второй мой приход на киностудию состоялся через несколько месяцев после завершения производственной практики. Благодаря протекции кинорежиссера Ефима Львовича Дзигана, руководителя нашего вгиковского курса, нам с Владимиром Шамшуриным доверили в том же Первом объединении, где мы проходили практику, постановку дипломного фильма.
Руководил в тот период работой объединения именитый кинематографист, знаменитый в прошлом комедиограф, создатель фильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» и др. Григорий Васильевич Александров (о нем подробнее впереди). Главным редактором был Леонид Николаевич Нехорошев, человек еще относительно молодой, передовых взглядов и профессионал в своем деле. Директором являлся Кирилл Иванович Ширяев, в прошлом театральный актер средней руки, мягкий, незлобивый, ставший впоследствии секретарем партийной организации «Мосфильма». Все трое отнеслись к нам весьма доброжелательно.
Нам даже с первого раза утвердили на художественном совете объединения сценарий дипломного фильма, написанный нами же по мотивам рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». В основу сценария легла романтическая легенда о Данко, которую рассказывает старуха Изергиль автору. Эту легенду мы превратили в героико-реалистическую историю из времен борьбы русских с половцами. В сценарии, кроме Данко, появился ряд новых героев, один из которых, Евпатий, был антиподом Данко и призывал спасаться от половцев небольшой группой избранных, а не всем племенем русичей. (Работая над этим сценарием, мы, конечно, находились под впечатлением от блестящего во многих отношениях фильма А. Тарковского «Андрей Рублев», появившегося во второй половине шестидесятых, в котором удачно сочетались и жесткий реализм русского бытия ХV века, показанный Тарковским, и поэтическое начало самой жизни как таковой, найденное им в форме картины. Оттепель закончилась, и готовый фильм «лежал на полке», то есть был запрещен к показу в кинотеатрах, но нам удалось посмотреть его на студии. В те годы он производил ошеломляющее впечатление и оказал влияние на многих молодых кинематографистов.)
Вернемся к сценарию о Данко. По мнению редколлегии Первого объединения, перевод романтической легенды о Данко в героико-реалистическую историю из времен ранней Руси получился довольно удачным. С нами готовы были заключить договор на приобретение сценария. Следует сказать, это оказался единственный случай в моей практике, когда сценарий был утвержден, что называется, с ходу, без единой поправки. Подобного больше не случится никогда!
Но далее произошло непредвиденное. Сценарий дипломного фильма по существующему в институте положению должен был утверждать заведующий режиссерской кафедрой ВГИКа профессор С. А. Герасимов. А вот ему-то сценарий резко не понравился. И он был неуступчив. «Что это вы, братцы, напустили туману, развели дешевый символизм, понимаешь! Всё это не в ту степь!» – коротко резюмировал он при нашей встрече, поглаживая рукой холеную лысину. Никакие уговоры и объяснения, что и как мы хотим сделать в будущем фильме, не помогли. Только еще больше привели в раздражение Герасимова, апологета социалистического реализма, умелого царедворца, постоянно что-либо игравшего на публику. Кто-то из старших коллег на «Мосфильме» как-то рассказал мне об одном высказывании по поводу лицедейства в жизни Герасимова, сделанном Юлием Яковлевичем Райзманом. Тот якобы сказал после какого-то совещания по вопросам кинематографии, что хотел бы посмотреть, как ведет себя Герасимов дома наедине с самим собой, так же актерствует или нет? Интересную и в отдельных моментах нелицеприятную характеристику дала Герасимову в своих мемуарах его соученица по ленинградской киношколе ФЭКС актриса Елена Александровна Кузьмина.
В общем, Герасимов наш сценарий зарубил. Окончательно. Не помог даже личный разговор с ним нашего мастера Е. Л. Дзигана. Итак, сценарий пришлось отложить.
В это время в Первом объединении были запущены в производство два короткометражных фильма по «Донским рассказам» Михаила Шолохова, постановку которых осуществляли молодые режиссеры Валентин Попов (мой давний друг, актер по первому образованию, тонко и органично сыгравший главную роль в многострадальном фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), к сожалению, относительно рано ушедший из жизни) и Виталий Кольцов. Зная наши затруднения в институте, руководство объединения предложило и нам с Шамшуриным снять короткометражку по одному из рассказов Шолохова, с тем чтобы все три фильма составили альманах, который можно было бы выпустить на экраны страны. (Забегая вперед, скажу, что так и произошло. Только новеллу «Продкомиссар», в силу разных обстоятельств, поставил не Валентин Попов, а его однокурсник по ВГИКу Олег Бондарев. Фильм под названием «В лазоревой степи» вышел на всесоюзный экран в 1971 году, и начинался он нашей сорокапятиминутной киноновеллой, называвшейся «Коловерть».)
Мы с Владимиром Шамшуриным поразмышляли некоторое время, посоветовались с нашим мастером Е. Л. Дзиганом и решили принять предложение руководства объединения. И тут же бросились перечитывать «Донские рассказы» Шолохова, с желанием найти подходящий рассказ. В процессе чтения выяснилось: все лучшие, как нам казалось, рассказы из этой книги были уже экранизированы нашими предшественниками, режиссерами, начинавшими свой творческий путь в пятидесятые и шестидесятые годы. К творчеству Шолохова в те годы был большой интерес. И все же один рассказ пришелся нам по душе – рассказ «Коловерть», который и лег в основу сценария.
Ознакомившись с рассказом, руководство объединения одобрило наш выбор и предложило привлечь к написанию сценария Юрия Борисовича Лукина, журналиста, известного литератора, бывшего когда-то первым редактором третьей и четвертой книг романа «Тихий Дон». Лукин близко знал Шолохова и являлся автором или соавтором многих сценариев, написанных по произведениям именитого писателя. Как выяснилось в дальнейшем, Шолохов, друживший с Лукиным долгие годы, никогда не вмешивался в его сценарную работу и не возражал против каких-либо переделок своей прозы. Одним словом, привлечение Лукина к написанию киносценария, по мнению руководства объединения, являлось залогом успешного прохождения готового сценария по инстанциям.
Нам с Шамшуриным, конечно, хотелось самостоятельно написать сценарий, но мы не стали возражать. И в дальнейшем не пожалели об этом. Как выяснилось впоследствии, Лукин оказался добрым, интеллигентным человеком, очень творческим, и его участие в работе над сценарием было крайне полезным.
Съемочная группа у нас подобралась неплохая. Оператором был назначен тоже дипломник – Григорий Шпаклер. Он уже несколько лет работал на «Мосфильме» ассистентом оператора и заочно учился во ВГИКе. Художником-постановщиком стал Константин Степанов – опытный профессионал, за плечами которого к этому времени было уже несколько картин. На должность директора фильма был назначен Виктор Федорович Макаров, работавший до того на Киностудии имени М. Горького. Писать музыку к фильму мы пригласили композитора Михаила Павловича Зива, автора замечательной музыки к фильму Григория Чухрая «Баллада о солдате».
И актерский состав подобрался крепкий. На роли в фильме были утверждены актеры Анатолий Солоницын и Юрий Назаров, работа которых в фильме «Андрей Рублев» была выше всяких похвал; Надежда Федосова, ярко и остро сыгравшая большие роли в двух недавних фильмах Ю. Райзмана; Юрий Смирнов – незабываемый Петр Мелехов, брат Григория Мелехова из фильма «Тихий Дон» (к сожалению, судьба этого актера после «Тихого Дона» долго не складывалась, и Смирнов стрелялся, желая покончить жизнь самоубийством; к счастью, его спасли, но он остался без левой руки, что не помешало его дальнейшей карьере в кино); к месту пришлись и замечательный белорусский актер Павел Кармунин, и актер, служивший в тот период в Театре Сатиры, Владимир Козел, психологически тонко сыгравший начальника контрразведки Туманова в фильме «Адъютант его превосходительства». Работа с этими мастерами доставила нам, молодым режиссерам, немало радостных минут. А с Анатолием Солоницыным мы подружились на долгие годы.
Натурные съемки наша съемочная группа проводила на родине М. Шолохова в станице Вешенской и в ее окрестностях. Многие улицы сохранились там в том виде, какими они были в двадцатые годы, время почти не коснулось их. В съемках принимали участие местные казаки, некоторые из них еще помнили события гражданской войны на Дону, об одной из страниц которой должен был рассказать наш фильм.
Павильонные съемки проходили на «Мосфильме» в павильоне № 4. Помню как сейчас.
Не буду рассказывать о трудностях, возникавших по ходу съемок, которые обычно сопровождают всякую картину. Скажу только: фильм мы сдали в положенный срок в начале декабря 1970 года. Принимал готовый фильм только что назначенный генеральным директором «Мосфильма» Николай Трофимович Сизов, бывший генерал московской милиции, крупный мрачный мужчина с простоватым лицом рабочего. Он буквально обливался слезами во время просмотра нашей киноновеллы «Коловерть», имевшей трагический финал.
Двадцать девятого декабря 1970 года мы с В. Шамшуриным защитили диплом во ВГИКе и получили оценку «отлично».
А уже двадцать четвертого февраля 1971 года я был зачислен в штат «Мосфильма» режиссером 3 категории.
Началась новая жизнь. Начались поиски материала для первого полнометражного фильма. Тут пришлось в полной мере вкусить все трудности непростой жизни на студии, где существовала жесткая система отбора драматургического материала. Кроме того, имелось немало скрытых препятствий для желающего снять свой первый большой фильм. И без знания механизмов по преодолению этих препятствий начинающему режиссеру было непросто получить постановку полнометражного фильма. Помимо высоких требований, которые предъявлялись к литературной основе, редактура творческих объединений, главная редакция и руководство киностудии зорко следили за тем, чтобы каждый сценарий соответствовал духу партийной идеологии, существовавшей в государстве. То есть редактура, помимо своей прямой работы, выполняла еще и цензорские функции. В этом деле часто бывали перегибы. Студийное начальство и члены редколлегий считали, что лучше «перебдеть», чем «недобдеть». Всякий талантливый неординарный сценарий попадал в жесткие идеологические тиски, и не каждый из них добирался до экрана, а если добирался, то нередко с немалыми потерями. В меньшей степени от этой системы страдали так называемые «конъюнктурные» сценарии, то есть сценарии «на злобу дня» или посвященные «славному революционному прошлому страны». Здесь редакторы и чиновники нередко закрывали глаза на просчеты и качество драматургии. Легче проходили и сценарии тех драматургов и режиссеров, у которых имелись серьезные покровители, способные замолвить за них слово в различных высоких инстанциях и «отбить» всякого рода претензии, доходившие порой до абсурда.
У меня таких покровителей не было. В силу этого немало замыслов в первые годы работы на студии так и не удалось осуществить.
В Первом объединении, в штате которого отныне я числился (поясню: весь творческий состав киностудии – режиссеры, операторы, художники, вторые режиссеры, директора картин – был поделен на несколько объединений, так было проще решать производственные задачи и рулить процессом создания фильмов), так вот, в Первом объединении мне предложили сценарий о жизни летчиков под названием «Взлетная полоса», написанный тремя авторами: профессиональным драматургом Олегом Стукаловым, летчицей Мариной Попович и Тамарой Кожевниковой, инженером-техником по обслуживанию истребителей, участницей прошедшей войны. Сценарий мне резко не понравился. Он был очень прямолинейный, полный штампов и поверхностных решений. Не хотелось с такой слабой драматургией дебютировать в большом кинематографе. Поразмышляв серьезно на эту тему, я отказался.
Редактор нашего объединения Валерий Карен предложил мне ознакомиться с повестью писателя Виктора Муратова «Мы убегали на фронт». Повесть рассказывала о двух мальчишках, которые в конце войны убежали на фронт, спрятавшись в товарном вагоне. Мальчишки боялись, что война закончится и они не успеют повоевать. К повести проявили интерес в объединении детских и юношеских фильмов «Юность», руководил которым в то время режиссер Александр Григорьевич Зархи, подозрительно оглядевший меня при нашем знакомстве с ног до головы, словно я был замешан в чем-то непристойном. Вообще Александр Григорьевич был человеком весьма своеобразным и особой любовью к своим коллегам не отличался, особенно к молодым.
Прочитав повесть, я заинтересовался ею. Повесть была написана просто, незатейливо, но в ней было живое дыхание жизни, интересный набор событий, что и привлекло меня. Поразмыслив над прочитанным и прикинув, как можно было бы выстроить драматургию будущего фильма, я встретился с автором. И мы вместе стали работать над сценарием.
Виктор Муратов был военный человек. Лет на семь старше меня. Находясь на армейской службе, он заочно окончил Литературный институт. Имел звание подполковника или полковника (теперь уже не помню) и работал в Министерстве обороны СССР литературным сотрудником маршала Советского Союза А. А. Гречко, бывшего в тот период военным министром. Муратов записал в литературной форме мемуары маршала, воплотившиеся в двух книгах – «Битва за Кавказ» и «Через Карпаты», в которых немалое место отводилось участию в боевых действиях на фронте тогдашнего главы советского государства Леонида Брежнего.
Виктор Муратов был человеком неглупым, но весьма консервативных взглядов. Непросто шла у нас совместная работа. Я тяготел к поэтическому прочтению материала, желал уйти от бытовизма и прямолинейности, имевших место в повести, Муратов же был сугубым реалистом и с трудом воспринимал разного рода новации в области формы и метафорические образы, способные придать кинематографическому рассказу поэтический оттенок. Борьба двух разных начал, которые воплощал каждый из нас, нашла отражение в готовом сценарии, получившем название «Быть!», который через полгода после начала совместной работы мы представили на суд редколлегии объединения «Юность». Там сценарий встретили без особого энтузиазма, подвергли критике – члены редколлегии с трудом восприняли форму сценария, ретроспекции, имевшие в нем место, обращавшие зрителя к древнегреческой мифологии. Нам предложили переделать многие вещи. Через два месяца мы представили редколлегии второй вариант, и опять жесткая, по большей части несправедливая критика. Отношения с Муратовым к этому моменту разладились (уж слишком разными мы были), сценарий завис в неопределенности. И некоторое время спустя я принял решение отказаться от участия в этой работе, считая ее в сложившихся обстоятельствах неперспективной.
Итак, потратив на данный проект около года, я оказался в нулевой точке, с которой начал.
Наступила весна 1972 года, а я все еще не имел сценария для работы. Прошло больше года с момента моего поступления в штат, и вот такой неутешительный итог. Срочным порядком я принес в Первое объединение пару идей, казавшихся мне интересными для воплощения на экране, но они были отвергнуты.
И тут директор объединения (теперь эту должность занимала Лидия Васильевна Канарейкина, опытный организатор производства, только что завершившая работу на большом масштабном проекте «Освобождение» режиссера Ю. Озерова, где она была директором картины) и худрук Г. В. Александров предложили мне вернуться к сценарию «Взлетная полоса», от которого я отказался год назад. Правда, теперь мне уже предлагалось делать фильм по этому сценарию не одному, а в паре… с моим бывшим сокурсником и сорежиссером по дипломному фильму Владимиром Шамшуриным, чего мне, признаюсь, совсем не хотелось. Хотелось работать самостоятельно. Работа вдвоем трудна, требует согласования каждого элемента, каждой детали, а это мучительный процесс. Ведь все мы разные и каждый художник видит мир по-своему. Не одну бессонную ночь провел я в думах, прежде чем согласился на совместную работу. Если откажусь, рассуждал я, то неизвестно, сколько еще продлится мое безработное существование. А работать хотелось. Очень! К тому же меня согревала мысль, что мы с Шамшуриным сумеем вместе существенно переработать сценарий и внесем в него живую струю.
Итак, я согласился работать в паре, да еще со слабым сценарием, который отверг больше года назад. Такой вот зигзаг судьбы!
Нас с Шамшуриным быстро запустили в режиссерскую разработку (для непосвященных – это первый этап работы над будущим фильмом). Оператором назначили Бориса Брожовского, молодого, способного, снявшего уже пару картин, художником – опытную Наталью Мешкову. Это были крепкие профессионалы и, что немаловажно, приятные в общении люди. Вместе с ними мы написали режиссерский сценарий, в котором, по нашему мнению, нам удалось преодолеть многие недостатки литературного первоисточника.
Наступило лето 1972 года. В руководстве Первого объединения произошли перемены. Г. В. Александрова, человека уже не молодого, на посту художественного руководителя сменил Сергей Федорович Бондарчук. Вот к нему-то и попал наш режиссерский сценарий, который предстояло обсудить худсовету объединения во главе с новым худруком, прежде чем запустить съемочную группу в подготовительный период.
И здесь мы с Шамшуриным, как выяснилось впоследствии, совершили роковую ошибку. Мы дали Бондарчуку, не читавшему ранее литературный сценарий, помимо нашего режиссерского варианта еще и экземпляр литературного сценария. Дабы он мог сравнить наш вариант с первоисточником и оценить проделанную нами работу.
Бондарчук находился тогда в зените славы. За плечами у него были очень успешные картины «Судьба человека», удостоенная Ленинской премии, и «Война и мир», получившая престижную премию американской киноакадемии «Оскар». Лишь недавно он вернулся из Италии, где снимал фильм «Ватерлоо», имевший большой успех на Западе и у нас в стране. Любимец начальства, баловень судьбы, произведения искусства, следует сказать, он оценивал только по «гамбургскому счету». К конъюнктурным сценариям Бондарчук относился, мягко говоря, со сдержанной брезгливостью. Но понимал, что вообще обойтись без них в кинопроизводстве невозможно. Есть план и прочее. Но уж если подобный сценарий «на злобу дня» не выдерживал никакой критики, то он безжалостно от такого избавлялся.
Бондарчук прочел литературный сценарий «Взлетная полоса», был потрясен его низким художественным уровнем и не стал читать режиссерский сценарий, решив, что он ненамного лучше. Об этом я узнал лишь некоторое время спустя, после целого ряда печальных событий, последовавших за этим.
Бондарчук подверг сценарий на худсовете жесткой критике. И картину закрыли. Был такой термин на «Мосфильме». «Закрыли» – то есть остановили производство фильма. Иногда фильм закрывали навсегда, иногда временно. Мы с Шамшуриным, ожидавшие иного результата, были буквально раздавлены. «Что же нам делать?» – спрашивали мы у Сергея Федоровича. «Ищите хорошего драматурга, который сумеет переделать сценарий и доведет его до художественного уровня, – ответил Бондарчук. И предложил: – Вон Гена Шпаликов сидит сейчас без дела. Пригласите его… Он – мастер!»
Легко сказать: пригласите Шпаликова! Литературный сценарий утвержден в Кинокомитете, гонорар авторам выплачен за него полностью. К тому же сами авторы считают, что написали хороший сценарий и нет нужды кого-то еще приглашать для его исправления. Мы оказались в тупиковой ситуации.
И все же желание работать победило. Мы связались с Геннадием Шпаликовым, ярким драматургом, имя которого было овеяно славой в кинематографической среде в шестидесятые годы. Фильмы по его сценариям «Я родом из детства», «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве» знали все. Кроме того, сам он как режиссер поставил талантливую картину «Долгая счастливая жизнь».
Я был шапочно знаком со Шпаликовым. Еще до учебы во ВГИКе я работал на кинокартине «Застава Ильича» (реж. М. Хуциев), которая снималась на Киностудии имени М. Горького, и Шпаликов, будучи автором сценария этого фильма, нередко появлялся на съемках в павильоне, где мы и познакомились.
Мы с Шамшуриным позвонили Шпаликову и договорились с ним о встрече.
Надо сказать, у Шпаликова в то время был трудный период в жизни. Несколько сценариев его были отклонены начальством Госкино. Он сидел без работы. Пил. Часто ссорился с женой, нередко уходил из дома, ночевал, скитаясь по приятелям и знакомым. Многие прежние друзья из-за такого образа жизни сторонились его.
И тут появляемся мы со своей проблемой. И что мы, начинающие режиссеры, могли ему предложить? Работу литературного «негра». Не более того. Чтобы он, без упоминания его фамилии в титрах, за наши личные деньги переделал сценарий. Для оплаты его работы мы с Шамшуриным, вчерашние студенты, наделав долгов, собрали сумму в четверть гонорара, положенного в те годы кинодраматургу за сочинительство. Трех авторов «Взлетной полосы» нам с немалым трудом удалось уговорить на переделку сценария. Мы пообещали им, что от них не потребуется денег и в титрах не будет четвертой фамилии. Получили на это «добро» и главного редактора Первого объединения Валерия Карена, сменившего к этому времени на этом посту Л. Нехорошего, ставшего теперь главным редактором «Мосфильма».
Шпаликов согласился на наши условия. Он крайне нуждался в деньгах и хотел работать.
Втроем мы засели в моей квартире в доме на Зеленодольской улице в Кузьминках (Шпаликов находился там безвылазно – таково было наше условие), и работа началась. Предварительно мы обсуждали какую-либо сцену, затем Гена садился за пишущую машинку и сочинял. В эти дни Шпаликов не пил, принимал успокоительные лекарства и работал по шесть-семь часов в день. Надо отдать должное моей жене Надежде, которая взяла на себя все заботы по обеспечению его всем необходимым.
Вечерами, закончив работу, за чаепитием мы вели долгие беседы на самые разные темы. Гена был весьма интересным собеседником. И занимательные его рассказы доставляли нам немалое удовольствие. Подобное времяпровождение длилось восемь или девять дней. Это были счастливые дни, запомнившиеся мне навсегда.
Шпаликов успешно потрудился, переделывая сценарий, нашел ряд интересных решений, изменил кое-что композиционно, ярче прописал характеры и внес немало запоминающихся деталей. Мы с Шамшуриным остались довольны.
Два дня потребовалось на перепечатку текста у машинистки, и вскоре готовый сценарий в количестве трех экземпляров лежал на столе у главного редактора объединения В. Карена.
Увы, наши с Шамшуриным хождения по мукам на этом не закончились.
Вернувшись из Кузьминок к себе домой и, поругавшись в очередной раз с женой, издевательски заявившей ему, что он поступил глупо, согласившись работать «негром», да еще за такие небольшие деньги, Шпаликов, крепко выпив, явился на следующий день к главному редактору Карену, устроил скандал и потребовал, чтобы ему выплатили половину гонорара, причитающегося авторам за сценарий, и в дальнейшем поставили его фамилию в титры. После таких требований возмущенный Карен заявил, что он знать ничего не хочет про шпаликовский сценарий, при нас с Шамшуриным выбросил все три экземпляра в мусорную корзину и посоветовал забыть о нем навсегда. Взамен этого пообещал сделать все возможное, чтобы убедить Бондарчука дать согласие на съемку сценария, который был написан основными авторами.
И опять решение вопроса зависло в воздухе. Наша «безработная» жизнь продолжилась. Подобное положение длилось уже несколько месяцев.
Устав ждать и не веря больше в успех нашего бесперспективного дела, Шамшурин стал заниматься новым проектом. Ему и двум другим молодым режиссерам, Виталию Кольцову и Сергею Ерину, предложили снимать альманах, состоящий из трех новелл, по рассказам писателя Дмитрия Холендро. С Холендро заключили договор на написание сценария, и вместе с режиссерами он начал работу. (К слову сказать, этот фильм так и не состоялся.)