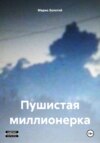Read the book: «Джесси»
Если бы я искал отображение любви столь сильной и безусловной, какую имеет к нам Бог, в одном из Его земных творений, то, несомненно, этим существом была бы собака, – настолько сильна и безусловна её любовь к человеку.
В. Козырев
Часть первая
Джесси родилась в тёплый июньский день и сразу же попала во власть большого шершавого языка матери. Некоторое время мать облизывала её, а рядом возились и жалобно пищали такие же, как и она, маленькие беспомощные щенята. Бр-р-р, здесь все было не так, как там, откуда её только что вытолкнула какая-то неведомая сила. Там ей было тепло и уютно, а тут, лишь только мать перестала её облизывать, Джесси впервые ощутила, что такое холод; и, сотрясаясь всем телом, переваливаясь через родившихся до неё братиков и сестричек, поползла к материнскому боку – единственному источнику тепла. А тут появилось и другое, доселе неведомое ей чувство: голод – сосущая пустота внутри; и, запищав от всех, внезапно нахлынувших напастей, Джесси принялась тыкаться мордочкой в пушистый живот матери и тотчас нашла то, что искала – розовый сосок, полный вкусного молока. Она прильнула к нему, и сразу что-то сытное, пахучее, стало наполнять живот приятной тяжестью. Вскоре, почувствовав, что в неё не поместится уже ни капли, она отвалилась от соска и, прижавшись к матери, сладко заснула.
Постепенно Джесси стала привыкать к этому миру – другого выбора у неё просто не было. Чтобы жить – нужно привыкать. Правда, это очень трудно, если кругом все незнакомо, а глаза абсолютно не видят; и поневоле она стала воспринимать все, что её окружает, по запахам. Наверное, детеныши некоторых животных потому и рождаются незрячими и таковыми остаются на некоторое время, дабы, ориентируясь в незримом им пространстве, развить обоняние – чувство, которое и в дальнейшем останется для них одним из главных.
Не прошло и двух недель, как Джесси стала покидать свой угол и, тыкаясь носом в попадающиеся на её пути предметы, принялась изучать комнату. Все вещи в комнате имели свои, присущие только им запахи, и если их запомнить, то можно было без особого труда разобраться, что и где находится в этом тёмном невидимом мире. И вот однажды, смешно переваливаясь с боку на бок, она в очередной раз отправилась в свой исследовательский поход, доковыляла до дальней стены и, устав от столь дальнего перехода, забавно присела на задние лапки и, подняв кверху мордочку, принялась обнюхивать воздух, пытаясь определить, где она находится. В этот миг чуть приоткрылся её левый глаз, до этого плотно закрытый веком. Яркий свет солнечного дня, падающий в комнату через окно, ошеломил Джесси, она испуганно взвизгнула и, быстро семеня лапками, побежала назад. То, что ворвалось в её жизнь через щелочку глаза, было неожиданным и оттого пугающим, и она прикрыла его, – так ей было проще, привычней, а значит – и спокойнее. Но помимо её воли и желания глаз раскрывался все шире и шире, а через день открылся и второй. Привыкать к хорошему не так уж и трудно, и это уже больше не пугало её; она словно оказалась в другом мире, где вещи имели не только запахи, но и каждая – свой облик.
Щенки подрастали, и в последнее время случалось так, что кушать Джесси хотелось все больше и больше, соски же матери становились пустыми прежде, чем наступало чувство сытости. Да и мама, ласковая и добрая, с которой так хорошо, когда она рядом, стала отлучаться всё чаще и чаще. И вот однажды в комнату вошла хозяйка; в руках у неё была большая глиняная миска, она поставила миску рядом с собачьей подстилкой и стала по очереди осторожно тыкать щенков мордочкой в её содержимое. Для Джесси это стало полной неожиданностью, она фыркнула, затем резко втянула в себя воздух, но сделала это, когда носик был погружен в молоко и, захлебнувшись, принялась отчаянно барахтаться, пытаясь вырваться из рук хозяйки. И когда хозяйка отпустила её, забилась в угол вместе с остальными перепуганными щенками. Немного успокоившись, она облизала мордочку. Запах и вкус того белого, во что Джесси только что обмакнули, были очень похожи на молоко матери. Хозяйка же тем временем ушла, но миска осталась рядом с подстилкой; и Джесси вновь поковыляла к ней, и чуть не доходя, остановилась, потянула носом воздух. От миски исходил аппетитный, дразнящий запах. Осторожничая, она ещё некоторое время оставалась на месте, но, не выдержав пытки голодом, подошла. Так и есть – это белое пахнет почти так же, как и молоко матери и, следовательно, это можно есть. Но как? Джесси засунула нос в молоко и попыталась потянуть в себя, но поперхнулась и быстро отдернула голову. Однако на кончике носа, на крохотных усиках, на шерстке верхней и нижней губы осталось немного молока; она облизнулась – вкусно. Джесси опять обмочила в молоке нос и опять облизнулась, затем повторила это еще несколько раз. И вскоре поняла, что совсем необязательно засовывать в молоко нос – можно только язык. Она стала делать лакающие движения языком все быстрее и быстрее, и вскоре, сытая и довольная, лежала на подстилке и сквозь дрёму наблюдала, как и другие щенки постигают ту же науку.
Шло время, и как-то раз в комнату вместе с хозяйкой вошёл незнакомый человек. Опережая других щенков, Джесси бросилась к ним, – ведь зачастую появление хозяйки означало, что она нальет в миску молока. Джесси так спешила, что её передняя лапка подвернулась и, перекувырнувшись, она со всего размаха ткнулась мордочкой прямо в ботинок незнакомца, – тот рассмеялся, взял её на руки и, держа перед собой, сказал:
– Ну, что ж, Лидия Степановна, по-моему, мы оба сделали свой выбор. – И поднес Джесси к самому лицу.
Она впервые увидела человека так близко, и её сердечко от страха забилось сильнее. Но что-то ей, совсем еще крохотной и несмышленой, подсказывало, что человек этот – не враг, и не сделает ей ничего плохого; а то, что он так высоко поднял её, так это он, наверное, предлагает поиграть с ним. И от большой щенячьей простоты Джесси лизнула его в нос. Незнакомец рассмеялся.
– Вот видите, Лидия Степановна, и объяснение в любви состоялось, – сказал он. И, обращаясь к Джесси, продолжил: – Малышка, ты мне тоже очень нравишься, вот только лизать я тебя не буду.
Не выпуская Джесси из рук, незнакомец повернулся к хозяйке; они о чем-то поговорили, и хозяйка взяла её на руки.
– Ну, что, моя хорошая… – сказала она ласковым голосом. – До свидания. Теперь у тебя будет свой дом, охраняй его, хозяев своих слушайся, кушай, что дадут, не привередничай.
Закончив напутствие, хозяйка поцеловала Джесси в её прохладный носик и возвратила незнакомцу. Джесси уже порядком надоела эта процедура с передачей из рук в руки. Да и к тому же ей хотелось назад, к другим щенкам, которые, убедившись, что хозяйка молока не принесла и миска пуста по-прежнему, вернулись в свой угол и продолжили весёлую возню. И она, повизгивая и изгибаясь, стала выворачиваться из рук незнакомца. Тот опять засмеялся.
– Ну, уж нет, довольно, погостила тут и хватит, пора и честь знать. – И, прижав её к груди, направился вслед за хозяйкой к выходу.
Улица обрушилась на Джесси лавиной незнакомых звуков и запахов. Перепуганная, она прижалась к незнакомцу и притихла, и, наверное, в эту минуту поняла, что человек этот в её жизни теперь самый главный и никому не даст в обиду. Гена – так звали незнакомца, подошел к автомобилю, стоявшему рядом с домом, открыл дверцу, сел, осторожно положил Джесси рядом с собой на пассажирское сиденье, завел двигатель и посмотрел на неё. А она уже стала привыкать к перипетиям этого дня и довольно спокойно лежала на сиденье, не сводя с него черных блестящих глаз-миндалин. Гена тронул автомобиль с места; шум двигателя и покачивание машины убаюкали Джесси и вскоре она заснула, проснулась от того, что автомобиль остановился.
– Вот мы и приехали, – сказал Гена.
Взял Джесси на руки, вышел из автомобиля, направился в сторону высокого дома и опустил её на землю возле лавочки у подъезда. Кругом были чужие, неизвестные Джесси запахи, а совсем рядом проходили незнакомые люди. От страха она некоторое время оставалась без движения. Но вскоре, движимая природным любопытством, принялась тщательно обнюхивать перед собой землю и, принюхиваясь, стала потихоньку удаляться от лавочки, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что тот, кто отныне стал её хозяином, рядом и она не одна. Джесси отошла от лавочки уже на довольно приличное расстояние, как вдруг из-за угла дома, в сторону которого она направлялась, выскочило рыжее лохматое чудовище и, зарычав, бросилось на неё! От страха Джесси оцепенела, но уже спустя мгновение со всех ног улепетывала в сторону хозяина. А он уже бежал навстречу и подхватил её, всю дрожавшую от страха, на руки. Маленькая рыжая дворняжка с густой длинной шерстью, неопрятными прядями свисающей до самой земли, показавшаяся Джесси громадным злобным монстром, остановилась, тявкнула пару раз для приличия и, развернувшись, с победным видом засеменила в сторону угла, откуда только что появилась. Джесси же продолжала дрожать всем телом, ей хотелось только одного – чтобы хозяин не отпускал её с рук; а он, поглаживая её, ласково успокаивал:
– Ну что ты, глупышка, испугалась так, дрожишь вся?.. Это ж не собака вовсе, а так, недоразумение какое-то… Не пройдет и полгода, как не ты от неё – она от тебя бегать будет!
Тут в окне первого этажа открылась нижняя форточка, и в ней показалась молодая женщина.
– Гена, ну, что ты там? Я уже заждалась, а ты все не идешь и не идешь! – с наигранным недовольством произнесла она.
– Иду, Анечка, уже иду! – улыбнулся ей Гена и с Джесси на руках направился к двери.
Они зашли в прохладный подъезд, поднялись по ступеням и едва подошли к двери квартиры, как та открылась. На пороге стояла женщина, которую Джесси только что видела в окне.
– Ой, какая славная собачка! – восхищенно произнесла она, взяла Джесси на руки и осторожно прижала к себе.
И вновь своим крохотным, трепетно бьющимся сердечком Джесси ощутила, что эта женщина тоже не даст её в обиду.
Шли дни. Джесси росла ласковой и добродушной, словно впитывая в себя царящую в доме атмосферу добра и любви. В особенности она привязалась к хозяину и, забавно переваливаясь с боку на бок, бегала за ним по всей квартире и всякий раз ударялась об его ноги, когда он внезапно останавливался. А если хозяин садился на диван или на кресло, она вставала на задние лапки и, упершись передними в его ноги, принималась жалобно поскуливать. Хозяин поднимал её с пола, укладывал себе на колени, и Джесси, свернувшись калачиком, сладко засыпала. Однажды Гену отправили в служебную командировку. Небольшой городок, куда ему надлежало отбыть, находился километрах в ста, и чтобы не терять время, он поехал на своем автомобиле, рассчитывая, управившись с делами за день, к вечеру быть уже дома. Но, как это зачастую бывает, появились непредвиденные обстоятельства, и ему пришлось задержаться еще на два дня. Аню Гена предупредил по телефону, но как об этом можно было сказать Джесси? И не дождавшись хозяина к вечеру, она стала выбегать в прихожую всякий раз, когда слышался хлопающий звук закрывающейся парадной двери, в надежде, что вот-вот услышит на площадке знакомые шаги. Так она, чуть склонив голову набок, стояла некоторое время, но, так и не услышав шагов хозяина, уныло плелась на свое место. Ночь она не спала, вскидывая голову на каждый стук парадной и, горестно вздохнув, вновь опускала её. На следующий день Джесси потеряла интерес к еде – даже к небольшим вкусным шарикам, столь аппетитно хрустевшим на её острых зубках и, забившись за кресло, что стояло в углу комнаты, уже не выбегала в прихожую на звук парадной, а неподвижно лежала, положив мордочку между передними лапами. (Эта поза навсегда останется выражением особой её грусти.) И когда Аня звала её кушать, она, не покидая своего укрытия, из вежливости, лишь постукивала хвостом о пол. Кто и чем мог бы измерить глубину её печали? Наверняка её хватило бы, чтобы в ней утонул весь мир. И только когда за окном слышался шум проезжающего мимо автомобиля, Джесси поднимала мордочку, но обреченно вздохнув, опускала обратно. Это был звук не того автомобиля, на котором ездил хозяин. Этот звук она узнала бы из тысячи. К вечеру третьего дня квартира огласилась звонким щенячьим лаем. Это он, он! Это шум его машины. Джесси подбежала к окну, встала на задние лапы, но была ещё слишком мала, чтобы дотянуться передними даже до края подоконника. Аня подхватила её и поставила на широкий подоконник. И Джесси увидела своего хозяина, идущего к дому и махающего им рукой, и когда он зашёл в подъезд, спрыгнула с подоконника и, пробороздив носом ковер, бросилась в прихожую, следом за ней спешила Аня, а в дверь, тем временем уже входил Гена. Он поцеловал Аню, высоко приподнял радостно повизгивающую Джесси, и она, как тогда, в первую их встречу, прямо перед собой увидела его глаза. Хозяин говорил что-то ласковое, и счастью Джесси не было предела. А когда он опустил её на пол, бросилась в комнату, схватила зубами свою любимую игрушку – резинового ежика, быстро вернулась и бросила его на пол прихожей у его ног. Что она хотела этим сказать? Возможно что: «Вот хозяин это самое дорогое, что у меня есть, бери, играй, и мне совсем, совсем не жалко».
Джесси ненавидела вешалку, что стояла у двери. Именно к ней подходил хозяин перед тем, как уйти из дома. Поэтому вешалка была для неё символом разлуки. Джесси еще не различала предметы по тому, одушевленные они или нет, а воспринимала их так, как они проявляли себя в её жизни. Вот, к примеру, кресло было добрым: хозяин часто отдыхал, сидя в нём, а она дремала у его ног; стол на кухне тоже был добрым: под ним она частенько хрустела вкусными косточками, которыми её угощали. А вот обувь, особенно же ботинки, были злыми, и так же, как и вешалка, олицетворяли расставание. Хозяин всегда надевал их прежде, чем уйти. И вот однажды ночью, когда все спали, Джесси на брюхе, крадучись подползла к одному из них, – мало ли что тот выкинет, ведь он же злодей! И, тихонько рыча, принялась рвать его зубами. Расправившись с одним, не оказавшим, впрочем, никакого сопротивления, она принялась за другой. Хозяин, наутро обнаружив растерзанные ботинки, ухватил её за загривок и протащил в прихожую. «Нельзя! Нельзя!» – несколько раз громко проговорил он, держа разодранный башмак перед её носом. Джесси понимала, что провинилась, потому что в голосе хозяина была строгость; вот только в чем её вина, она не знала, ведь ночной эпизод с ботинками уже напрочь выветрился из её памяти. С Джесси и раньше строго разговаривали, чаще это случалось, когда она, разыгравшись, принималась драть зубами шторы и обои. Но на этот раз не обошлось лишь разговором. Строго отчитав, хозяин пару раз стеганул её поводком по заду. Джесси забилась за кресло. У неё не было злости, – в любящем сердце ей нет места, но ей было обидно. Она лежала, положив голову промеж передних лап, а когда обида достигала предельной точки, тяжело вздыхала. Она не вышла на кухню, хотя слышала, как Гена и Аня сели завтракать, и впервые не вышла в прихожую проводить хозяина на работу, а лишь в очередной раз печально вздохнула, услышав, как за окном завелся двигатель его автомобиля. А когда Аня позвала её, чтобы покормить, отвернула морду в другую сторону. Так, почти не двигаясь, она пролежала весь день. И лишь чуть повела ушами, услышав в конце дня знакомый шум подъезжавшего автомобиля. Даже звук захлопнувшейся автомобильной дверцы, казалось, не произвел на неё никакого впечатления, только внимательный взгляд заметил бы, как чуть дрогнул кончик её хвоста. Поздним вечером она все же покинула свое укрытие и с опущенной головой поплелась на кухню, едва вильнула хвостом на приветливый оклик хозяина и улеглась под столом. И хотя всем своим видом Джесси показывала, что совершенно не согласна с тем, как с ней обошлись и категорически против такого обращения в дальнейшем, на самом деле она давно уже жаждала общения. Её сердце не могло долго хранить обиду.
Джесси росла, выправляясь в высокую и красивую овчарку. На прогулку её обычно выводили на пустырь за домом. Но к концу весны хозяин стал брать её с собой на берег озера. Они шли некоторое время по городским улицам, выходили к озеру и спускались к нему по тропинке вниз. Там Гена отпускал Джесси с поводка, и она принималась носиться вдоль берега; и вдоволь набегавшись, подняв над собой тучу брызг, затем с шумом бросалась в камыши, обрамлявшие озеро широкой зеленой каймой и, резво выскочив на травянистый берег она принималась отряхиваться, сея вокруг себя мелкие брызги и водяную пыль, и отряхнувшись, мчалась со всех ног к хозяину. Или же убегала по берегу далеко вперед, чтобы спрятаться в кустах, густо растущих вдоль тропинки и, дождавшись, когда хозяин поравняется с ней, выскочить прямо перед ним. И почти всегда хозяин говорил: «Ах, Джесси, ах, проказница, как же ты меня напугала!» Это было весело – на самом деле она прекрасно знала, что хозяин шутит; а ей просто был нужен повод, чтобы обратить на себя его внимание. И Джесси радовалась, когда ей это удавалось.
Гена родился в небольшой деревушке, похожей на тысячи других, разбросанных по бескрайним просторам огромной страны, схожих своими проблемами, заботами, да и радостями, наверное, тоже. Родители уходили из дома с рассветом и почти без выходных пропадали на колхозной работе. Отец работал механизатором, мать – дояркой. До семи лет он рос под присмотром бабушки. Бабушка редко сидела без дела, взгромоздив, в отсутствие сына и невестки, на свои старческие плечи все заботы о домашнем хозяйстве. А долгими зимними вечерами – вязала, устроившись на стареньком диване. Вязала бабушка споро, и маленькому Гене нравилось смотреть, как из-под мелькающих спиц, медленно разматывая клубок пряжи, появлялись либо носок, либо варежка. К тому же, бабушка знала много сказок. И Гена, примостившись рядом с ней на диване, затаив дыхание, слушал как тихо, чуть нараспев рассказывает она очередную сказку: то про доброго и простоватого медведя, то про злобного волка или же про хитрую лису и трусливого зайца и, засыпая под её убаюкивающий голос, он и во сне часто продолжал видеть их… Рядом с бабушкой Гена тоже всегда был при деле – вместе с ней кормил огромного хряка, который, громко чавкая, жадно хватал куски из корыта; сбрасывал с сеновала сено в ясли добродушной и медлительной в движениях корове Зорьке, которая так и норовила лизнуть Гену в лицо своим большим шершавым языком, когда он, спустившись с сеновала, поправлял в яслях сено. Носил на вилах сено овцам в сарайчик. Они были ужасные попрошайки. И у бабушки для каждой из них и для Зорьки тоже, в карманах её старенького плюшевого жакета, всегда были гостинцы – кусочки черного хлеба, густо посыпанные солью.
– Они, как и люди, внимание любят да заботу, а соль для них – первое дело. Вкус хлеба могут и забыть, а вкус соли – никогда, – поучала она маленького Гену.
Гена с отличием оканчивал начальную школу, а другой в деревне и не было. Учебу ребятишки продолжали уже в селе – за семь километров от деревни. Отвозили их в село и привозили обратно на колхозном автобусе. Брат же отца – Михаил Иванович – со своей женой Людмилой жили в городе, были бездетны и не раз просили, чтобы Гена приехал продолжить учёбу к ним. Петр Иванович – отец Гены – поначалу относился к этому предложению несерьезно; но в последнюю зиму старенький автобус не раз ломался в пути и иззябших детей вывозили на лошадях, запряженных в розвальни – тогда Петр Иванович и стал всерьёз подумывать о предложении брата. Сам он, еще будучи подростком, мечтал выучиться на инженера-строителя, жить в городе и строить большие каменные дома. Да только иначе развернула его жизнь… Пришел со срочной и совсем уже, было, собрался в город ехать, поступать в строительный институт, да повстречал в клубе, на танцах Валюшку, на которую до службы и внимания-то не обращал. Была она худеньким и невзрачным подростком, а за два года, пока он срочную трубил, выровнялась в высокую и статную девицу. И поразила Валюша своим синеоким взглядом гвардии старшину запаса, отличника боевой и политической подготовки, да и просто геройского парня, прямо в сердце; и уже не представлял он своей жизни без неё. Она же о том, чтобы в город переехать, даже и слышать не хотела. Покорился ей – видно, доля такая – Родину кормить. А о сыне сказал так, что не к чужим людям едет. Пусть, мол, отучится, образование получит, профессию, а дальше сам решает, где ему жить – в городе ли оставаться, или же в деревню домой возвращаться.
– Чтобы, значит, выбор у парня был, а не так, будто ветром понесло, – сказал, словно благословил сына.
Матери же решение это далось тяжело. По утрам прятала она от мужа глаза, красные от слез и бессонной ночи. Но убедительные доводы супруга точили камень её упорства.
– Не навек же, мать, прощаемся, на каникулы приезжать будет. А соскучимся, так и сами к Михаилу с Людмилой в гости наведаемся, – увещевал он.
Месяц прошел, прежде чем смирилось материнское сердце – отпустить свое единственное чадо. А бабушка – та до конца так и не верила в отъезд любимого внука. Надеялась, что выкинет блажь эту сын из головы. Но вечерами как никогда долго засиживалась на своем уютном диванчике с вязаньем в руках. Вязала бабушка подарок внуку – белый пушистый свитер, смахивая слезы старческой рукой. Гена же с трудом представлял свою жизнь без родителей, без бабушки, без того, что было так близко и дорого его сердцу. Но и незнакомый город, о котором он знал лишь по рассказам отца, уже рисовался в детском восприимчивом воображении сказочными радужными красками, звал, манил своей волнующей неизвестностью. И мало-помалу грёзы о загадочном городе перевесили привязанность к дому, и он уже с нетерпением ждал того дня, когда уедет из деревни. Быстро, – одним днем, пролетели летние каникулы, и за две недели до начала занятий отец отвез его в город, к родне. Перед отъездом Гена попрощался со всей дворовой живностью, угощая хлебом. Погладил Шарика – маленькую кудлатую дворняжку, зашел в загончик к овцам, проведал хряка Борьку. А когда прощался с Зорькой, она, как бы понимая, что происходит, с выражением большого участия все-таки исхитрилась, и лизнула его в лицо. Утершись рукавом, Гена вышел во двор и высыпал остатки хлеба перед большим белым петухом со свесившимся на бок мясистым алым гребнем. Тот, выгнув шею, стал гордо расхаживать взад и вперед, созывая кур каким-то особым петушиным токованием; и, только убедившись, что они сбежались на его зов, принялся деловито клевать крошки вместе с ними…
Джесси была не простой, обыкновенной собакой, а с родословной. То есть её родители были признаны полностью соответствующими своей породе. Иными словами, в жилах Джесси текла кровь настоящих немецких овчарок, предназначением которых было служение людям; и этот инстинкт, развитый через многие поколения породы, сделал этих собак верными и преданными помощниками человека. А так как Джесси вдобавок к этому была еще живой и любознательной от природы, то можно представить, что это была за собака. К тому же она была весьма способной, легко усваивала дрессировку, и к шести месяцам уже знала с десяток команд. А если чего-то не понимала, изо всех сил старалась угодить и сделать то, чего от неё хотят, дабы заработать похвалу, которая была для неё превыше всяких угощений. Однако если её усилия были тщетными, начиналась следующее: она прижималась к земле, не сводя при этом с хозяина преданного взгляда, размахивала из стороны в сторону хвостом, затем вдруг резко вскакивала и начинала носиться возле него, подбегая и отбегая. Это означало, что он не понят и урок придется повторить. Но если Джесси делала все правильно и слышала в голосе хозяина одобрение, её радости не было предела.
Жизнь сложна и весьма запутанна. Но, возможно, собаки воспринимают её проще, ведь она зачастую сама же и расставляет для них приоритеты. Джесси с молоком матери впитала в себя главную собачью заповедь – человек в её жизни самый главный, его трогать нельзя. Будь он даже очень маленький, например как те, что кричат и бегают друг за другом под окнами дома. Их поведение и вид были для неё странными и непонятными. Будучи щенком-подростком, она несколько раз пыталась вступить с ними в игру, но те начинали кричать еще громче, и хозяин строго подзывал её к себе. В конце концов, она просто перестала обращать на них внимание. Джесси знала, когда нужно рычать, когда лаять, а когда, если надо, то и зубы в ход пустить. Это когда тем, кого судьба вверила ей охранять, угрожает опасность. Во время прогулок она особенно внимательно наблюдала за другими собаками. А собаки были разные – добрые и совсем не опасные, но были и такие, от которых исходила потенциальная угроза. Но разве воспитанная собака, такая как Джесси, будет бросаться на других собак без видимой причины? Хотя, если честно, иногда ей этого ой как хотелось! Особенно, когда такие собаки близко подходили к Гене или Ане. И каждый раз в таких случаях она вся подбиралась изнутри, с трудом оставаясь спокойной внешне, и только цепкий, оценивающий ситуацию взгляд и едва заметное нервное подёргивание кончика хвоста выдавали её внутреннее напряжение. В особенности Джесси не любила низкорослого, с широко расставленными лапами бультерьера, который жил в их подъезде двумя этажами выше. Весь его вид был явной демонстрацией свирепой агрессии, по крайней мере, так ей казалось. Иногда он подходил очень близко. И тут уж Джесси ничего с собой поделать не могла; шерсть на её загривке вставала дыбом и, ощерив клыки, она принималась угрожающе рычать. Но бультерьер, будучи собакой бойцовской породы, презирал мелкие уличные скандалы и, окинув её равнодушным взглядом, не спеша проходил мимо с таким видом, будто он знает то, что неведомо другим. Зато Джесси, позорно поджав хвост от страха, неслась к хозяину всякий раз, когда появлялась маленькая рыжая дворняжка, так сильно напугавшая её, когда она впервые появилась в этом дворе. Хозяин же, ласково поглаживая Джесси, приговаривал:
– Ну, что же ты, дуреха! Бультерьера, почти что крокодила, не боишься, а этой пигалицы испугалась. Да ты же раз в пять больше, чем она!
Джесси успокаивалась, и ей становилось стыдно – поникшая голова и виновато опущенный хвост были тому свидетельством. Впрочем, Джесси всегда было стыдно, когда что-то заставляло её забывать о своих хозяевах и о своей ответственности за их безопасность. Ведь без этих людей жизнь потеряла бы для неё всякий смысл.
Тропинка, петляя по берегу озера, поднималась на пригорок, и оттуда было хорошо видно, как, плавно замыкая огромное водное кольцо, заканчивается озеро. Внизу, за пригорком, в низине, начинались дома, утопающие в зелени садов. Дома были большие, красивые; в большинстве – крытые красной черепицей, некоторые отсвечивали светло-серым шифером; среди них редко красной и зеленой краской пятнились дома под жестью. Гена и Джесси подходили к одному из домов, крытых черепицей, Гена открывал калитку в высоком, покрашенном в зеленый цвет дощатом заборе, и Джесси быстренько, вперед хозяина, шмыгала в калитку и сразу же бежала к Дамке. Дамка – забавная, мирная собака, помесь колли и дворняжки, по виду больше похожая на колли; но дворнягу в ней выдавали веселый уживчивый нрав, менее короткий, чем у колли, нос и более темный окрас шерсти. Днём большую часть времени Дамка проводила в вольере с высокими железными прутьями и просторной конурой внутри. Увидев Джесси и Гену, она начинала бегать по вольеру и радостно повизгивать, всем своим видом показывая, как она рада встрече. Гена открывал вольер, Дамка выбегала, и они с Джесси принимались кружить по двору, напрыгивая и играючи покусывая друг дружку. Заканчивалось это обычно тем, что Джесси делала ревизию в вольере и по-дружески подъедала все, что было в Дамкиной миске. Впрочем, Дамка, бывая в гостях у Джесси, делала то же самое. Да это как-то и принято – угощать друзей, так что никаких претензий по этому поводу они друг к дружке не имели. Кроме Дамки здесь жили Нина Яковлевна, пожилая подвижная женщина, и её дочь Даша. Джесси видела, что Даша очень походит на Аню, только голос у неё другой, и пахнет она не так. Но даже и без этого Джесси уже знала, что двух одинаковых людей, впрочем, так же, как и собак, не бывает. Даша действительно была похожа на Аню, даже больше – она доводилась ей сестрой. А это был их родительский дом, широкий и просторный, построенный еще дедом. Из окон дома виднелось озеро и другой его берег, где вперемешку с невысокими березками росли каштаны, широко и живописно раскинув ветви, высились шелковичные деревья. На небольших полянах между деревьями густо зеленели заросли дикой розы. И с трудом представлялось, что через три-четыре сотни метров от этой первозданной идиллии проходит оживленная автомагистраль многотысячного промышленного города, пыхающая смрадом выхлопных газов.
Собаки не умеют мыслить последовательно, их поведение больше основано на инстинкте, опыте или на том, что развито дрессировкой. Джесси любила слова; впрочем, не все. Ей очень нравилось слово «Гена». Некоторые люди произносили его на свой лад – «Геннадий». Это слово обозначало её хозяина. И даже в его отсутствие, услышав «Гена» либо «Геннадий», она начинала радостно размахивать хвостом. Слова «Гена», «Аня» и некоторые другие олицетворяли собой конкретных людей, и когда она слышала их, в её сознании появлялся образ определенного человека. Она очень любила слово «гулять», и как только Гена или Аня, обращаясь к ней, говорили: «Джесси, гулять!», живо бежала в комнату, хватала зубами поводок, который обычно висел на спинке стула, и спешила обратно. Еще она любила слово «кушать». И когда оно звучало, знала, что сейчас ей в миску положат что-то вкусное. Иногда это была каша из кастрюли, а иногда – аппетитные хрустящие шарики из большого бумажного пакета. Джесси знала, где он лежит, и однажды, проголодавшись, слегка потянула на себя зубами ручку дверцы шкафчика. Дверца легко поддалась, она вытянула пакет зубами, без особых усилий разодрала его, вдоволь наелась, а оставшийся корм разбросала по кухне. Затем, отяжелев от еды, прилегла на коврик вздремнуть. О том, что было дальше, Джесси вспоминала впоследствии всегда с большой неохотой – лишь тогда, когда у неё вновь появлялось желание повторить то, что она уже сделала однажды. А тогда хозяин взял её за ошейник, протащил из комнаты в кухню и, показывая пальцем на разодранный пакет и разбросанный корм, несколько раз очень строго проговорил «Нельзя!» и, ударив напоследок ладошкой по заду, отпустил. Джесси, оскорбленная до глубины души, но вполне принимая наказание как заслуженное, поплелась в комнату. Такое, чтобы её били, случалось редко, возможно, всего пару раз – тогда, когда она грубо попирала границы слова «нельзя». Ведь, если честно, это самое «нельзя» звучало в её сознании когда, она открывала дверцу шкафа, рвала зубами пакет, когда ела и раскидывала корм по полу. Слово «нельзя» было самым нелюбимым словом Джесси, и всегда стояло перед ней, как заслон её своеволию. Да, и если честно – кому это нравится, когда чего-то очень хочется, а тебе говорят «нельзя»?.. А вот слово «домой» нравилось Джесси в зависимости от обстоятельств. Например, если на улице было ясно и тепло, а звучала команда «домой», ей это не нравилось. Когда же было холодно, сыро и моросил дождь, команда «домой» звучала для неё как спасение от этой мерзопакостной погоды.