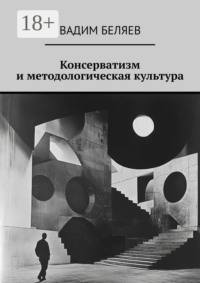Read the book: «Консерватизм и методологическая культура»
© Вадим Беляев, 2025
ISBN 978-5-0065-2086-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
В современном мире, насыщенном множеством социокультурных конфликтов и идеологических противоречий, необходимость в развитии методологической культуры становится все более актуальной. Настоящая монография представляет собой сборник статей, каждая из которых исследует важные аспекты методологического подхода к анализу реалий нашего времени. Анализируя различные точки зрения, автор стремится показать, что только благодаря глубокой рефлексии и высокоразвитой методологической культуре можно достичь конструктивного диалога и понимания в условиях глобализации и стремительных изменений.
В качестве объекта для анализа автор берет ряд позиций, которые в той или иной мере являются консервативными и находятся в контрпозиции по отношению к современному глобальному миру, являющемуся продуктом глобализации модерна.
Первая статья «Консерватизм и методологическая культура» поднимает вопрос о том, как консервативные позиции могут быть обогащены методологическим мышлением. Анализируя взгляды В. Ю. Даренского и подчеркивая важность расширения методологической культуры, автор утверждает, что именно благодаря открытости и готовности к диалогу можно избежать примитивизации мышления и негативных стереотипов. Это особенно важно в свете социокультурной поляризации, где речь идет о строительстве мостов между «своими» и «чужими».
Следующая работа «Беспочвенность современного мира и методологическая культура» исследует кризис идентичности через призму антропологического подхода. Автор подчеркивает, что конфессиональная раздробленность и слияние религий с культурными системами ведут к глобальным конфликтам, создавая потребность в пересмотре подхода к христианству и его роли в современном обществе. Основная идея заключается в том, что возвращение к метафизическим корням может привести к восстановлению идеологических конфликтов, типичных для средневекового периода.
В статье «Мещанство современного мира и методологическая культура» рассматриваются недостатки рефлексивного анализа в современных социальных обсуждениях. Автор ставит задачу выявления очевидных упрощений в мыслях А. И. Вакулинской и В. А. Кудрявцева, сигнализируя о необходимости более глубокого осмысления и диалога между авангардным и рефлексивным мышлением. Без этого рефлексивного подхода мы рискуем свести социальную реальность к поверхностным оценкам, игнорируя сложные взаимодействия, которые определяют наше существование.
Статья «Глобальный человейник» А. А. Зиновьева продолжает исследование методологических проблем, связанных с технологическим доминированием и социальным контролем. Автор обсуждает философские подходы к критике модерна и необходимость понимания сложных социальных динамик, подчеркивая, что без надлежащего методологического обоснования невозможно полноценно анализировать современные дискурсы и их влияние на индивидуальное сознание.
Наконец, работа «Постмодернизм, русская национальная идея и методологическая культура» затрагивает важные аспекты поляризации взглядов на постмодернистскую эпоху. Автор критикует узкие и однобокие подходы, предлагая расширить методологическую перспективу для более глубокого понимания взаимосвязанности современного опыта и культурных традиций. Оспаривая идею «закрытости» культур, автор подчеркивает необходимость создания открытого общества, которое способно на конструктивный диалог и интеграцию различных мировоззрений.
Таким образом, сборник статей направлен на углубление нашего понимания методологической культуры, напоминает о том, что адекватный анализ социокультурной реальности требует комплексного, рефлексивного подхода. Каждый из представленных текстов, основанный на критическом анализе, создает пространство для интеллектуального диалога и осмысленного обсуждения современных вызовов.
Фундаментом этого исследования является специфическая социокультурная методология и параметрическая реконструкция социокультурной логики модерна-постмодерна, разработанная автором в ряде предшествующих исследований:
Беляев В. А. Логика истории и самосознания модерна: Между «закрытым» и «открытым» универсумами. Модерн как вторая редакция «мировой этической революции» христианства. Полемика с контр-модерном. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 528 с.
Беляев В. А. Логика культурных форм и логика истории. Макросоциология предельных теорий: Методологический анализ оснований. Выделенная роль модерна. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 480 с.
Беляев В. А. Методологическое пространство европейской философии: Между первыми и вторым просвещениями. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 480 с.
Беляев В. А. Социокультурная методология в действии: В сопоставлении с традиционной, феноменологической методологиями и миросистемным анализом. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – 368 с.
Беляев В. А. Философия в зеркале социокультурной методологии (через критику позиции Ю.И.Семенова): Кн. 1. Основные представления. – М.: URSS, 2020. – 224 с.
Беляев В. А. Философия в зеркале социокультурной методологии (через критику позиции Ю.И.Семенова): Кн. 2. Функционалистская революция модерна. – М.: URSS, 2020. – 224 с.
Беляев В. А. «Вечный капитализм» и логика модерна: Через критику концепции «Трех великих трансформаций глобального капитализма». Книга 1: Методологические основания анализа. Первая и вторая фазы модернизации и глобализации. – М.: URSS, 2021. – 382 с.
Беляев В. А. «Вечный капитализм» и логика модерна: Через критику концепции «Трех великих трансформаций глобального капитализма». Книга 2: Третья фаза модернизации и глобализации. – М.: URSS, 2021. – 224 с.
Беляев В. А. Континентальная философия: Через критику книги Д. Уэста «Континентальная философия. Введение». – М.: URSS, 2021. – 416 с.
Беляев В. А. Методологический дискурс о модерне: Через критику книги Ю. Хабермаса «Философский дискурс о модерне». – М.: URSS, 2022. – 367 с.
Беляев В. А. Методология как социокультурный феномен: Методология в широком смысле. Социокультурная методология. Методология ММК в зеркале социокультурной методологии. – М.: URSS, 2022. – 406 с.
Беляев В. А. Методология ММК в зеркале социокультурной методологии. – М.: КнигИздат, 2022. – 308 с.
Беляев В. А. Европейская социальность в зеркале социокультурной методологии и параметрической реконструкции. – М.: КнигИздат, 2022. – 428 с.
Беляев В. А. Методологический дискурс о постмодерне: между про-капитализмом и контр-капитализмом. – [б.м.]: Издательские решения, 2023. – 378 с.
Беляев В. А. Современный культуроцентризм и история в поисках общечеловеческого. Российский проект цивилизационного развития и Программа мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2023. – 416 с.
Беляев В. А. Современный культуроцентризм как объект методологического анализа. Теория интегральных аспектов мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2024. – 309 с.
Беляев В. А. Методологическое пространство мышления о культурно-специфическом и посткультурно-общечеловеческом. – [б.м.]: Издательские решения, 2024. – 268 с.
Глава 1. Консерватизм и методологическая культура
Эта статья является анализом позиции В. Ю. Даренского, изложенной в статье «Александр Зиновьев как советский традиционалист»1. Объектом критики Даренского становится советская система и представления Зиновьева о ней. Сам Даренский занимает консервативную позицию. Задачей автора статьи является анализ этой позиции, рассмотрение её на предмет проявления в ней методологической культуры. Главным убеждением автора является необходимость увеличения методологической культуры как основания для конструктивного мышления, особенно важного для социокультурной реальности. Свертывание методологической культуры превращает мышление о социокультурном в черно-белое разделение на «своих» и «чужих», исключительно позитивное представление о «своих» и исключительно негативное представление о «чужих». Развертывание методологической культуры, наоборот, должно приводить к тому, что каждая из сторон будет в максимальной степени придавать позитивное содержание своим оппонентам. Так можно будет развернуть максимальный план конструктивности диалога позиций.
1. Содержание советской системы было консервативным? Вопросы «в противоположном направлении»
Начинает Даренский со стремления показать, что позитивное содержание советской системы было консервативным.
«Сознание советского человека вопреки официальной идеологии менее всего было «революционным», но в первую очередь – охранительным. Главный мотив советского сознания – сохранить: «достижения революции», «наследие великой Победы», наследие русской культуры, моральные устои и т. д. Главный итог советского периода – утрата всего названного, то есть полное поражение. Именно в этом состоит его главное поражение, а «распад СССР» оказался уже следствием и поэтому был неизбежен вследствие сугубо внутренних причин, а не козней внешних врагов. Внешний фактор вообще мог играть в этом только самую минимальную роль, поскольку СССР был закрытым обществом.
«Революционное» сознание доминировало в СССР только в 1920-х годах в виде «троцкизма» и было основано на самой радикальной русофобии, которая сами слова «русский» и «Родина» трактовала как контрреволюцию. В 1930-х годах режим Сталина фактически восстановил под другими названиями институты традиционного общества, на которых была основана Российская Империя, – монархию, правящую касту, семью, профессиональную армию, догматику в виде идеологии, платное среднее образование, культ классической культуры и т. д. И только благодаря этому квазимперскому возрождению СССР смог победить в войне и просуществовать еще несколько десятилетий. На основе «революционного» троцкизма это было бы принципиально невозможно»2.
Проанализируем сказанное.
Моя задача здесь – не показать, что Даренский мыслил неправильно о дореволюционной России и СССР, а показать утрату в его дискурсе методологической культуры.
Уже в приведенных высказываниях можно видеть эту утрату. Даренский утверждает, что «сознание советского человека вопреки официальной идеологии менее всего было „революционным“, но в первую очередь – охранительным». Прежде всего можно обратить внимание на адресацию «советский человек». Кого имеет в виду Даренский? В анализе любой социокультурной системы придется отделять «правящую элиту» и «официальную идеологию» от «народа» и «массового сознания». Будем считать, что здесь Даренский просто высказался слишком обобщенно. Хотя в противопоставлении правящей элиты и народа кроется тот потенциал, который позволяет говорить об охранительных тенденциях «сверху» и либерально-освободительных тенденциях «снизу» (или наоборот). Если мы будем подразумевать, что русская революция (1905 и 1917 гг.) прежде всего имела либерально-демократический заряд, то у нас вполне четко прорисовывается логика, по которой первоначальный период революции, который завершился гражданской войной и продолжался в политике НЭПа, был периодом либерализации (хотя и в границах коммунистической идеологии), а начиная со сталинского периода и далее социальные преобразования формировали логику идеологического и мобилизационного общества. К началу 80-х годов это общество исчерпало свои ресурсы и стало максимальным образом демонстрировать противоречие между идеологией и реальностью. Именно это противоречие сформировало новую волну либеральных направленностей, которая выразилась в перестройке и расформировании СССР. В эту же логику вписывается «оттепель» 60-х как волна послесталинской либерализации.
Для того, чтобы показать в этом конкретном случае свертывание методологической культуры, зададим вопрос: схематика какой позиции в этом случае является более сложной и объемной? Для меня вполне очевидно, что схематика Даренского является сильно упрощающей реальность. Она утверждает, что и русская революция, и советское общество не обладают собственными позитивными характеристиками. Все, что есть в них позитивного, является продуктом сохраненных и превращенных форм дореволюционной России. Если нужно будет усложнить и сделать более объемным представление об этих реальностях, то придется задавать вопросы «в противоположном направлении». Насколько верно, что революция не имеет позитивных характеристик? А если мы будем считать, что нет революций, возникших на пустом месте (или по заговору извне)? Тогда придется искать логику русской революции как ту, которая идет прежде всего от внутренних проблем России. Имея в виду, что русская революция в своем истоке является либерально-демократической революцией, придется искать симметрии между русской революцией и подобными революциями всего модерна (и всего мира). Придется придать модерну позитивный смысл (как способу решения каких-то важных жизненных проблем, ответов на важные вызовы). Все это задаст принципиально иную (а главное, более сложную) перспективу и развитию России и мировому развитию. Надо обратить внимание, что, идя по этой линии, мы будем идти с усложнением. При переходе от этой логики к логике Даренского мы сильно упростим реальность. Модерн станет восприниматься чисто негативно. Русская революция (как воспроизведение логики модерна) станет восприниматься чисто негативно. Дореволюционная Россия (как «традиционная православная цивилизация») станет пониматься чисто позитивно. Эволюция СССР превратится в простую растрату дореволюционных цивилизационных устоев. И только советские охранители и государственники (как Сталин) получат какую-то позитивную оценку.
2. Есть ли у «реального коммунизма» своя идеальная программа? Новая реализационная логика просвещенческой программы освобождения-объединения. Соотношение между идеологическим планом социокультурных систем и их реальным существованием
Будем читать текст Даренского дальше.
«Парадокс истории состоит в том, что глубинную и подлинную суть каждой эпохи раскрывает не она сама, а следующая за ней эпоха, показывающая конечный результат эпохи предшествующей. Так, пресловутые «достижения СССР» были совершены еще старым, царским русским народом, попавшим под власть большевиков и просто боровшимся за выживание. А. А. Зиновьев писал: «…реальный коммунистический строй есть прежде всего и по преимуществу способ выживания в предельно трудных условиях, а не способ достижения некоего общества всеобщего благополучия и счастья». Тем самым советский строй создавался вовсе не в соответствии с неким планом и теорией, а просто в силу того, что нормальной способ социальной жизни был разрушен «революцией», и оставалось только лишь «выживать» на самом архаическом уровне. Но этот мученический подвиг народа большевики лицемерным образом приписали себе и своей власти, а на самом деле это была лишь варварская растрата могучих человеческих ресурсов, созданных Российской Империей.
«Советский строй» стал возможен только потому, что он паразитировал на лучших качествах народа, сформированных намного раньше традиционной православной цивилизацией. Но сам «советский строй» эти качества не воспроизводил, а наоборот, активно разрушал. Поэтому когда у новых поколений эти качества иссякли, СССР разрушился автоматически, поскольку исчез тот человеческий ресурс, за счет которого он существовал. Даже коллективизм на самом деле вовсе не был советским, а был получен уже как готовое качество народа, сформированное христианской моралью самопожертвования и психологией русской крестьянской общины. Этот коллективизм вовсе не был советским, но существовал, пока были живы поколения, родившиеся еще в царской России. А уже новые советские поколения вопреки официальной пропаганде формировались с психологией эгоцентрического потребительства, и когда с 1960-1970-х годов они стали преобладать, СССР был уже обречен, поскольку не мог обеспечить запросы этого нового типа людей, который стал господствующим. То же самое можно сказать и о других позитивных качествах народа – от терпения до потребности в вере и идеале. Все они были качествами старого православного народа, а у советского человека могли сохраняться только в виде исключения под влиянием традиций предков. Тем самым можно сказать, что главным социальным законом советского общества был закон его неизбежной самоликвидации вследствие нравственной деградации народа»3.
Проанализируем сказанное.
Во-первых.
Надо обратить внимание на то, что Даренский отказывает «реальному коммунизму» в том, чтобы быть воплощением некой идеальной программы. Возникает вопрос: на каких основаниях? Основаниями оказываются возможности проинтерпретировать основы советского общества как трансформы общества дореволюционной России. Тогда возникает вопрос относительно логичности такой интерпретации. Вроде бы достаточно очевидно, что коммунизм как социально-политическая идея возник в Западной Европе нового времени. Если не идти дальше в историю и не проводить параллели между антропологической революцией христианства и коммунизмом нового времени, то не будет оснований сводить коммунизм к цивилизационным особенностям какой-либо социокультурной области. У марксистского коммунистического проекта есть своя идеальная программа. Если говорить совсем просто, то это программа преодоления классового неравенства и эксплуатации человека человеком, развития деятельностных возможностей человека и утверждения его творческой сути. Кроме того, это программа освобождения-объединения человечества, основанная на преодолении его изначальной разделенности культурно-национальными мирами (интернационализм). Безусловно, это идеальная программа, которую можно считать нереализуемой или несоответствующей человеческой природе. Но отказывать марксизму в наличии этой программы просто неадекватно исторической реальности. Так почему Даренский рассуждает так, словно такой программы либо вообще нет, либо её можно игнорировать?
Ответ кажется довольно простым: это является следствием уже принятой им позиции, по которой советская система не имела ничего своего, даже в отношении идеалов. Если сделать ход в противоположном направлении, то должно получиться, что у советской идеологии была идеальная программа, достойная рассмотрения. Но реализация этой программы оказалась такой, что, соединившись с логикой системной социальности, она стала скорее обслуживать эту социальность, чем освобождать человека от неё.
Надо акцентировать, что идеальное содержание марксизма является попыткой придать новую реализационную логику просвещенческой программе освобождения-объединения, выраженной в лозунге «Свобода. Равенство. Братство». Марксизм (в противоположность буржуазному либерализму) по-новому акцентирует классовую борьбу и эксплуатацию человека человеком. В эту борьбу включается и буржуазный вариант реализации просвещенческих идеалов. Марксизм пытается преодолеть и этот тип эксплуататорского общества. В этом смысле идеальный пафос марксизма утверждает новый этап мирового освобождения-объединения, новый этап борьбы с негативно понимаемой общественной заданностью человека. Во всяком случае, в марксизме присутствует в качестве центрального идеального содержания именно это. Актуализация этого в марксизме ХХ века выражается в разного рода «критике системы» (чем, например, занимается Франкфуртская школа, которая акцентирует пафос освобождения от негативно понимаемой социальной заданности).
Если мы будем принимать всё это к сведению, то нам придётся разделить идеально-проектный и реализационный планы советской системы и говорить о том, как соответствовали эти планы друг другу. Нам придётся говорить о непростой логике реализации идеалов вообще. Придётся не просто не игнорировать марксистскую идеальную программу, а показывать её генезис, показывать, каким образом дореволюционная Россия могла оказываться реальностью, подлежащей трансформации с точки зрения марксистской программы. Показывать непростые метаморфозы идеальной программы при её реализации в конкретике советской системы и т. п. Получится сложная логика, которую нельзя будет просто так свести к логике примитивного выживания, с одной стороны, и к остаточным эффектам «традиционной православной цивилизации» – с другой.
Как и раньше, можно говорить о том, что дискурс Даренского сильно упрощает реальность, что в свою очередь является снижением уровня методологической культуры. Даренский трактует ту социальную инерцию, которую можно признать существующей при переходе от царской России к советской, как чисто позитивную. Это проявление чисто позитивных свойств «традиционной православной цивилизации». Но более логичным является противоположная точка зрения, которая рассматривает негативные аспекты советского авторитаризма-тоталитаризма как проявление остаточной логики имперской системности. Эту логику, например, рассматривает А. Ахиезер в своей книге о «колее» русской истории4. Его логика не является безупречной, но она утверждает важную идею об инерционном влиянии институтов и принципов массовых слоев народа на действия правящей элиты.
Для того чтобы показать, как можно актуализировать логику идеального марксистского проекта и его реализационную логику в рамках советской социальной системы, проделаем мысленный эксперимент и будем критиковать «православную цивилизацию», основываясь на логике Даренского. Мы должны будем утвердить в качестве главной объяснительной схемы безусловную позитивность языческой культуры. Православную цивилизацию мы будем трактовать как чисто негативную. Всё позитивное содержание этой цивилизации мы будем утверждать как остаточное проявление логики языческого мира. Те качества, которые у Даренского производны от православной цивилизации («от терпения до потребности в вере и идеале»), будут производны от языческого мира. Православие будет рассматриваться как вообще не имеющее своей идеальной программы. По какой логике придется действовать тому, кто захочет восстановить идеально-проектные права православия и позитивность православной цивилизации? По той, которую применял я, восстанавливая позитивное содержание марксистской программы и советской системы. Надо будет раскрыть идеально-проектное содержание православия. Надо будет говорить о непростой логике реализации христианского вероучения и христианской церкви в условиях её симбиоза с социальной системностью. Надо будет показывать все основные метаморфозы, которые претерпевают институционализированные церковь и учение (например, возможные эпизоды подчинения церкви светской власти, необходимость оправдывать логику наличной социальной системы и т.п.). Это будет путь усложнения, в противоположность пути упрощения, который будет занимать условный критик православной цивилизации.
Во-вторых.
Далее следует обратить внимание на то, что суть перехода от советской системы к постсоветской описывается Даренским как переход к потребительской идеологии. Советский «коллективизм вовсе не был советским, но существовал, пока были живы поколения, родившиеся еще в царской России. А уже новые советские поколения вопреки официальной пропаганде формировались с психологией эгоцентрического потребительства, и когда с 1960-1970-х годов они стали преобладать, СССР был уже обречен, поскольку не мог обеспечить запросы этого нового типа людей, который стал господствующим».
Казалось бы, что перестройку и расформирование СССР логичнее всего описывать как критику тоталитарно-идеологической системы, желание реформировать эту систему. Разумеется, что параллельно с этим происходила критика и экономического аспекта системы, но она не была главной. Если вспомнить тематику перестроечной и постперестроечной критики, то она была сосредоточена на восстановлении либерально-демократического представления о человеке. В противоположной большевистской версии революции утверждалась позитивность её либерально-буржуазного варианта. У этого варианта революции было своё идеальное содержание, которое является модерновым, но докоммунистическим. То есть можно говорить, что критика советской системы утверждала возврат к домарксистскому варианту просвещенческой программы. Это было идеальным содержанием этого движения. Параллельно с этим шла критика и экономического аспекта советской системы, но это не было главным.
Даренский отказывается видеть всю эту логику. Для него «уже новые советские поколения, вопреки официальной пропаганде, формировались с психологией эгоцентрического потребительства». Прежде всего, это игнорирует то содержание советской системы, которое было как раз продуктом очарования коммунистическими идеями, вообще идеями построения нового мира. Игнорируется тот факт, что поколение 60-х было в своей основе поколением, верившим в коммунистические идеалы и готовым их реализовывать. Это поколение боролось с системой, которая для них была слишком инертной и догматичной. Они боролись с советским идеологическим обществом. Следующее за ними поколение уже можно считать тем, которое не поддерживало активно коммунистические идеи, которое было разочаровано в них и видело громадный разрыв между идеологией и реальностью. Именно этот разрыв стал главным вызовом, ответом на который стала и перестройка, и демонтаж СССР.
Если мы будем смотреть на логику советской системы именно так, то наш взгляд будет более сложным, чем тот, который предлагает Даренский.
В-третьих.
Если сделать обобщение, то можно говорить о том, что методологически конструктивный вариант мышления с точки зрения какой-либо позиции должен придавать своим оппонентам максимум позитивности. Противоположным вариантом является тот, в котором создаётся черно-белая логика. Своя реальность утверждается как чисто позитивная, а реальность условного противника утверждается как чисто негативная. Этот вариант просматривается у Даренского. Вместо того чтобы придать максимум позитивности модерновому миру, его буржуазным и коммунистическим вариантам, утверждается, что и советская система, и тем более западный буржуазный мир по своей сути сводятся к идеологии потребительства. В них вообще нет позитивного идеологического содержания. Позитивность утверждается только за «традиционной православной цивилизацией» (а в более общем смысле, очевидно, за традиционной «цивилизационной» структурой культурно-исторического пространства). Модерн рассматривается как не имеющий своего позитивного идеально-проектного содержания.
Вообще, надо обратить внимание на то, что Даренский отказывается проблематизировать соотношение между идеологическим планом социокультурных систем и их реальным существованием. Если мы будем это актуализировать, то легко придём к возможности указывать на расхождение в идеологическом плане советской системы и реального существования советского человека. В качестве общей логики можно утверждать, что первоначальный период является тем, в котором вера в утверждаемые «сверху» идеалы находится на подъёме, а поздний период является тем, в котором вера в идеалы в максимальной степени дискредитирована разными реальностями (в том числе и реальным функционированием идеологических институтов). Так мы можем связать царский, советский и постсоветский периоды России. Русская революция 1905—1917 годов в качестве идеологического содержания имела под собой критику наличной социокультурной системы, а в ней – критику её религиозно-монархической идеологии. Можно говорить о том, что революция актуализировала альтернативную идеологическую программу, которая воспринималась достаточно позитивно для того, чтобы быть перспективой нового мира. Советская система стала реализацией марксистского варианта нового мира. На первоначальном этапе можно было говорить об утверждении веры в соответствующие идеалы. На позднем этапе можно было говорить об отходе от веры в эти идеалы. Но это было не простым «безверием». Это было возможностью актуализировать либерально-демократический вариант модернового проекта в противоположность коммунистическому. Между первоначальным и поздним периодами развертывания социокультурной системы происходит реализационная критика, которая фиксирует разрыв между идеалами и реальностью. Так мы приходим к единой схеме, по которой каждый из вариантов идеологии имеет потенциал быть оторванным от реальности. «Православная цивилизация» не будет чем-то, что свободно от этой логики и превращено в нечто безусловно позитивное, что может быть разрушено только усилиями извне.
Снова можно говорить о том, что черно-белая позиция Даренского является откровенным упрощением реальности.