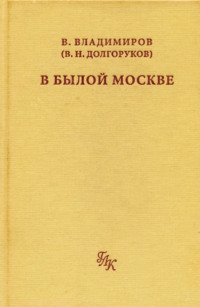This book cannot be downloaded as a file but can be read in our app or online on the website.
Read the book: «В былой Москве…»

Владимир Николаевич Долгоруков
(1899–1966)
Составление и редакция Е. С. Дружининой (Шервинской)
© Е. С. Дружинина, составление, текст, репродукции акварелей М. С. и О. С. Соловьевых
© Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина
Потомок Пиковой дамы
Мощное древо «советской» литературы для детей и юношества – яркое явление мировой культуры – ныне в значительной степени поросло травой забвения и сорняками развлекательного чтива. Конечно, на нем всегда были рубцы и шрамы уродливой идеологии, жесткой цензуры, диктата прописных истин – но это, может быть, способствовало напряжению формы. Так, в изобразительном искусстве есть понятие «сопротивление материала». Особенно интересен пласт детской исторической литературы, хотя, наверное, наиболее идеологизированной, – но она делалась людьми умными, интеллигентными и талантливыми.
Автору этой книжки еще Максим Горький предрек будущее – детский исторический писатель. Задолго до Великой Отечественной войны увидели свет его книжки о Бенджамене Франклине и о Джеймсе Куке, их отличала добротность и глубина поднятого материала, знание изображаемой эпохи, они были живо и увлекательно написаны. Книжку о Куке раскритиковали в печати, автор послал ее Горькому, тому понравилось – и автор был приглашен на 1-й съезд советских писателей. Так появился член Союза писателей – В. Владимиров.
Но это – псевдоним человека, который родился и прожил первую четверть века своей жизни как князь Владимир Николаевич Долгоруков. Он происходил из знатнейшего на Руси рода потомков легендарного Рюрика и Владимира Святого, крестившего Русь. Этот род всю русскую историю был в первых рядах московской знати, но сильно пострадал в конце XVII века во времена стрелецких бунтов и, особенно, затем, при Анне Иоанновне – четверо Долгоруковых были казнены и еще некоторые сосланы по делу о «подложном завещании» юного императора Петра II, внука Петра I, неожиданно умершего от простуды вскоре после обручения с княжной Екатериной Долгоруковой. Это был полный разгром честолюбивой семьи.
Славу и прежнее положение роду Долгоруковых вернул прямой предок Владимира Николаевича – генераланшеф Василий Михайлович Долгоруков, знаменитый полководец, получивший к своей фамилии титул «Крымский» за покорение Крыма.
Славных полководцев в числе предков Владимира Николаевича было много. Тут Александр Невский и Дмитрий Донской, основатель Великого княжества Литовского Гедимин и полководец Ивана Грозного князь Хворостинин, герой Куликовской битвы Боброк Волынский и герой войны 1812 г. главнокомандующий Москвы светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын. Мать последнего, знаменитая законодательница жизни российского дворянства XVIII–XIX вв., прожившая почти 100 лет, княгиня Наталья Петровна Голицына, урожденная графиня Чернышева, которую все узнали в образе старой графини в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», была Владимиру Николаевичу прапрапрабабкой.
Перечислить всех знаменитых предков писателя В. Владимирова, конечно, невозможно. У каждого человека двое родителей, и с каждым поколением число предков неизбежно удваивается, достигая уже через несколько веков огромных величин. Конечно, в послереволюционные времена иметь таких знаменитых родственников было крайне опасно. Особенно, надо думать, таких, как два его дяди-близнеца – активные кадеты, неутомимые борцы с советской властью, погибшие в ее застенках.
Хотя его ветви рода принадлежали знаменитые подмосковные вотчины: Знаменское-Губайлово (ныне г. Красногорск) и Волынщино под Рузой, усадьба и храм которой построены, как иногда считается, самим В. И. Баженовым или кем-то из его учеников, детство Владимира Николаевича прошло в имении его бабушки графини Симонич под городом Новозыбковым Черниговской губернии, одном из центров русского старообрядчества, – о людях и событиях этого времени, о слугах и гувернерах у писа теля были интереснейшие воспоминания, о чем еще придется вспомнить.
Отец его окончил Московский университет, служил в канцелярии московского губернатора, своего дальнего родственника, мать его была Голицына, но другой ветви, нежели прабабушка, внучка «Пиковой дамы». Отец умер вскоре после его рождения, и воспитанием детей занималась мать, трогательные и взволнованные воспоминания о которой тоже были у Владимира Николаевича.
Он окончил любимую московской знатью Поливановскую гимназию – на Пречистенке, там сейчас художественная и музыкальная школы. О школе, учениках и преподавателях у него тоже были отточенные воспоминания – новеллы.
С юности он очень любил театр – это пришло к нему от матери, завзятой театралки. У них дома бывали великие артисты прошлого: Федотова, Собинов, позже Качалов, Москвин и другие. Еще гимназистом и потом уже студентом он участвовал во многих любительских спектаклях, помню его рассказы о постановках в доме богача Харитоненко на Софийской набережной – сейчас это дом Английского посольства. В этих спектаклях участвовал и Качалов, с юных лет он даже сам ставил детские спектакли в домах московской знати.
Потом он поступил в университет на юридический факультет. Но вскоре началась война, и, не окончив курса, он ушел на фронт «вольноопределяющимся», как называли тогда добровольцев. По-видимому, его семья была очень богата. Я помню его рассказы, поражавшие мое воображение, что он на фронт ездил на собственном автомобиле с личным шофером. И об этом шофере и о войне у него тоже были короткие и выразительные новеллы. На фронте он был тяжело контужен и страдал от этого до конца дней.
Как складывалась его жизнь во время революции и гражданской войны, я не очень знаю. После контузии, после госпиталя он оказался на Украине – он там и воевал, был в Киеве во времена Скоропадского, и Петлюры, и Советов, – кажется, власть в Киеве тогда менялась 15 раз. Уехать за границу он то ли не смог, то ли не захотел. Конечно, можно себе представить, каково ему было в те времена с его фамилией. Думаю еще, что на его судьбу влияло и то обстоятельство, что он был холост, необыкновенно красив типично «долгоруковской» красотой – высок, статен, крупные выразительные черты лица, сверкающие темные глаза под густыми бровями, волевой подбородок, орлиный нос, подстриженные усики. И был он очень артистичен – надо думать, что женщины во многом строили его жизнь. Насколько я помню, в Киеве он работал в Управлении театров кем-то вроде репертуарного уполномоченного.
Потом он вернулся в Москву, вошел в круг талантливых московских интеллигентов: поэт Сергей Шервинский, композитор Василенко, искусствовед Габричевский, поэт-переводчик Липскеров и метеором ворвавшийся в Москву и литературу Михаил Афанасьевич Булгаков. Возобновились старые театральные знакомства, он стал сотрудничать с МХАТ’ом, был там штатным консультантом по «дворянскому быту». Помню, что он смеялся – режиссер ни за что не соглашался допускать в реквизит в «Трех сестрах» самовар, соглашаясь лишь на какую-то спиртовку.
Тогда вся Москва, вся страна увлекалась театром – Владимир Николаевич играл, ставил часто детские спектакли, инсценировки, стихи. Он общался и дружил со многими яркими деятелями литературы и искусства, о многих у него были рассказы, устные и записанные. Замечательные воспоминания у него были и о его жизни в эвакуации в Средней Азии.
В конце войны он возвратился в Москву. Годы шли, а семейная жизнь у него так и не сложилась. После какого-то крутого жизненного поворота он оказался в больнице с инфарктом, откуда его взяла «за себя» наша соседка, милая женщина с тремя детьми, вдова, Нина Васильевна Родионова, которая прежде ему стирала. Так он стал жить в одной комнате в нашей многонаселенной квартире на антресолях старого деревянного дома возле Зачатьевского монастыря, в типичной «Вороньей слободке».
В это время им были написаны и изданы в «Детгизе» две его лучшие книжки – «Последний консул» и «Повесть о школяре Иве», тепло встреченные читателями и критиками, хорошо и внимательно проиллюстрированные художником Иваном Купцовым, большим знатоком эпохи Средневековья.
«Старик все пишет и сном не позабылся», – слышал я почти ежедневно у себя за спиной его красивый, поставленный голос с актерской аффектацией. Владимир Николаевич удобно усаживался в кресло, и начинались его бесконечные рассказы: о Новозыбкове, о слугах, о «германской» войне, о МХАТ’е и его актерах, со многими из которых он дружил, и больше всего о Булгакове.
В воспоминаниях Л. Е. Белозерской-Булгаковой, второй жены писателя, Владимир Николаевич назван «наш придворный поэт ВэДэ», т. е. Владимир Долгоруков. У художницы Н. А. Ушаковой – с ней и ее мужем Николаем Ляминым тоже дружили Булгаковы – я видел рукописную поэтическую книжку, сочиненную, в основном, Владимиром Николаевичем, со смешными рисунками Ушаковой – «Мука Маки» – про Булгакова и его кошку («Мака» – шутливое прозвище Булгакова).
Много всего интересного я слышал тогда от Владимира Николаевича, но, по молодому легкомыслию или занятый работой, слушал его вполуха, правда, я знал, что большинство его рассказов записано и я их когда-нибудь не торопясь прочту. Не ведал я тогда, что рукописи все же горят!
Мы прожили рядом более 10 лет, с 1949 по 1962 годы. Он был давним знакомым нашей семьи, а одна из моих тетушек даже была влюблена в него в молодости. Работать, писать свои повести он ходил к Шервинским, где в квартире поэта и переводчика Сергея Васильевича Шервинского жила бывшая жена Владимира Николаевича, моя первая учительница рисования художница Мария Сергеевна Соловьева. Там в большой библиотеке русских и французских изданий Владимир Николаевич и черпал материалы для своих исторических повестей.
Потом, когда наши соседи получили квартиру на юго-западе Москвы, мы стали видеться очень редко. В июле 1966 года он умер. Перед смертью он впал в некоторое помрачение рассудка и все свои записи, воспоминания сжег. Так погиб бесценный архив, замечательные новеллы, которые, может быть, составили бы гордость нашей литературы…
Я думаю, Вы оцените писательский талант В. Н. Долгорукова, раскрывшийся в этой книжке.
В. В. Перцов,заслуженный художник Российской Федерации
Одна судьба
(Памяти Владимира Николаевича Долгорукова)
Долгоруковы или Долгорукие – русский княжеский род, происходящий от светлейшего князя Михаила Всеволодовича Черниговского. Потомок его в седьмом колене, князь Иван Андреевич Оболенский, прозванный Долгоруким, был родоначальником князей Долгоруковых.
Мне довелось знать Владимира Николаевича Долгорукова, потомка этого знаменитого рода, когда он носил фамилию Владимиров – позорный псевдоним, свидетельствующий о постоянном ужасе перед советской властью, о преследованиях, которым он подвергался и которые привели его к заболеванию тяжелым недугом – боязнью пространства. Под этой безликой фамилией он и издавал свои книги для юношества, свои переводы, в частности, Лабиша, предисловие к которому я помогала ему писать. Я тогда только окончила Институт иностранных языков, и Владимир Николаевич попросил меня поработать для него в библиотеке. Я удивилась и спросила отца, почему он не хо чет это сделать сам, так как не была еще уверена в своих силах, на что отец мне ответил, что Владимир Николаевич не может добраться до библиотеки из-за предельно расстроенной нервной системы. Меня это поразило: я была девочкой и не замечала этого болезненного состояния Владимира Николаевича, какчасы появлявшегося в нашем доме в Померанцевом переулке, 8, куда он приходил ежедневно, чтобы поработать в тишине под лампой в дальней комнате (бывшей приемной моего деда – известного в Москве врача Василия Дмитриевича Шервинского), где в ту пору ему предоставлялся кров уже моим отцом. Ко времени работы над Лабишем Владимир Николаевич жил уже не в нашем доме, а в Молочном переулке у Остоженки.
Утреннее появление Владимира Николаевича сопровождалось раскатистой блестящей французской речью, пересыпаемой острыми шутками. На вопрос, какая сегодня погода, он отвечал: «Не погода, а телесное наказание» и указывал на свое «промокаемое непалъто». Скромное, поношенное платье Владимира Николаевича не мешало ему выглядеть представительно и элегантно. Высокий рост, гладко зачесанные темные волосы, темные, как вишни, большие глаза под густыми бровями, крупный выдающийся нос, полоска черных усов, на пальце – тяжелый золотой перстень с сапфиром, единственная память о былой роскоши.
По рассказам отца, который знал Владимира Николаевича с юности по Поливановской гимназии, где они оба учились, детство Владимира Николаевича прошло в очень богатой аристократической среде. Семейный быт во многом определял жизнь мальчика и его братьев, их было двое или трое. Воспитанием детей занимались, главным образом, гувернеры, из которых чаще всего Владимир Николаевич вспоминал француза М. Portier.
В систему обязательного дворянского образования входили занятия на ипподроме. Своего воспитателя по конному искусству Владимир Николаевич называл «дядькой». «Дядька», добиваясь идеальной выправки настоящего кавалергарда, нещадно лупил его хлыстом за малейшую провинность и не стеснялся в выражениях. Уже в пожилом возрасте, как всегда балагуря, Владимир Николаевич цитировал незамысловатые куплеты, подхваченные на ипподроме:
В кавалерии служил,
Волътижировался.
На большой барьер ходил —
Мордой поломался.
Уже в наше время моя сестра, обожающая лошадей и занимавшаяся верховой ездой, пригласила как-то Владимира Николаевича в манеж:. Он отказался. «Я там расплачусь», – признался он. Я никогда не видела его плачущим по какому-либо другому поводу.
Гимназию Владимир Николаевич посещал очень неаккуратно, скорее, в ней числился, чем фактически учился.
Как выражался мой отец, он в нее «заглядывал», и, когда речь зашла о выдаче ему диплома, этого невозможно было сделать в Поливановской гимназии, и Владимир исчез из Москвы. Он отправился в город Сумы на Украине, сдал там экзамены и вернулся с дипломом. Учение никогда его не занимало, тем не менее в семье он получил прекрасное образование. Владимир Николаевич жил тогда в одном из роскошных московских особняков, где ранее проживали его дяди Петр и Павел Долгоруковы. (Дом этот находится в переулке за Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, и в нем располагался в наше время музей Маркса и Энгельса).
Владимир Николаевич вращался в самых высоких кругах московского общества, но его личные качества были таковы, что он легко и по-хорошему бывал принят в любой среде, куда приводили его знакомство и судьба. В гимназические годы одним из товарищей Владимира Николаевича и моего отца Сергея Васильевича Шервинского был Иван Харитоненков – культурный, воспитанный и доброжелательный человек, принадлежавший к одной из самых богатых семей в Москве. Харитоненковы начали свое дело с соляных обозов, потом стали владельцами сахарных заводов, получили дворянство и герб. Когда Харитоненковы покупали новую картину, они вызывали в качестве эксперта моего отца. Однажды, когда молодые люди были приглашены на обед к Харитоненковым, то вместо скатерти весь стол был устлан букетиками пармских фиалок, присланных из Ниццы, составляющими единый ковер, в котором были оставлены лишь круглые проемы для тарелок.
Владимир Николаевич не любил позже вспоминать о своем прошлом, не любил говорить и о своем имении, которое находилось на берегу большого озера, где кончалась полоса лесов и начинались степные просторы, насколько мне известно, под Черниговом. Сама усадьба была унаследована от ветви древнейших русских князей. Когда Владимира Николаевича спрашивали, от каких он происходит Долгоруковых, то он лаконично отвечал: «Эти от Рюриковичей, а мы от Олеговичей». Таким образом, с детства он привык жить не только в очень богатом окружении, но и в очень знатном. Род его тогда еще не был в упадке. В родовое имение Долгоруковых, которое в быту называли «Великая Топалъ», направляясь на отдых на юг, заезжала и оставалась погостить семья царя Николая II. Гостеприимством Долгоруковых пользовалась и сама императрица Александра Федоровна, гостившая у них с девочками. Мамаша Владимира Николаевича, урожденная княгиня Голицына, упрекала царских дочерей в недостатке воспитания. “Les femmes de chambre endimanchées”, – ворчала она.
Мне довелось посетить недавно одно из многочисленных имений Долгоруковых – усадьбу Волынщино-Полуэктово под Рузой. У входа в старый поредевший парк стоят покосившиеся обелиски, аллея ведет к барскому дому, обращенному фасадом к обширному озеру с полоской леса на противоположном берегу. В парке на черных липах неистово кричат грачи, через деревья просматривается обветшалая церковь-усыпальница Долгоруковых. А Владимира Николаевича похоронили тайком его близкие друзья. Им удалось разыскать на старом кладбище Донского монастыря забытую могилу каких-то Долгоруковых (уж не знаю точно, Рюриковичей или Олеговичей), закопать в нее урну с прахом Владимира Долгорукова и поставить маленькую металлическую дощечку.
А если вернуться в свое раннее детство, то я помню дядю Володю, как я помню себя, лет с трех. Он жил тогда в нашей квартире на втором этаже дома Шервинских в Померанцевом переулке и занимал крохотную узкую комнату, предназначавшуюся для прислуги. Позже в ней до самой своей смерти жила моя няня Любовь Федоровна и душевнобольная тетушка Ольга Венедиктовна Барцева. Утром меня выносили на руках в ванную комнату – наверное, с пола дуло, а печи затапливались позже – и сажали на маленький стульчик за комодом. С этого места я наблюдала, как бреется дядя Володя. Его лицо, освещенное с двух сторон двумя металлическими бра, было густо покрыто белой пеной, отчего глаза и волосы становились еще темнее, он надувал то одну, то другую щеку, подпирая ее языком, чтобы ее легче было выбрить. Это меня очень занимало. Он всегда находил со мной тему для развернутой беседы, вел ее неторопливо и совершенно серьезно. О чем мы могли тогда беседовать, ума не приложу. И он развлекал меня, как всегда, какой-нибудь чепухой:
Vis à vis с моим окном
Два окна имеются.
Вижу я, в окне одном
Бреют, бреют, бреются.
Что за дрянь там деется?
А днем после прогулки в сильно морозные дни меня несли сразу на дяди Володину железную кровать, так как угол комнаты, где она стояла, был целиком занят зеркалом самой большой в доме голландской печи, от которой шло ровное тепло, и ноги, оттаивая, начинали больно ныть. Дядя Володя доставал тогда с верхних книжных полок маленького черного слона и клал его передомной на серое солдатское одеяло.
Я считала дядю Володю дальним родственником, и его пребывание в нашем доме мне казалось совершенно естественным. Только значительно позже я узнала, что ему покровительствовал мой дед, пользовавшийся в ту пору большим авторитетом. Василий Дмитриевич лично ходил по инстанциям, хлопотал за Владимира Николаевича, как бы поручился за него и поселил его в своем доме после того, как Долгоруковы лишились своего особняка.
Шервинские часто давали кров разным достойным людям с тяжелыми судьбами: репрессированным, вернувшимся из изгнанья, из-за границы. На даче в Старках подолгу живала А. А. Ахматова, помню, как из Шанхая вернулся с семьей С. С. Аксаков и провел несколько дней в московском доме. А М. Л. Лозинский, возвращаясь из эвакуации, тяжело заболел воспалением легких и задержался у нас в доме со своей супругой Татьяной Борисовной на 11 месяцев до полного выздоровления. Гимназический товарищ Сергея Васильевича Алексей Павлович Братановский, тоже репрессированный и, вернувшись, нашедший себе кров где-то в пригороде, постоянно приходил к нам отобедать и показать нам фокусы. Он носил с собой маленькие кастрюльки и аккуратно привязывал крышки веревкой после того, как мама снабжала его обедом на следующий день. В это же время в доме снимал квартиру К. А. Липскеров, он жил постоянно. Сергей Васильевич так вспоминает этот период жизни дома в своих заметках: «В это время среди жильцов нашего дома было несколько представителей литературного мира, связанных между собой давнишним дружеством. В большой комнате, раньше служившей зимним садом, обитал поэт Константин Липскеров, собиратель картин и редкой мебели. В его комнате висел известный портрет поэта Кузмина работы Сапунова и целый ряд работ Сомова…Шкатулки резной персидской работы, величественный стол карельской березы, нефриты, разбросанные по столам альбомы “Мира искусства” – все создавало атмосферу восточной неги и беспечной запыленности, за которыми обнаруживалась громадная усидчивая работоспособность поэта, подарившая нашей литературе тысячи и тысячи строк поэзии Востока».
The free sample has ended.