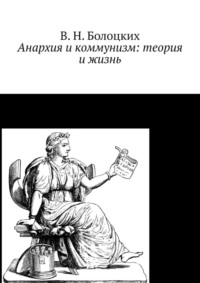Read the book: «Анархия и коммунизм: теория и жизнь»
© В. Н. Болоцких, 2020
ISBN 978-5-0051-1639-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВВЕДЕНИЕ
В отношении роли государства в жизни общества, его возможностей и возможностей государственных деятелей влиять на ход исторического развития общества накопилось множество представлений, теорий и даже мифов, преувеличивающих эти возможности. Это касается не только коммунистов и социалистов, но и многочисленных государственников и державников, уповающих на безграничные силы государства в деле решения всевозможных проблем – от борьбы с внешними врагами (истинных или мнимых) до починки дырявых водопроводных труб и вывоза мусора. В данной работе речь идёт об идеях революционных теоретиков, которые хотели уничтожить тем или иным способом государство в принципе. Маркс, Энгельс, Бакунин и Ленин объясняли происхождение государства по разному, но сущность его сводили к обеспечению эксплуатации богатым меньшинством бедного большинства, к насилию над массами. Поэтому и ставили целью перед революционерами уничтожение государства вообще. Но и в теории, и на практике государство в результате его «уничтожения» (или «отмирания» по марксистской терминологии) не исчезало, а сохранялось и даже росло, как это было в России в советский период, период строительства коммунизма. А если так, то напрашивается вывод, что в самих революционных теориях происхождения государства, определениях его сущности имеются существенные изъяны, делающие их неприменимыми в жизни. Выявить эти изъяны, эти слабости революционных – анархических и марксистских – теорий, показать принципиальную недостижимость анархического и коммунистического устройства общества и является целью данной работы.
Эта работа построена на анализе исходных текстов – работ Бакунина, Маркса, Энгельса и Ленина. В ней нет специального историографического обзора этой темы, так как литература по ней, с одной стороны, огромна, а с другой стороны, крайне однообразна. Советские и марксистские историки и философы стремились продемонстрировать безошибочность теорий Маркса и его последователей и критиковали Бакунина за недостатки, отмечая его революционные заслуги. Их идеологические противники, соответственно, доказывали обратное. В этой идеологизированной и политизированной полемике сущность научного спора отсутствовала полностью. Поэтому автор счёл возможным ограничиться оценками отдельных работ в самом тексте в случае необходимости.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
БАКУНИН
В биографическом очерке о Бакунине, открывающем издание его книги «Государственность и анархия» в 1919 г., даются исключительно восторженные оценки взглядам и личности русского анархиста-бунтаря. В частности, там приводятся слова П. А. Кропоткина: «Наконец „Государственность и Анархия“, „Историческое развитие Интернационала“ и „Бог и Государство“, – не смотря на боевую памфлетную форму, которую они получили, так как писались ради злобы дня, – содержат для вдумчивого читателя, больше политической мысли и больше философского понимания истории, чем масса трактатов, университетских и социально-государственных, в которых отсутствие мысли прикрывается туманною, неясною, а следовательно непродуманною диалектикою. В ней нет готовых рецептов. Люди, ждущие от книги разрешения всех своих сомнений, без собственной работы мысли, не найдут этого у Бакунина. Но если вы способны думать самостоятельно, если вы способны не идти слепо за автором, а смотреть на книгу, как на материал для мышления, – как на умную беседу, вызывающую от вас умственную работу, – тогда горячие, местами беспорядочные, а местами блестящие обобщения Бакунина помогут вашему революционному развитию несравненно больше, чем выше упомянутые трактаты, написанные с целью уверить вас, что вы годны только для повиновения и должны слепо идти за автором – в вашей мысли, и за главарем – в вашей деятельности. Впрочем, главная сила Бакунина была не в его писаниях. Она была в его личном влиянии на людей. Он сделал Белинского тем, чем он стал для России: типом неподкупного революционера, социалиста и нигилиста, который воплотился впоследствии в нашей чудной молодёжи семидесятых годов»1.
Сам же В. Г. Белинский в 1837 г. называл Бакунина Хлестаковым: «Ты Иван Александрович Хлестаков par exellence, так что если бы собрать со всего света Хлестаковых, они были бы перед тобою только Ванечки и Ванюши Хлестаковы, а ты один бы остался между ними Иваном Александровичем Хлестаковым»2. Спустя несколько месяцев Белинский в письме к Бакунину вспоминает, как назвал того на встрече у их общего знакомого Боткина Хлестаковым: «Боже мой, думал я, что же такое этот человек? Зачем в нём так много доброго, прекрасного, зачем его дружба так много сделала для моего развития и зачем он в то же время мальчишка, глупец пошлый, словом, Иван Александрович Хлестаков»3.
Советские историки А. И. Володин, Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак высоко оценивали вклад революционеров 1850-1860-х гг. в выработку социалистического идеала, его экономическое, историческое, философское обоснование, в определение соотношения революции и реформы, условий успеха революции, роли в ней народных масс и т. д. Крайне важным, считали они, был переход от мысли к «делу» и то, что «дело» не мыслилось революционерами без систематической проверки каждого сделанного шага.
Те же историки пишут об основном пороке «революционеров вроде Зайчневского, Ишутина, Каракозова, особенно Нечаева и Бакунина», что «он состоял (при всем различии этих фигур, их манеры действовать и мыслить, различии побудительных мотивов их деятельности) в предельной примитивности их представлений о задаче освобождения страны, в отсутствии теоретического обоснования осуществляемого ими „дела“, в игнорировании уже накопленного опыта, знаний о революции. Крайне легковесное восприятие западной и российской социалистической литературы у Зайчневского или ишутинцев уступает место настоящему культу невежества у Нечаева и Бакунина. Соответственно деградирует и практика: от попыток вызвать прокламациями сиюминутную революцию – к попытке цареубийства, провоцирующей её приход, к мистификациям и шантажу как средствам „развязывания“ всё той же сиюминутной революции. И как ни важны были сами по себе попытки претворить в жизнь революционные лозунги, эти попытки неизбежно оказывались авантюрой, поскольку за лозунгом действия не стояла глубокая работа ума. Нежелание, органическая неспособность учиться в „школе революций“, неумение извлекать уроки из поражений – вот что отличает революционеров подобного толка»4.
Но можно ли проблемы революционного движения сводить только к «примитивности» представлений только некоторых революционеров? Посмотрим на примере Бакунина в чём видели революционеры идеал будущего общества всеобщего счастья, какой представляли себе всесторонне развитую личность будущего, какими путями собирались они реализовывать свои идеалы. И что это были за люди, которые собирались осчастливить весь трудовой люд. И чтобы было ясно, что основной порок революции не в «предельной примитивности» революционных представлений некоторых революционеров, сравним идеи Бакунина с идеями Маркса, Энгельса, Ленина.
1. Философские поиски Бакунина
В идеологии и мировоззрении революционеров огромное место занимает убеждённость в возможности с помощью науки, знаний, человеческого разума вообще, понять законы истории и дурное общество эксплуатации человека человеком превратить в идеальное общество свободы, солидарности, равенства, братства, всесторонне развитой целостной личности. Эта убеждённость лежит в основе идеологии всех поколений российских революционеров, в том числе поколения М. А. Бакунина. Е. Л. Рудницкая совершенно справедливо замечает: «Обаятельная сила идеи всемогущества разума, которая лежала в основе просветительской философии, воодушевлявшей декабристов, вновь покоряет интеллигентское сознание, как бы обретая второе дыхание. На этот раз её деструктивный запал выявил себя исчерпывающим образом. На смену философскому идеализму, поглощённости системами Шеллинга, Фихте, Гегеля, философским осмыслениям исторических путей России приходит материализм в лице его наиболее вульгарных представителей, таких как Л. Бюхнер, Я. Моленшотт, К. Фогт, и всепоглощающая идея рационализма, абсолютизация разума как универсального начала социального и политического обновления, как созидающей силы идеального строя жизни. Здесь – гносеологические корни утопизма»5.
В. Г. Графский обращает внимание на то, что увлечённость молодого Бакунина поисками универсальной, всёохватывающей и всёобъясняющей философской системы привела его на некоторое время к слишком буквальному и консервативному пониманию тезиса Гегеля: «Всё действительное разумно, всё разумное действительно». Он приводит слова самого Бакунина: «Кто не жил в то время, тот никогда не поймёт, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечный искомый абсолют наконец найден и понят, и его можно покупать в розницу и оптом в Берлине»6.
Эти поиски абсолютной истины, эта вера во всемогущество разума не могли не наложить отпечаток на социально-экономические и политические взгляды Бакунина, на его представления об анархизме, революции, о будущем обществе и будущей личности. Поэтому анализ анархистской теории Бакунина необходимо предварить рассмотрением философских поисков будущего анархиста-бунтаря.
В первой своей опубликованной философской статье Бакунин стремился доказать научный характер философии и понять её значение: «Философия есть положительная, сама в себе заключённая и последовательная наука; резонёрство же и обыкновенные рассуждения не имеют и не могут иметь притязания на наукообразную последовательность. Это обыкновение, образовавшееся в школе так называемых французских философов XVIII века, имело самые вредные последствия для философии: пустое резонёрство, поверхностные и легкомысленные рассуждения произвели много зла на земле и погубили многих молодых людей, оторвав их от существенных и важных интересов жизни и предав их пагубному владычеству необдуманного и бессмысленного произвола»7. Предмет философии для него в это время «не есть отвлечённое конечное, точно так же как и неотвлечённое-бесконечное, но конкретное, неразрывное единство того и другого: действительная истина и истинная действительность»8.
Одно из главных определений истины есть необходимость, полагал Бакунин. Он настаивал на наличии необходимости в истории, так как если «всемирная история в самом деле – не более как бессмысленный ряд случайностей, то она не может интересовать человека, не может быть предметом его знания и не в состоянии быть ему полезной». Случайное – это то, «что не имеет в самом себе необходимой причины своего пребывания, что есть не по внутренней необходимости, но по внешнему, а следовательно, и случайному столкновению других случайностей. Случайно то, что могло бы быть иначе». Для человека же интересно и может быть полезно только то, «что имеет в себе какой-нибудь смысл, какую-нибудь связь; а если эта связь случайна, то всё человеческое знание низложится до мёртвой работы памяти, обязанность которой будет заключаться единственно только в сохранении случайного пребывания случайных, единичных фактов друг подле друга и друг за другом. Но сущность всякого познавания состоит именно в самодеятельности духа, отыскивающего внутреннюю, необходимую связь в фактах, разрозненных во внешности; дух приступает к познаванию с верою в необходимость, и первый шаг познавания есть уже отрицание случайности и положение необходимости. И потому, говоря об истине, мы будем уже разуметь под этим словом не что-нибудь случайное, но необходимую истину»9.
Бакунин считал недостатком математики и других наук раздробление «единой и нераздельной истины на особенные друг для друга внешние и друг к другу равнодушные участки», которое произошло в XVII в. С одной стороны, такое раздробление было весьма полезно, «но с другой – оно совершенно разрушило живую связь, соединяющую знание с жизнью, и породило множество странных, ограниченных, педантических и мёртвых учёных, чуждых всему прекрасному и высокому в жизни, недоступных для всеобщих и бесконечных интересов духа, слепых и глухих в отношении к потребностям и к движению настоящего времени, влюблённых в мёртвую букву, в безжизненные подробности своей специальной науки». Но теперь такие явления являются анахронизмами, полагал Бакунин, новое время поняло, что «только живое знание истинно и действительно, что жизнь есть тот необъятный, вечно бьющий родник, который даёт ему бесконечное, единственно достойное его содержание; оно поняло, наконец, буква мертвит и что только единый дух живит, а сознало вместе, что этого живого и животворящего духа должно искать не в мелких и разрозненных частностях, но во всеобщем, осуществляющемся в них, что все различные отрасли знания составляют одно величественное и органическое целое, оживлённое всеобщим единством, точно так же как все различные области действительного мира суть не более как различные гармонически устроенные проявления единой, всеобщей и вечной истины»10. Всеобщее всегда было единственным предметом философии, в том одно из высоких преимуществ и заслуг её. «Всеобщее имеет реальное осуществление: оно осуществляется как действительный естественный и духовный мир; это – существенный и необходимый момент его вечной жизни». Великая заслуга эмпиризма состоит в том, что он обратил внимание мыслящего духа на действительность всеобщего, на конечный момент бесконечного, на разнообразие естественной и духовной жизни, но впал в другую крайность: за разнообразием конечного многообразия действительного мира потерял единство бесконечного. Но это заблуждение исчезло и «нашему веку было предоставлено понять неразрывное и разумное единство всеобщего и особенного, бесконечного и конечного, единого и многоразличного. Вследствие этого под словом „истина“ мы будем уже разуметь абсолютную, т.е. единую, необходимую, всеобщую и бесконечную истину, осуществляющуюся в многоразличии и в конечности действительного мира».
Таким образом, «философия есть знание абсолютной истины»11. Определив значение слова «истина», Бакунин ставил задачу выяснения значения философского знания, в чём оно состоит и в чём его отличия от обыкновенного знания.
Эмпиризм как наука освобождает естественное сознание от его индивидуальной ограниченности, от его предрассудков, обогащает опытами, сделанными на других пространствах и в другие времена, расширяет духовную сферу обыкновенного сознания. Но эмпиризм не в состоянии постичь абсолютную истину, так как его стремление к преодолению ограниченности, односторонности имеет свою границу. Не способны сделать это и теоретики науки, так как их теории основываются на опытном наблюдении и проверяются фактами, полученными эмпириками. Понять же «какое-нибудь явление или какой-нибудь частный закон, – писал Бакунин, – значит понять необходимые происхождение и развитие его из единого и всеобщего начала; но для этого необходимо познание всеобщего как чистой, самой из себя развивающейся мысли; а это опять входит в область философии и невозможно без философии»12.
Бакунин пришёл к выводу, что «философским знанием может быть названо только то, которое, во-первых, обнимает всю нераздельную полноту абсолютной истины и которое, во-вторых, способно доказать необходимость своего содержания»13. Рассуждая о категориях Гегеля, Бакунин приводил слова гегельянца Байргофера: «Если они не более как отвлечения (Abstractionen), то не должно позабывать, что в них заключается движение и жизнь мира; на эти всеобщности (Allgemeinheiten) не должно смотреть с презрением, потому что мир управляется всеобщностью мысли; бытие, мышление, субстанциональность, субъективность, свобода, необходимость и т. д. суть не более как простые категории, отвлечённые всеобщности; но эти всеобщности всё двигают и животворят»14.
Даже в чувственном созерцании и восприятии предметов уже присутствует бессознательная деятельность мысли и употребляются категории качества, количества, отношения и другие категории, составляющие сущность созерцаемых и воспринимаемых предметов. Точно так же и всякий закон есть относительно всеобщая мысль, определённое отношение категорий. Другими словами, определённые мысли суть плоды эмпирического исследования и составляют существенное содержание всяческого эмпирического знания, ни одна эмпирическая наука не ограничивается знанием фактов, но стремится к познанию законов. Так что факты не составляют и не могут составлять содержание эмпирической науки, а служат исходным пунктом для отыскания мыслей, категорий, пребывающих в них. Но эти категории в эмпиризме не имеют самостоятельного значения, они не познаются в нём как чистые, независимые мысли, имеющие самостоятельное, конкретное содержание. Они происходят через отвлечение опытного наблюдения и вследствие этого они всего лишь отвлечённости, получающие конкретное содержание от своего эмпирического источника, от фактов и имеют значение только в отношении к этим фактам. Поэтому эти категории не могут соединиться в «одно разумное, независимое и само из себя развивающееся единство и не составляют органических и необходимых членов одной высшей, само из себя развивающейся мысли», и просто располагаются рядом, в совершенно внешнем, собирательном единстве и связаны только своим общим источником – действительным миром. Поэтому эмпирическое сознание не понимает внутренней связи категорий и ограничивается внешней классификацией, так что закон электричества находится подле закона света, подле закона исторического развития и т. д. Потому оно не может быть уверено, что обнимает все законы действительного мира без исключения. Такая уверенность возможна только тогда, когда все законы поняты как чистые мысли, необходимо развивающиеся из одной единой и всеобщей мысли, так что число и отношение их определилось бы необходимостью самого развития.
Таким образом, по Бакунину, «эти законы, с одной стороны, суть объективные мысли, объективные потому, что они – не произвольное произведение познающего человека, но мысли, действительно пребывающие в действительном мире; они не выдуманы человеком, но найдены им в действительно существующих фактах; с другой же стороны, они – субъективные мысли, потому что в противном случае человек, познающий субъективный дух, не мог бы понимать и усваивать их; понять предмет – значит найти в нём самого себя, определение своего собственного духа, и если б закон, найденный мною в действительности, был только объективною, но не субъективною мыслью, тогда бы остался он недоступным для моего разумения; поэтому единичный факт, оставаясь только единичным, не может быть предметом моего познавания, не может быть проникнут мною; как единичный он всегда останется чуждым и внешним для меня предметом, и если я хочу уничтожить эту внешность, если я хочу найти себя в нём и понять его, то я должен отыскать в нём всеобщее, мысль, которая была бы, с одной стороны, объективною мыслию, мыслию, действительно пребывающею в нём, с другой же стороны, субъективною мыслию, определением моего собственного духа»15.
И Бакунин подводил итог своим поискам сущности философского знания: «Итак, если возможно знание, познающее законы не из опыта, но a priori, как систему чистых мыслей, имеющих своё необходимое развитие независимо от опыта, то такое знание вполне удовлетворит всем требованиям познающего духа. Во-первых, оно будет иметь характер необходимости, недостающей эмпиризму, так что развитие мысли как необходимое будет вместе и доказательством её. Во-вторых, оно будет действительно всеобщим знанием, потому что не будет восходить, подобно эмпиризму, от единичного и особенного к отвлечённому и непонятному всеобщему, но будет понимать особенное и единичное из собственного имманентного (присущего) развития всеобщего, так что ни одна особенность не вырвется из необходимости этого развития. Наконец, если действительный мир, в самом деле, – не что иное, как осуществлённая, реализованная мысль, – а мы видели, что вера в пребывание мысли в действительности составляет сущность как обыкновенного сознания, так и эмпиризма, – то оно будет в состоянии объяснить тайну этой реализации, тайну, недоступную для эмпиризма. Такое знание есть философия»16.
Но раз действительный мир не что иное, как осуществлённая, реализованная мысль, то нельзя ли, познав эту всеобщую мысль, попробовать исправить недостатки этого действительного мира? Насколько это реально для человеческого духа и человеческого разума? Посмотрим, что писал Бакунин об этом во второй статье о философии, хотя и не опубликованной, но написанной тогда же и увидим, с каким идейным багажом оказался будущий анархист в Европе 1840-х гг.
Как человек ещё религиозный, ещё верящий, что в христианстве лежат «истинные бесконечные средства»17, Бакунин рассматривал развитие человеческого духа в религиозных рамках. Низшей ступени человеческого духа соответствует фетишизм, состоящий в обоготворении единичных чувственных предметов: тряпок, кусков дерева и т. д. В религиях более высокого уровня предмет поклонения составляет не сам по себе чувственный предмет, не этот кусок дерева или камня, «но изображение, изваянное на нём, так что единичный чувственный предмет служит только средством для изображения духовного содержания». Человек, находящийся на стадии фетишизма, «не имеет почти самосознания и никаких других потребностей, кроме чувственных и инстинктивных потребностей животного. Но человеческий дух не может долго оставаться на этой низкой, ограниченной степени своего развития. По себе (an sich), в возможности он есть бесконечная истина, а потому и противоречие своей возможности с своею ограниченною действительностью. Это противоречие не позволяет ему долго пребывать в ограниченности, но беспрестанно гонит его вперёд, к осуществлению внутренней возможной истины, и возвышает его беспрестанно над его внешней моментальной ограниченностью»18.
Далее Бакунин рассуждал о развитии познания от чувственной достоверности естественного сознания к всеобщему миру опытного наблюдения19. «Наблюдение есть сфера обыкновенного ежедневного сознания и эмпирических наук вообще. Наблюдающее сознание является, с одной стороны, как чувственная достоверность, потому что предыдущие степени развития сохраняются в последующих как моменты, но, с другой стороны, возвышается над нею и ищет своей истины не в единичном предмете, но в его роде; род же… есть чувственное всеобщее, т.е. простое Всеобщее, имеющее свою реальность в чувственных определённостях, качествах. Вследствие этого опытное наблюдение составляет переход от чувственной достоверности, истина которого есть чувственное единичное это, к царству отвлекающе [го] и вникающего (reflectierenden) рассудка, имеющего истину свою в незримом внутреннем мире сил и законов, являющихся по внешности»20. «Сознание, имеющее предметом внутренний мир всеобщих и неизменяемых законов есть рассудок (Verstand)»21, – делал вывод Бакунин.
Познающее сознание развивается до такой степени, что чувственное, преходящее явление перестаёт быть для него истиной. Оно ищет истины во внутреннем, неизменяемом мире законов физического и духовного мира: механики, физики, химии, антропологии, психологии, права, эстетики, истории и т. д.
Внешнее проявление законов, чувственный мир явлений, беспрестанно изменяется, проходит, непрерывно осуществляет собственное ничтожество: и познающее сознание возвышается в непреходящий внутренний мир. Но этот внутренний мир различается и раздробляется, в свою очередь, на множество особенных, также непреходящих законов. Внутренний мир законов является действительным, существенным, истинным постольку, поскольку имеет проявления в ничтожной сфере явлений. Внутренний мир законов есть внутренний только в отношении к проявляющему его миру внешних явлений; и потому рассудочное сознание должно обратиться к последнему, должно наблюдать его, для того чтобы отыскать в нём проявляющиеся в нём законы, которые, как бы ни были многоразличны явления, всегда остаются себе равными и неизменяемыми. Если закон открыт, то многообразие форм его проявления в зависимости от внешних и случайных обстоятельств, не имеет никакого значения, как ничтожное и несущественное. Многоразличие и случайность единичных явлений в противоположность единству и необходимости всеобщего закона ничтожны для познающего рассудка, который вникает в них не для того, чтобы на них остановиться, но для того, чтобы «отвлечь от них всеобщий неизменяемый закон». Поэтому «предметный мир распадается для сознающего рассудка на два противоположных мира: 1) на существенный внутренний мир законов и 2) на ничтожный мир их внешнего проявления; последний, как находящийся между сознающим рассудком и внутренним миром, отделяет их друг от друга и не допускает непосредственного отношения одного к другому. Рассудок относится к внутреннему миру законов не непосредственно, но через посредство внешнего мира явлений. Но различие обоих миров, внутреннего и внешнего, – неистинное и несущественное различие: закон есть не что иное, как всеобщее и неизменяемое выражение изменяющегося явления, которое, в свою очередь, не более как конкретное обнаружение закона, обнаружение, различающееся от всеобщности закона только случайными и ничтожными видоизменениями. Вследствие этого содержание чувственной внешности и сверхчувственной внутренности совершенно одинаково, и сознающий рассудок, относясь к внешнему миру явлений, непосредственно относится к внутреннему миру законов».
Сознающий рассудок относится к внутреннему миру законов «как во вне его и независимо от него находящемуся, как к самостоятельному предмету его познавания и как истине в противоположность себе как неистинному. Вследствие этого сознающий рассудок должен, безусловно, с ним соображаться и не должен позволять себе ни малейшего изменения. Он отвлекает от ничтожного многоразличия внешности и, возвысившись до внутренней сущности как физического, так и духовного мира, находит в нём существенное многоразличие вечных, неизменяемых законов». Эти законы – «не непосредственные единичности и не чувственные всеобщности, как предметы чувственной достоверности и опытного наблюдения, но чистые, сверхчувственные всеобщности – мысли, происшедшие для сознания через его собственную сознающую деятельность и через его собственное отвлечение от всего особого и чувственного. Но как мысли они перестают быть внешними и чуждыми для познающего рассудка, потому что мысли суть собственные определения (Bestimmungen), собственная внутренняя принадлежность рассудка; и потому объективные, т.е. действительно сущие, с одной стороны, они, с другой стороны, субъективные мысли, т.е. мысли, мыслимые познающим субъективным сознанием». Бакунин приходит к выводу: «Таким образом, сознание, считавшее до сих пор всё принадлежащее ему и всё от него происходящее за неистинное и за несущественное, собственным имманентным (присущим) движением своим доходит до сознания истинных своих собственных мыслей, до сознания, что они, несмотря на то что они – его мысли, имеют объективную действительность. Сознание другого, внешнего объекта превратилось в сознание своих собственных мыслей, своей собственной сущности, самого себя как истины и становится самосознанием»22.
Но тут появляется новое противоречие. Познавая законы физического и духовного мира, рассудочное сознание познаёт свои собственные определения, свои собственные мысли. Но, несмотря на это, оно познаёт их как нечто вне его находящееся и ему чуждое. Это противоречие Бакунин преодолевал следующим образом: «Как сознание оно ещё искало истины в другом, для него внешнем, но в постепенности своего развития оно испытало улетучивание всякой чувственной и непосредственной единичности и всеобщности в сверхчувственном и неизменяемом мире вечных законов как в единственной истине и действительности всего сущего. Наконец, оказалось, что, сознавая многоразличие законов, оно сознаёт многоразличие своих собственных мыслей, – и сознание перешло в самосознание»23.
Сознание потенциально предполагает самосознание, но как подчинённый момент, как неистинное в противоположность внешнему сознаваемому предмету как истинному, а именно сознание как знание другого, невозможно без различения себя от другого, а следовательно, и без знания себя, без самосознания. Но пока сознание знает себя как неистинное и как долженствующее соображаться с истиною внешнего предмета, т.е. истина для сознания не самопознающее субъективное я, но противоположный ему объект, внешний предмет. С появлением самосознания это отношение совершенно меняется. «Сознание собственным диалектическим движением своим дошло до сознания ничтожества внешнего мира явлений и до сознания, что противоположные ему бесконечность и всеобщность внутреннего мира, заключающего в себе существенное многоразличие особенных всеобщностей или законов, есть единственная истина». Бакунин продолжал: «Но бесконечность и всеобщность внутреннего мира есть не что иное, как отвлечённая мысль, бесконечная всеобщность самого сознающего рассудка, всеобщность, произведённая деятельностью его собственного отвлечения от изменяемости и от ничтожного многоразличия внешнего мира явлений; и потому, говоря о непроницаемости внутреннего мира эмпирики и теоретики, никогда не возвышающиеся над степенью отвлекающего и вникающего рассудка, сами не знают, что и о чём они говорят. Они говорят о внутреннем мире как о чём-то имеющем самостоятельное существование, независимое от внешности, и заключающем в себе конкретное содержание, недоступное для нас, потому что, не имея внешнего проявления, оно закрыто от нас внешностью мира явлений»24.
Всё развитие сознания заключается именно в том, что оно возвышается над внешностью как над ничтожной и несущественной по отношению к существенности внутреннего мира и это есть необходимый диалектический ход самого сознания, «сама внешность как преходящая и несущественная указывает за себя на существенность внутреннего мира как на единственную истину в противоположность ей как неистинной, ничтожной и несамостоятельной». Таким образом, внутренний мир является единственной истиной, «вследствие чего не можем признать существенности и самостоятельности внешнего, потому что по вышедоказанному одно отрицает другое. Отвергая же существенность и самостоятельность внешнего мира, мы не можем принять особенного и скрытого существования внутреннего, вся сущность которого состоит именно в том, что он проявляется во внешнем. Кроме этого, если содержание внутреннего мира не проявляется во внешнем, то это – ничтожное, бессильное содержание, не имеющее силы, энергии самоосуществления, а потому и неистинное».