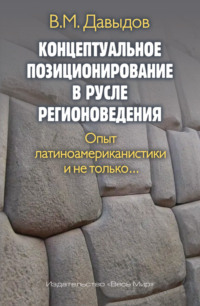Read the book: «Концептуальное позиционирование в русле регионоведения. Опыт латиноамериканистики и не только»
Мир может войти в мой разум только в том случае, если структура этого разума в чем-то совпадает со структурой мира, если деятельность моего мышления так или иначе совпадает с бытием.
Хосе Ортега-и-ГассетПер. Н.Г. Кротовской
ПРЕДИСЛОВИЕ
Самопознание на почве науковедения

В качестве заставок в главах и разделах книги использованы рисунки из рукописи «Первая новая хроника и доброе правление», принадлежащей авторству перуанского хрониста XVI в . Фелипе Гусмана Помо де Айала.
Не исключено, что среди потенциальных читателей окажутся те, кого озадачат выбор нашей темы, способ ее раскрытия и, может быть, стилистика изложения. А это означает для автора необходимость дать пояснения и, если хотите, представить нечто вроде собственного «алиби».
Полагаю, для этого существуют серьезный повод и объективная потребность. И современная латиноамериканистика, и ее регионоведческие «родственники» подошли к определенному рубежу, когда научная мысль невольно обращается к поиску и использованию концептуальных резервов, к систематизации творческих достижений внутри собственной специализации и в границах смежных школ. Такой повод и такая потребность чаще всего возникают, когда накоплена критическая масса аналитических знаний об объекте исследований или (и) в силу масштабного изменения национального и международного контекста, которое модифицирует детерминацию исследовательского процесса, задает качественно иные подходы и критерии. Как представляется, именно такая ситуация сложилась к настоящему времени.
Переход научной школы к новому этапу и новому качеству работы затрагивает содержание традиционных и нетрадиционных функций. Конечно, главенствующая наша задача – выработка адекватных знаний, то есть тех, что соответствуют изучаемой действительности. Это в любом случае остается первым императивом. А тот призван реализовываться с учетом должного понимания глобальных процессов, мнения глобалистов, отечественных и зарубежных, с учетом концептуальных достижений близких регионоведческих школ и, разумеется, опираться на доводы страноведов. Все это будет означать приближение к искомому результату, органическому сопряжению трех уровней анализа. Именно на это (по мере сил) настроена наша книга.
В оценке научного труда практикуются два основных подхода – науковедческий и наукометрический. В первом случае приоритет отдается содержательному результату, его познавательным свойствам, во втором предпочтение за количественной, формализованной стороной дела, когда, казалось бы, упрощается функция бюрократической отчетности. Научные статьи измеряются в штуках, а фундаментальные монографии учитываются фактически валом как маргинальный продукт. В чиновничьем рвении доходят до «редуцирования» затрат научного труда. Его порой (эврика!) предлагают свести к «всеобщему эквиваленту» – затратам человеко-часов.
Наверное, адекватная ситуация может складываться тогда, когда соблюдается баланс между первым и вторым подходами. К сожалению, в последнее десятилетие в ажиотаже реформирования баланс был явно нарушен в пользу наукометрии. В результате пострадали стимулы к творческому обогащению научных школ. Автору хотелось бы надеяться, что авансируемая книга привлечет внимание к системообразующей роли научных школ, работающих в поле отечественного обществознания. В нашем случае речь пойдет о регионоведении применительно к изучению зарубежного мира, главным образом его латиноамериканской части, с которой связано профессиональное первородство автора.
Итак, что такое науковедческий подход в рамках отдельной научной школы? Он, на мой взгляд, опирается на «трех китов» – самопознание, самоидентификацию и, наконец, саморегулирование. Благодаря самопознанию (как процессу коллективного действия) накапливаются зерна, очищенные от плевел, выстраивается логика причинно-следственных связей, уясняется диалектичность развития объекта исследования, происходит отработка аналитического инструментария. Самоидентификация устанавливает место школы в иерархии общественных наук, собственный вклад школы в концептуальную основу обществознания, а также параметры целесообразного заимствования концептуально-методологических наработок соседей по цеху. Саморегулирование предполагает определение очередной тематической повестки, адаптацию императивов, задаваемых профилирующими инстанциями (заказчиками) к наличным ресурсам, к кадровым резервам. Именно в последнем звене обнаруживаются, на мой взгляд, функциональная зрелость и самостоятельность соответствующей школы. Здесь, в этом звене, реализуется предназначение коллегиальных структур (отделений РАН, ученых советов институтских, факультетских, всей гаммы научных мероприятий, предполагающих профессиональную дискуссию).
Самопознание и самоопределение применительно к новой ситуации ведут к обновлению ключевой повестки научного поиска, к выявлению пробелов и тематических пропусков, к адаптации научной школы к новорожденным вызовам. Они – действенное средство лечения от концептуального застоя, интравертной замкнутости, пагубно сказывающейся на научной конкурентоспособности той или иной школы, ее способности участвовать в теоретическом синтезе на глобальном уровне, на высоких ступенях философской абстракции.
Самопознание и самоопределение позволяют установить баланс между качеством и количеством в оценке плодов научного труда, который был нарушен в последнее десятилетие в пользу формалистических критериев (причем почерпнутых у устаревшей зарубежной практики). Реформаторы и их чиновные исполнители утверждали, что качество учитывалось повышенной оценкой публикации в высокорейтинговых журналах, признанных международными базами данных. В большинстве своем речь шла о зарубежных изданиях западного происхождения. Игнорировалось то, что расхождение взглядов и принципов оценки общественно-политических и экономических реалий служило препятствием для публикации работ российских обществоведов. В свою очередь, оказывались в проигрыше те наши научные журналы, которые ориентировались на узкоспециализированную аудиторию, придерживались традиций отечественной научной журналистики, осуществляли собственную редакционную политику, широко практиковали и поощряли дискуссии, коллективные обсуждения (ныне этот жанр становится все большей редкостью). Увы, в современной практике эти плодотворящие жанры оказываются изгоями.
Сейчас справедливо отмечается, что глобализация на ряде направлений сменяется контртенденцией. Но все равно мир остается взаимозависимым. С другой стороны, понятно, что в наше время исследование сложного регионально очерченного объекта требует выхода за рамки доморощенных представлений. А это влечет за собой определенную обязанность – соотносить собственные выводы с концептуальными оценками зарубежных школ, идущих параллельным курсом. Иными словами, так сказывается научная глобализация (но, желательно, без потери суверенитета).
Обращаясь к категории исторического времени, нужно иметь в виду, что детерминация повестки, целей и задач исследовательского процесса реализуется в основном с трех сторон. Во-первых, разумеется, импульсы детерминации идут от объекта исследования, от динамики и диалектики развития изучаемого региона. Во-вторых, детерминирующим образом сказывается обстановка на месте «обитания» регионоведческой школы, состояние национальной среды, индоктринация, задаваемая действующим режимом (индоктринация власти, заказчика). Наконец, системообразующие импульсы исходят от самой школы, от логики ее развития в контексте достижений отечественного обществознания.
Итак, латиноамериканистика (наряду с другими регионоведческими школами) – плод собственной динамики, а также постоянного воздействия реки времени, обтекающей наши пенаты, другую сторону земного шара, орошая латиноамериканскую историю. Одновременно речь идет о влиянии политической, экономической и общефилософской мысли, продуцируемой и передаваемой «мозговыми центрами» Латино-Карибской Америки (ЛКА), мнений их лидеров, влияющих на зарубежных коллег своим личным авторитетом. Итак, в книге хотелось бы показать то, что сообщество латиноамериканистов – лишь малая часть нашего социума, но часть, подверженная всем ветрам, овевающим этот социум.
Целесообразно также раскрыть смысл того понятия, которое фигурирует в названии книги – концептуальное позиционирование. Можно было бы свести объяснение к «теории регионоведческой школы», что, откровенно говоря, отпугивает своей претензионностью. Да и по существу, у латиноамериканистики, на мой взгляд, нет задачи забираться на высший этаж научной абстракции. Но есть другая задача – систематизации концептуальных представлений о траекториях исторического движения (поступательного и/или реверсивного) на соответствующем геоцивилизационном пространстве. Представлений, полученных на основе анализа и синтеза в процессе коллективной рефлексии научного сообщества внутри родовой и родственной специализации. Представлений, которые в конечном счете образуют ключевой инструментарий познания на ниве латиноамериканистики, либо (по аналогии) на ином геоцивилизационном пространстве, выходя на средний уровень научной абстракции.
Концептуальные подходы, обществоведческая методология находятся в постоянном движении, отрабатываются на различных экспериментах. Один из последних провел наш латиноамериканский коллега Эктор Перес Бригноли (ученик известного аргентинского историка Гальперина Доньи). В исторический сегмент латиноамериканистики он ввел логику обратного хода, своего рода генеалогию1. Он берет ключевые события или явления современности и поэтапно идет к его историческим истокам. Иными словами, он выясняет родословную. В какой-то мере в предлагаемой книге хотелось бы (насколько получится) прояснить родословную отечественной латиноамериканистики.
* * *
Представляя книгу, не могу не вспомнить благодарным словом тех, кто оставил глубокий след в латиноамериканском обществоведении, чьи имена хорошо знакомы профессиональным латиноамериканистам. Речь пойдет о тех, с кем довелось удостоиться личным общением, а в ряде случаев и многолетней дружбой. Начну, конечно, с общепризнанного мэтра Рауля Пребиша (экономиста с философским складом ума). Продолжу именами бразильца Теотонио дос Сантоса – «амазонского Маркса», как его величал В.В. Вольский, мексиканского философа и политолога, пассионария мировой латиноамериканистики Леопольдо Сэа и, конечно, немецкого коллеги Вольфа Грабендорфа, пропитанного латиноамериканской идентичностью.
Конечно, не смогу упомянуть всех достойных представителей отечественной латиноамериканистики. Их много – уже ушедших и продолжающих плодотворно трудиться. Обязан отдать должное моим наставникам на первых этапах профессионального становления: В.В. Вольскому, В.А. Кузьмищеву, С.А. Микояну. Благодарность храню светилам советской латиноамериканистики, на чьих статьях и книгах учился понимать латиноамериканские страны и самих латиноамериканцев – С.А. Гонионскому, Я.Г. Машбицу, А.Ф. Шульговскому, А.Н. Глинкину, И.Р. Григулевичу, К.Л. Майданику, И.К. Шереметьеву.
Признательность моим коллегам, с которыми разделял трудовые будни и творческие заботы: первому читателю, первому критику и кормчему моего ковчега Т.Ю. Рютовой, моему неоднократному соавтору и «единоверцу» А.В. Бобровникову. Особые слова благодарности Л.Н. Живиловой – моей маме, с ранних лет приобщавшей меня к испаноязычному миру.
Стоит упомянуть и то обстоятельство, которое во многом подтолкнуло к написанию этой книги, – чтение лекционного курса «Введение в регионоведение» на экономическом факультете РУДН.
Глава 1
ЛОГИКА МОТИВАЦИИ, ЛОГИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Научная школа приобретает облик и права самостоятельной ветви знаний тогда, когда перестает быть только потребителем теоретического «ноу-хау», выходящего из арсенала инструментальных наук либо из области более высокой абстракции. Это происходит, когда полученное таким образом знание обогащается собственными теоретическими представлениями, обретенными на ниве принятой специализации, т.е. в работе c собственным объектом и в границах своего предмета.
Думаю, на сегодня присутствуют достаточные основания для утверждений о свершившемся факте – качественном перевоплощении объектов нашего изучения, макрорегионов современного мира. Это создает немало ответственных вызовов. Но нас в той или иной мере вооружают традиции, учитывая зрелость регионоведческого сегмента отечественного обществознания. Регионоведческий анализ мирового сообщества (в англоязычной практике – area studies, в испаноязычной – estudios regionales) утвердился не только в качестве самостоятельного предмета обществоведческих изысканий. Согласно номенклатуре специальностей профессиональной подготовки, утвержденной Министерством науки и высшего образования РФ, он теперь реализуется как отдельная специализация – «зарубежное регионоведение»2. При этом понятие регион (макрорегион) зарубежного мира в ряде случаев может отождествляться с изучением проблематики стран континентального масштаба, каковыми являются такие гиганты, как США и КНР.
Не располагая задокументированным определением регионоведческой специализации, полагаем допустимой собственную интерпретацию. Речь идет о совокупности фундаментальных знаний и профессиональных навыков, полученных в результате систематической вузовской подготовки, обеспечивающей выполнение научных, аналитических, консультационных и административных функций в области международных отношений и деловых связей применительно к определенному региону зарубежного мира, либо к составляющим его странам. Предполагается многодисциплинарность либо междисциплинарность такой работы с опорой на базовое образование в области экономики, истории, политологии либо культурологии и лингвистики.
Если апеллировать к институционализированной части регионоведения на академической платформе, то здесь задел времени, проведенного в систематической работе, в любом случае выглядит убедительно. Ведь даже минимум представлен ретроспективой с протяженной предысторией. Что касается институционализированной, то она измеряется многими десятилетиями, а максимум – двумя веками (в случае востоковедения). Но, разумеется, созданный научный задел и заложенная в нем традиция обеспечивают необходимую предпосылку. Решающее же значение приобретают императивы времени, которые побуждают к поиску адекватных концептуальных ответов на вызовы, меняющие среду и способ обитания мирового социума.
На сегодня главенствующим императивом нужно признать беспрецедентный переход к «новой нормальности». Так говорилось до поры до времени (впервые на встрече «большой двадцатки» в 2009 г.), пока не определились его основные очертания наяву, в каждодневной действительности3. Сегодня, как уже говорилось, налицо беспрецедентность трансформационного процесса, обусловленная его масштабами, диапазоном и степенью вовлеченности, глубиной проникновения в толщу экономической и социальной жизни, в саму ткань международных отношений. У стартовавшего переходного процесса два спусковых механизма. Первый – радикальное обновление технологического базиса. Второй – нагнетание экзистенциальных угроз, порождаемых, с одной стороны, геополитической конфронтацией, с другой – несоразмерной антропогенной активностью.
Повышенная востребованность обновленного теоретического знания ощущается в условиях смены поколений в нашем обществе. Интеллектуальное лидерство переходит от поколения, сочетающего советское воспитание и новороссийское восприятие, к поколению новороссийской формации. В этих условиях важно соблюсти рациональный баланс, сохранить позитивную традицию регионоведческих школ, не допустив выплескивания младенца вместе с грязной водой (которой у нас предостаточно).
Сказывается и возросший «вес» самой регионоведческой проблематики. Ее рейтинг, по вполне объективным обстоятельствам, подкрепляется продолжающейся ломкой прежнего мироустройства, постепенным смещением миропорядка в режим полицентричности. Отсюда, в частности, более заметная роль региональных держав в хитросплетениях мировой политики последнего времени. С другой стороны, в обстановке укоренения конфронтационной дивергенции на международной арене серьезно затрудняется (если не блокируется) консенсусное решение глобальных проблем. Относительно этого региональный масштаб все же оставляет реальные шансы для нахождения развязок конфликтных узлов и поиска конструктивных решений международного сотрудничества. На такие шансы все чаще обращают внимание авторитетные аналитики в нашей и зарубежной экспертной среде4. На сей счет найдется немало аргументов в полемике по поводу опыта открытого, закрытого, а также «нового» регионализма5. Полагаю, в частности, что в тренд возвышения региональной повестки укладывается и практика ШОС. Шанс войти в это русло есть и у СЕЛАК (Сообщества государств Латинской Америки и Карибов) в ходе реализации второго издания «левого поворота» с началом третьей декады XXI века.
Следующее обстоятельство – эффект информатизации общества, массового распространения соцсетей. Попутный результат – деформация (часто намеренная) представлений о реальности происходящего, процветание мифотворчества – все то, что сегодня связывают с феноменом «постправды». В то же время нужно отдавать себе отчет в реальном риске для нашей научной практики того, что обществоведческий постмодерн способен утопить здравый смысл, который так необходим нам в восприятии новаций современности. Более широкий взгляд указывает и на опасность другого рода: духовный постмодерн опрометчиво деформирует систему традиционных ценностей. И это неизбежно возвращается бумерангом к его же адептам.
Неудивительно, что столь весомые обстоятельства создают вызовы не только для практики, но и для возможности адекватного осмысления нарождающейся действительности. Будь с нами сегодня Леопольдо Сеа (признанный мексиканский мыслитель, теоретик «латиноамериканской самобытности» и пассионарий латиноамериканистики), он непременно продекламировал бы свою любимую присказку на случай интеллектуальных вызовов: “A filosofar, hombre, a filosofar!” Буквальный перевод на русский в данном случае не подходит. Смысл присказки: давай-ка размышлять, приятель, давай-ка размышлять6. Похоже, Дон Леопольдо воодушевлялся примером Чарльза Дарвина. Тот, находясь в пятилетнем кругосветном путешествии на барке «Бигль», располагал изрядным временем для раздумий после сбора фрагментарных сведений о природе южноамериканского побережья. Включив механизм умозаключений, он начал тогда разгадывать секрет «естественного отбора». Это, в конечном счете, натолкнуло его на теорию происхождения видов. Правда, если бы все происходило в наше время, Дарвину пришлось бы анонсировать «теорию исчезновения видов». Даром предугадывания, даром мыслительного проникновения в суть вещей обладал Анотонио Грамши. Он в полной мере воспользовался целенаправленной рефлексией для выявления обусловленности социально-политических процессов и логики их разворотов, что постфактум подтверждалось выходом в свет «Тюремных тетрадей». Наверное, аналогичным талантом был одарен и Лев Гумилев, вскрывший пружины пассионарности и ее воздействия на поведение масс.
Обращаясь к теме концептуально-теоретического оснащения регионоведения (прежде всего, его латиноамериканской ветви), автор далек от мысли вернуться к «вертикали» всесильного учения либо заняться изобретением его заменителя в некой актуализированной версии. Речь о другом – о том, что наступила пора «собирать камни», признавая одновременно правомерность и необходимость соблюдения интеллектуального плюрализма. Но, вместе с тем, автор настроен на преодоление всеядности обществоведческого постмодерна, воцарившегося у нас после ликвидации монополии «всесильного учения». Проще говоря, нужна платформа общего понимания, платформа с применением общедоступного понятийного аппарата. Это, конечно же, поможет наладить концептуальный взаимообмен – по вертикали и горизонтали. Причем, надеюсь, одновременно сохраняя элементы здравого смысла, отделяя зерна от плевел.
Иными словами, пафос нашей рефлексии обусловлен тем, что сегодня нужна отнюдь не квазимонополия на ниве обществоведческой теории в ее регионоведческом исполнении. Нам также не к лицу слепое следование очередной моде. У нас немало возможностей для опоры на концептуальные достижения отечественных школ. И это, полагаю, нисколько не конфликтует с климатом научного плюрализма. При этом, разумеется, важно поддерживать диалог, не исключающий полемику с авторитетными зарубежными школами, работающими в поле аналогичной специализации. Впрочем, отчасти так было и в советском прошлом. Но теперь, надеюсь, мы можем вести диалог без шор идеологизированного критиканства, без комплекса превосходства либо комплекса неполноценности (хотелось бы верить!). Таким образом, автор апеллирует к животворной роли научных школ в аккумулировании фундаментального знания, акцентирует содержательный науковедческий подход в качестве антитезы наукометрическому формализму.
Если говорить в общем плане, то, реагируя на указанный выше вызов, нам необходимо концептуально обновленное осмысление диалектики мирового развития, трактуемой как механизм и результат системного взаимодействия его основных факторов и компонентов.
В советском контексте мы волей-неволей привыкали к системному восприятию действительности, к системному построению своего мировоззрения. К этому, хотим мы того либо нет, приучил марксизм. И сегодня на руинах прежнего мировосприятия нам для адекватного понимания требуется собственная концептуальная опора. А потому, как представляется, формула «диалектика мирового развития» по смыслу и содержанию вполне соответствует вышеобозначенной функции. Хотелось бы верить, что в своем полихромном виде она займет достойное место в обществознании и миросозерцании. В равной мере речь идет о вероятном заполнении той ниши, которая предназначена для общеобразовательной дисциплины на финале среднего и на пространстве высшего образования. В какой-то мере это, надеюсь, позволит преодолеть вульгарный разброд и метания в головах молодого поколения. Вместе с тем повторюсь: я ни в коей мере не претендую на «смирительную рубашку идеологии».
Одновременно желательно избавиться от соблазна сводить диалектику развития к упрощенческим дихотомиям: социализм versus капитализм, демократия versus авторитаризм, правые versus левые либо государство versus рынок. И социализм, и капитализм не существуют в «чистом» виде и представлены в истории множеством вариаций. Демократия на деле дает слишком много эксцессов формализма и паразитирования на казуистике, а авторитаризм слишком склонен к конъюнктурному популизму и злоупотреблениям с искусственно устанавливаемым иммунитетом. В свою очередь, власть правых уже не может игнорировать социальные императивы, а левые – законы рынка и стимулы предпринимательской активности. Современная практика демонстрирует парадоксальные метаморфозы. Раньше левые грешили герильей, не видя альтернативы для via armada (вспомним максиму «винтовка рождает власть»). Теперь левые приходят к власти преимущественно электоральным способом. Напротив, справа перестают цепляться за «демократический фасад». Цель оправдывает средства! Все чаще ставка делается на прямое либо косвенное насилие, а вульгарный подлог перестает быть постыдным исключением.
Наконец, выбор в пользу государства рационален, когда оно имеет здоровый организм, не поражено коррупцией и криминалом. В свою очередь, частнопредпринимательский сектор, как хорошо известно, подвержен криминализации и сам заражается (и заражает) коррупцией. Короче, абсолютных истин очень мало, чистый эксперимент доступен химикам, но не общественной практике. Истина, как правило, конкретна. Исторический процесс многовариантен, и он не может сводиться к неким абсолютным истинам (верный путь к догматизму!). Спрашивается: почему в логике реализма нельзя найти оптимальное сочетание двух начал, приспосабливаясь к национальной и локальной конкретике?
Все это означает: как минимум требуется уточнение прежних категорий, которые наполняются новым содержанием. С другой стороны, немало событий, явлений и процессов до сих пор остаются за бортом своего научного (а тем более концептуального) определения. По сему поводу невольно всплывают слова Габриэля Гарсиа Маркеса, предпосланные роману «Сто лет одиночества». Мастер магического реализма написал: «То было время, когда многие вещи еще не имели наименования и их заменяли указанием пальца».
2022 год смешал карты не только в геополитической «игре», но и в интерпретации диалектики мирового развития, резко усилив ощущение неопределенности. Другое дело, что появляется определенность другого рода – со знаком минус. Рушатся надежды на достижения консенсуса в мировых делах, включая, разумеется, шансы согласия и сотрудничества в переходе мирового сообщества на платформу устойчивого развития.
Такова в общих чертах логика мотивации рассуждений на заданную тему. Другую функцию выполняет логика интерпретации, которая призвана шаг за шагом отреагировать на императивы мотивации. Отсюда следуют построение, композиция наших очерков, вошедших в эту книгу.
Первый шаг интерпретации – отправление от известных регионоведческих школ, от их достижений, обогащающих концептуальную основу обществоведческого изучения мирового сообщества, изучения междисциплинарного, предоставляющего свое «ноу-хау» отечественной латиноамериканистике.
Второй сюжет – опыт родственных регионоведческих школ, апелляция к тем их достижениям, которые имеют общезначимый характер и обогащают концептуальный арсенал осмысления современной геополитической и геоэкономической картины мирового сообщества.
Третий шаг – погружение в латиноамериканскую проблематику в жанре «кейс стади». Погружение с надеждой на понимание генетики, механизма ее развития с осознанием как творческих стимулов, так и ограничений, продиктованных чаще всего политической индоктринацией – неизбежным спутником советского времени.
Четвертое – попытка оценить концептуальные издержки и концептуальное приобретения отечечественной латиноамериканистики на этапе дезинтеграции СССР и перехода на альтернативный – «продемократический и прорыночный» путь.
Пятый шаг – объяснение побуждений к выходу за пределы регионоведческой (а порой и страноведческой) интравертности. Этот шаг прокладывает путь к сопряжению глобальной, региональной и национально конкретизированной проблематики в соответствии с объективно данной реальностью.
Наконец, шестая ступень анализа ведет к пониманию ключевых особенностей нашего времени на глобальном срезе и того, как латиноамериканский регион вписывается в эту реальность. Отсюда следуют вызовы, которые, на наш взгляд, лягут в основу исследовательской повестки обозримого будущего.