Read the book: «Свободные полеты в гамаке»
Надо возделывать свой сад.
Вольтер
© Рост Ю. М., 2022
© Трофимов Б. В., дизайн, 2022
© Оформление. ООО «Бослен», 2022
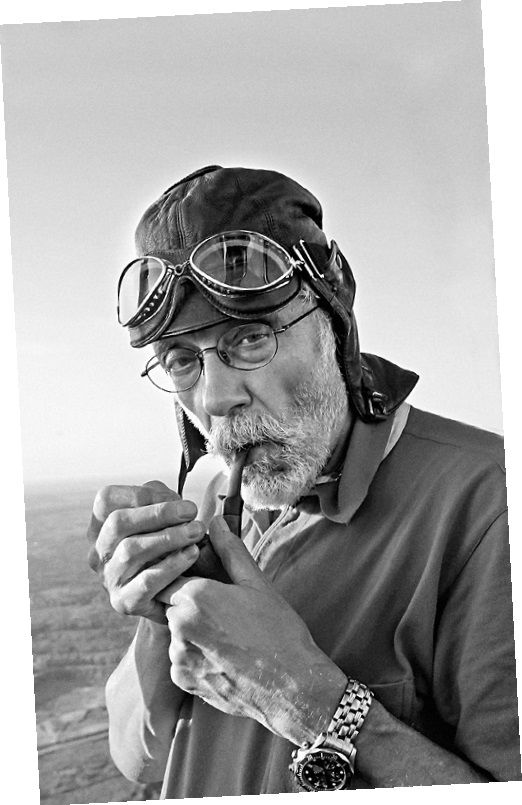
Поверх голов
(причитания после ковида)
Последствия очевидны: невероятная тупость, ничего в мозгах. Хоть бы какая-нибудь фантазия.
Казалось бы, надо взять случай из жизни и вокруг него поплясать на бумаге. Так и случай не идет в голову, словно их не было вовсе. Не сказать, чтоб не готовился к такой ситуации. Напротив. Накопил фотобумаги и негативов, будто чтоб заниматься ими, когда опустеет голова. И все оборудование для мокрой печати сохранил: увеличителей «Дарст» два с конденсорной и рассеивающей головками, лампочек для них в достатке, ванны для проявки 60 на 40 см (выставочный формат), бумаги «Илфорд» с полтысячи листов. (Уж не знаю, какой она кондиции через двадцать лет после выпуска. Но надеюсь, что кроме чувствительности, которую она чуть потеряла, осталась чем была – лучшим продуктом.) Сохранилась и фотохимия (метол, гидрохинон, сульфит, гипосульфит, сода). Тоже, вероятно, постарела, но работать может. Негативы время выдержали, к использованию годны. Печатать с них – удовольствие. Но надо самому. Рассчитывать в этой работе на постороннего нет резона.
Никто, кроме тебя, не сообразит, что на пленке изображено? И кто?
Ключ к этой тайне – ты сам. И целая твоя жизнь, заполненная персонажами, которые то появлялись в ней ненадолго, то оставались с тобой на все годы жить рядом с доверием, а нередко и с любовью.
Друг Собакин предлагает мне вернуться в темную комнату лаборатории. Это не значит, что нужно отказаться от колоссального цифрового-компьютерного прорыва в фотографии, вовсе уйдя от удобной беспленочной съемки и обработки материала на свету, лишенной тайны непроявленного негатива и рождающегося отпечатка, и отложить в сторону многопиксельную камеру, которая фиксирует всё порой даже без вашего ведома. Ты, говорит, вернись к… К чему, брат, возвращаться? Нет, не к съемке же старым способом новой жизни.
Вот именно! К рассматриванию того, что уже произошло, случилось, состоялось, но не погибло, а замерло перед тобой в момент фотографической своей смерти.
Ты еще не всех помянул, да и успеешь помянуть лишь многих. И, хотя вокруг наступило время ознакомительного взгляда, который скользит по поверхности человека, не печалься. Может быть, раньше вместо этого взгляда вообще закрытые глаза были. Ты их видел в ночном метро. Теперь, правда, они направлены на экран телефона.
Мы им не родня, Собакин.
Никому мы не родня! Родня – порядок, строй. В строю все по ранжиру. А мы – круг, мой друг! В круг входят просто, ну, не запросто. И не надо презрения к тем, кто пока за его границей. Сострадание, понимание, сочувствие могут этот круг расширить.
А начинай с точки. Она ведь тоже круг. Только маленький. В центре этой точки – ты. Черти свою фигуру.
Любая милая тебе фотографическая карточка состоит из точек. В мокром бромсеребряном процессе они называются зерном. Зерно – вот основа образа, который ты хочешь сохранить. Истинная реальность отражения жизни стохастична – подвержена псевдослучайному сочетанию точек-зерен, точек-слов. Но во всяком кадре – взгляде – поступке – действии с камерой, перьевой ручкой или клавиатурой эта случайность (если она счастливая) соответствует твоему состоянию, состояниям мира, природы, человека, которые ты наблюдаешь и фиксируешь.
Десятки (а может, сотни) тысяч негативов, к ним десятки тысяч видеофайлов – это стохастическая картина жизни, которая создается одним человеком снимающим. Ценность ее – не в свидетельствах его жизни, хотя и они порой бывают любопытны (как жизнь икры, где одна икринка на взгляд неотличима от соседней), а в жизнях других, лишенных желания и возможности самим выстраиваться в изобразительный ряд. Потому что, кажется, любой ряд претит честному носителю и выразителю своего времени.
Круг никого никому не учит. Он лишь принимает в себя тех, кто вышел из строя, или тех, кто в строю никогда не был.
Это люди собственного изображения. Или, иначе, – совершенного вида. Задачи создать образ человека совершенного вида из случайно отобранных лиц, прикрывающих светлые души, – нет. Фотография обращена к человеку, но, как и слово, достигает его нечасто. Всегда есть опасность, что багаж накопленных тобой слов и образов, оторвавшихся от тебя, может оказаться посланием, летящим поверх голов.
Многое пролетает: придуманное, форсированное, неточное, апарт обращенное ко всем, а значит, ни к кому, возвышенное, искусственное (часто и искусное) – поверх людей, поверх меня.
Бронзовые истуканы прошлого (всегда прошлого), отделенные от нас в свое время и при жизни, теперь бездвижно поселились в нашем настоящем, часто закрепляя в нем то, чего не было вовсе. И тоже смотрят поверх наших голов.
И писатели, властители чьих-то дум, в большинстве своем – поверх голов.
Сколько книг написано, господи! Заходишь в магазин, а там – они! Умные, толковые, талантливые. Классики, современники… Это все мне, Собакин?
Поверх голов. Почти все, что я люблю и читаю, – поверх меня. Не многие написали мне лично [в меня (?)], и тебе [в тебя (?)], и каждому (из круга). Первых изрядно, как написано, единственные – редкость. Удача.
Вот Венедикт Ерофеев попал точно. Там искренность метет по страницам отважно. «Мне ваша искренность мила…»
Павший момент или образ, оставивший по себе фотографический отпечаток, тоже проверяется этим редким качеством. По нему не судишь время или героя, а прикладываешь к себе. В редких и счастливых случаях прижимаешь к груди. Чтоб не поверх головы.
Вот снимок маленькой девочки, у которой болит зуб. Она смотрит на нас. Но ни вы, ни я не можем помочь.
Из какого она времени? Из времени жизни. И из этих же мест.
1. По тропинке шел прохожий

По тропинке шел прохожий
Механик собой недоволен…
Из песни (наврано)
Мои нечаянные умолчанья
В молитвы мне по благости зачти.
Николоз Бараташвили «Моя молитва»
По существу, все, что угнездилось под обложкой, – это Большое Занятие прохожего по жизни автора, которое он (я) хотел назвать «Механик и Модель». Этот Механик (или тот, кто исполняет его роль) должен был появляться (может, и появится еще – какие наши годы) в повествовании рядом с автором или вместо него, когда обстоятельства вынуждают взглянуть на себя со стороны. Модель – символ поиска и вечного душевного беспокойства – не конкретная женщина (здесь Механик лукавит), а образ, который отразился в душе главного персонажа. Такой был план. Но в рукопись, не спрашивая, свободен ли я («Гуляем по Прудам, сейчас зайдем»), пришли погостить случаи из жизней, мои друзья и необязательные мысли: «Мы ненадолго». Так сложилась эта свободная от обязательств книга. И похоже, что она вышла в свет.
Надо бы представить зрителю слов, который читает этот текст, самого Прохожего.
Давнее намерение написать о его жизни закончилось на шестой странице текста, когда герой (господи, ну какой же он герой?) признается жене, что у него «кто-то есть». Точнее, он вынужден признаться.
«Ну? Это правда? Кто она?»
Он молчит и думает: «Угораздило же пойти с Вадимом Галанцевым на тетеревиную охоту…»
На самом деле в конце апреля мы пошли в лес слушать глухаря. Галанцев, его дратхаар Беби-Гид Второй, который мог работать не только по птице, как все легавые, но и по зверю, и я, который до этого на охоте не был, а после этого случая – и подавно. У Вадима – зоолога, морфолога и охотника – был во Всеволожском районе под Питером свой глухариный ток. Он его никому не показывал, чтобы не выбили птиц. А весной наведывался послушать токование. Они с собакой, которая была умна до чрезвычайности, подбирались по мокрым кочкам бросками по несколько метров к огромной невероятно красивой птице в тот момент ее брачной песни, когда она, сидя на дереве, переставала щелкать и начинала «точить». Я неуклюже повторял па Вадима и играл в «замри».
Посчитав на ветках своих глухарей, Галанцев решил, что ток выдержит и больше птиц, и мы, к моей радости не посягнув на них, отступили на ночлег. Нашли довольно сухое длинное бревно, которое Вадим разжег, и мы устроились вдоль него спать. Галанцев лежал на лапнике, расстеленном на мерзлой апрельской земле, между мной и собакой. Ему было тепло. Я долго не мог заснуть: сначала представлял себе женщину с двумя рядами рудиментарных сосков (чуть ли не по четыре в ряд вместе с теми, о которых я имел представление и раньше) из толстой монографии Галанцева о лактации, а устав от мечтаний, стал звать Бебку, чтоб он меня тоже погрел. Но только перед рассветом, когда пес, убежав куда-то, вернулся к костру, я уговорил его лечь рядом со мной. Обняв собаку, я понял, что ночь кончилась: дратхаар сходил на охоту за птичкой в болото и вернулся мокрым.
В то утро на другом току Вадим подстрелил тетерева. Он был красив, и мы лишили его жизни в момент токования, когда он, расфуфырившись, чертил крыльями на снегу перед дамой круги любви. У меня любви не было, и Вадим, который знал, что я пойду на студенческий праздник, подарил мне птицу, чтобы я в качестве манка взял ее на вечер. В отличие от тетерева, я не был столь уверен в своей неотразимости, однако внимание привлек и попал под выстрел.
– Людмила! – Это я услышал, как взвели курок подруги маленькой аккуратной блондинки с хорошей фигурой.
– Что это у вас? Какая прелесть! Меня зовут Людмила.
И все такое…
История женитьбы тоже небезынтересна, но мы ее пока опускаем и возвращаемся на мост, где продолжает висеть вопрос: «Кто она?»
Времени на ответ у Механика было немного: он положил себе на ответ дистанцию до берега.
То, о чем я хочу рассказать, в этот отрезок времени не укладывается, и я думаю, пусть этот текст будет написан в стиле рэгтайма, то есть, если перевести на русский язык, в стиле разорванного в клочья времени. Приятнее звучит слово «лоскут», чем «клок», поэтому можно вольно толковать рэгтайм как лоскутное время.
Мы спокойно разрываем время и устремляемся к тем самым едва сохранившимся шести страницам старого текста.
«Мне сорок два года. Я холост. Точнее, я ушел от жены в канун Олимпийских игр в Мюнхене. Мы шли по мосту к Воробьевым горам, она, не видя, какая вокруг красота (светило солнце, ветер клены гнул, река светилась чешуею ряби), говорила мне слова, которых я боялся, хотя они ничего не меняли ни в моей жизни, ни тем более вокруг меня. Она подозревала. Не без основания. Но слова говорила не для того, чтоб выяснить истину (так написано, беда!) и что-то решить, но чтобы выработать у меня чувство вины, и без того развитое сильнее других чувств. Осознанная мною вина должна была, по ее предположению, утвердить меня в невозможности что-нибудь изменить в наших отношениях. Я и не собирался менять. Женщина, которой тогда увлекся, была, если честно, второй в моей жизни. К этому времени мне было тридцать три (!) года. Я прошел институт физкультуры, университет, бесчисленное количество спортивных сборов и вечеринок с веселыми девчонками. А жена оказалась первым случаем. Модель медсестры – второй. Правда, до этого была преамбула, о которой я расскажу, потому что она многое объясняет в жизни Механика и моей.
А пока о Модели – медсестре. Что это было? Внешне, если кто находит Жаклин Кеннеди привлекательной, Модель ее превосходила. Широко поставленные глаза, пухлые, но твердые губы, опыт, который она не скрывала. Она вообще мало что скрывала и, будучи замужем и имея сына от первого брака, нисколько не учитывала возможные осложнения в семье из-за наших или любых других отношений. Думаю, что больные (не говоря уже о врачах) ее любили за веселый нрав, умение и резкость, за которой угадывалось сочувствие без сантиментов.
В редакции старой (подчеркиваю) “Комсомолки”, в отделе спорта, часто появлялся шахматный обозреватель Виктор Хенкин, фронтовик и остроумец. Он рассказал историю, как одному шахматисту, прекрасно игравшему и на фортепьяно в четыре руки с женой, правильному семьянину и весьма сдержанному в страстях на сборах, выпившая компания гроссмейстеров привела в номер достойную, но в страстях несдержанную весьма взрослую дочь их товарища. Заперев дверь, жизнерадостные гроссмейстеры продолжили выпивать и играть в преферанс в качестве подготовки к турниру. Утром на свежую голову шахматисты задумались, так ли удачна была шутка, и им стало стыдно. Они мрачно сидели в холле, ожидая выхода к завтраку их товарища. Дверь номера открылась, и на пороге появился сдержанный в страстях гроссмейстер и вчерашний семьянин.
– Ребята, – сказал он. – Спасибо! Всю жизнь меня сексуально обкрадывали.
Сказать “всю жизнь” не поворачивается язык. Я полагал, что она впереди.
– Уверена, что у тебя кто-то есть, – говорила жена метрах в сорока от окончания моста.
Я отнекивался, и это придавало ей силы и веры в правоту своего поведения. Да она и была права по-своему. Сейчас мне трудно вспомнить, что она хотела. Наверное, чтоб я сказал, что люблю ее одну и никогда никого не полюблю. Потом, спустя много лет, будучи формально холостым, я придумаю формулу и припишу ее одному из выдуманных героев, Собакину. “Мои измены – единственная гарантия супружеской верности”. Но тогда у меня не было полного права на эту фразу. И этой фразы не было.
– Ну, скажи правду! – Она подняла глаза и брови. – Скажи, скажи.
– Правду? – спросил я. – Ты уверена?
– Да! Тебе же будет легче.
Она была миниатюрная, но сложена хорошо, и когда-то считалось, что у нее на филфаке самые красивые ноги. Кем считалось, не знаю. Ноги были неплохие. Но я никогда не был в нее влюблен. Я был должен.
– Если ты не женишься, меня по распределению пошлют учительницей в Катав-Ивановск. Ты этого хочешь?
Мы сидели на скамейке Марсова поля, и я после долгой паузы промычал что-то вроде:
– Ну что ты?»
До встречи с ней каждое первое января я просыпался и думал, что в новом году это произойдет! Но не происходило. Во мне было сто восемьдесят три сантиметра роста при весе семьдесят восемь килограммов, и был я спортсменом – пловцом и ватерполистом. Я мечтал о женщине. Представлял ее, радовался предчувствию. Но годы проходили, а я был таким же безупречным, каким создал меня Бог. Хоть сейчас в рай. Искушение совершилось в возрасте, когда многочисленные мои друзья обрели опыт, переженились, родили детей, а кто и развелся.
Они не мучили себя вопросом, что потом.
Двадцать четыре года мне было, когда в Гагре душным летним вечером это произошло.
Произошло… Я склонен поставить вместо отточия вопросительный знак («?»). Или написать: почти произошло. А подумав, сказать, что все-таки произошло, потому что было желание и была женщина.
Целый день мы с друзьями и этой женщиной ходили по Гагре. Загорали, обедали, выпивали, и все, включая знакомых, которых случайно встретили на пляже, знали, что сегодня ночью у меня с ней произойдет. До этого я видел ее пару раз на пляже в Киеве. Имени теперь не помню, а тогда, видимо, знал. Она была зрелой настолько, что не ее выбирали, а выбирала она. Почему меня? Возможно, я показался свежее других. Но она не представляла, насколько. Просто не могла предположить, что, прожив почти четверть века, можно остаться в этой компании таким свежим. Это был ей подарок. Я держал ее за загорелую руку и, предвкушая момент, был торжественно-небрежным. Мне полагалось играть опыт, которого у меня не было. Я старался. Клал руку на бедро, излучавшее тепло сквозь ситцевый сарафан, гладил ладонь. Она не чувствовала подвоха.
Друзья сидели за столом в саду и пели «Распрягайте, хлопцi, коней». Запевала был пьян, но нежен, и в нежности своей не стал замечать, как мы с женщиной вышли из-за стола. Она сказала: «Пойдем», и первый раз в жизни я понял точно, куда меня зовут. «Пойдем» сказала она, а не я. Можете об этом забыть, у вас другой опыт, но я запомню, потому что потом, в последующей жизни, я всегда вставал и шел, точно зная куда, лишь после того, как женщина говорила: «Пойдем». Я не говорил это слово из опасения быть непонятым, но точно знал, что могу понять его, если услышу.
Мы поднялись по ступенькам из плоских теплых камней. Дом, который сняла наша компания, прилепился к склону горы, и из окон второго этажа было видно море. Но я и не думал смотреть на него. Женщина была очень загорелая. И я ее не видел до поры, и потом не всю видел. Я не предполагал, что женщины бывают так красивы в деталях.
Разумеется, представления о том, как они устроены, у меня имелись, и не только потому, что в институте физкультуры анатомия была моим любимым предметом. Нормальная анатомия. Муляжи и препараты, отвратительно пахнущие формалином, давали представление о механизме человека, но о живом организме говорили немного. Правда, в бассейне мы наблюдали наших пловчих вороватыми взглядами, когда они выходили из воды. Купальники тогда шили из маек, предварительно покрасив в красный цвет, чтобы не совершенно просвечивали, но девушки знали, что защита условна. Выходя из воды по лесенке, они не успевали оттянуть ткань, и она прилипала к телу, рисуя все прелести, которые исчезали, едва у них на бортике освобождались руки и они пускали под тонкий хлопок воздух. Впрочем, так поступали не все. Брассистка Алла Коваленко, призер чемпионата СССР, ходила вдоль бассейна, с удовольствием отлавливая взгляды ватерполистов, которые ждали своего времени, чтобы снять дорожки для своей тренировки. Потом в сборной ей выдали черный нейлоновый купальник, и она, пустив его на каждый день, перестала быть объектом наблюдения, но и домыслить, чем она обладала, кроме прекрасной фигуры, было почти счастьем. Счастьем мечты.
Здесь, в Гагре, я ничего не помнил и не представлял себе. На время я забыл, а точнее сказать, не поверил, что сейчас, через мгновение, придет тот самый момент, которого я ждал много лет, вовсе не связывая его с реальной, живой, осязаемой женщиной, пахнущей морем и сухим вином.
Я стоял, переполненный чувством, которое давно искало выход.
«Иди сюда!» – сказала женщина спокойным, но торопящим голосом. Она была уверена во мне. Это я понял. Мне удалось ее обмануть своей веселой развязностью. Да, в то время это удавалось легко. Я полагался на ее опыт и трезвость, но нетерпение в голосе выдало ее желание. Я не рассчитывал на это. Я вообще ни на что не рассчитывал, я таил надежду, что меня научат, а похоже, от меня ждали урока.
Море, звук цикады, звезды, чужое дыхание, другое тепло, запах ночи, незнакомый мне до этого, занавеска, выгнутая ночным ветерком в парус, и я, лбом, а не губами закрывающий ее губы, шепчущие: «Ну, ничего-ничего. Так бывает, если очень хочешь…»
Все не испытанное ранее ожидание счастья, и ощущение его, и мгновенное разрушение уступило чувству вины перед женщиной, давшей долгожданное освобождение от мечты и не получившей ничего взамен, кроме волны, жаркой и крутой. Так мне тогда казалось и теперь кажется. Первое впечатление оказалось слишком сильным.
Я не знал, что делать дальше. Поднять глаза? Невозможно. Все потеряло плотность и цвет. Этот триумф был горче поражения. Что было? Произошло?
– Ничего-ничего. – Она поцеловала мою голову.
Тут в дверь постучали, и пьяный запевала веселым голосом закричал:
– Вы спите в саду, молодожены!
Она быстро накинула сарафан и спокойно вышла, улыбаясь и без стеснения завязывая пояс. Я вышел вслед за ней.
– Ну? – засмеялся запевала с одобрением.
– Ничего не было, – почти не соврал я, почему-то оправдываясь. («Почему? Хоть когда-нибудь, хоть раз в жизни понять бы, почему?» – думал потом Механик.)
– Было! – твердо сказал запевала. – Даже если не было.
Он подбадривал меня, будучи старше на пять лет и много опытнее. Звали его Толя, а кличка из-за высокого роста – Фитиль, и был он чуть ли не лучшим автослесарем в городе. Однако вместо радости я теперь испытывал неловкость и стеснение, отчасти потому, что считал, что чувствовать себя счастливее других и показывать это – жестоко. Кроме этой наивной глупости меня маяло ощущение, что я разочаровал женщину, не дав ей того, что она ожидала. Правда, тогда я не знал, что должно было с ней произойти. Но ведь должно! А не произошло.
На протяжении всей жизни Механик старался отдать тот долг женщине. Даже забывая о нем.
Этот важнейший эпизод в судьбе представлялся мне тогда конечным и единственным действием, исключающим возможность повторения. «Невозможно родиться дважды», – думал я, обнаруживая небывалую наивность.
– Вы спите под инжиром на надувных матрацах, – сказал запевала, заговорщицки похлопав меня по плечу.
– Ничего не было! – опять сказал я.
– Было-было, раз ты хотел этого и она хотела.
– Нет, мы не успели.
– Иди-иди! Она в саду.
Потом, много лет спустя после той ночи, читая «Пер Гюнта», я узнал наш ночной разговор с запевалой в диалоге Пера и доврского деда: «Я не жил с ней!» – «Но ты желал ее…»
И в раскаленном за день ночном саду я вижу не ту женщину, лежащую на надувном матраце под инжиром и с любопытством наблюдающую за моими дальнейшими движениями, а женщину в зеленом, ведущую за руку по шершавым плоским гагрским ступеням колченогого уродца, рожденного ею оттого лишь, что Пер Гюнт возжелал ее. Она преследует его всю жизнь, не давая освободиться полностью для любви. «Моя» женщина смотрела на меня с любопытством. Ну? Ты обманул меня? Или это солнце, кислое вино, или я так красива в деталях? Или, может быть, ты так неумел?
С того вечера во мне утвердилось чувство вины перед женщиной, которое, правда, никогда не мешало совершать повторные ошибки и вновь чувствовать вину, необходимость оправдываться перед друзьями, дурачить их, как мне казалось, скрытностью своих желаний и привязанностей. Отныне и впредь я всегда ждал этого «пойдем», а не говорил его сам. Почти никогда не говорил.
Та, под инжирным деревом, могла еще раз сказать «иди сюда», и жизнь моя была бы иной. (Спасенной?) Но она молча наблюдала за мной. Я тоже наблюдал и думал, что запевала может выйти в сад и, увидев, что я лежу под небом, а не под инжиром, поверит мне, что ничего не было.
Потом, в течение многих лет, в моменты, когда женщина будет смотреть на меня и ждать, я не смогу найти в своем лексиконе слово «пойдем», потому что это слово долго не станет моим. И только когда небо заржавеет на востоке и ночные шорохи уступят мир утренней тишине, и спохватившись, и отбросив страхи, ложные слова и защитные мысли, тогда я скажу тихо, почти так, чтоб она не услышала: «Иди ко мне», она действительно не услышит. Или узнает в словах чувство, которое ничего не может сохранить или приумножить, – чувство потери. И тогда я стану будить ее и прижимать ее руки к губам, и упрашивать, и обещать все, во что я в этот момент буду свято верить… И она, открыв глаза, полные синего солнца, улыбнется чудной, чужой уже улыбкой и скажет: «Все хорошо, милый. Это я виновата». И, пожертвовав этого ферзя, отложит партию в безнадежной для меня позиции, а я еще долго буду двигать обреченные фигуры, понимая, что надо сдаться и начать новую игру.
Женщина в зеленом: «Как тебя мне жаль! За вожделенье и такая плата».
– Ты скажешь или нет? – Глаза жены были сухими. Она точно знала, что я не скажу.
До конца моста было метров двадцать. Двадцать метров отделяли нас от другого берега.
– Ну?! – В тоне ее было превосходство. —
Подумай, куда ты идешь!
Я шел к берегу. Оставалось десять шагов.
– Да, – сказал я. – Есть!
Пять шагов мы прошли в тишине. Потом она сказала:
– Не выдумывай! Что ты фантазируешь?
Но я уже был не привязан.
Свободен.
