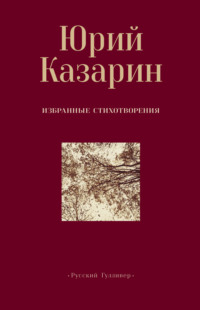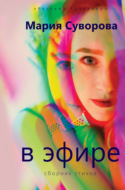Read the book: «Избранные стихотворения»
Something went wrong, please try again later
$10.75
Genres and tags
Age restriction:
0+Release date on Litres:
15 August 2025Writing date:
2025Volume:
100 p. 1 illustrationISBN:
978-5-91627-320-5Copyright Holder::
НП «Центр современной литературы»Part of the series "Поэтическая серия «Русского Гулливера»"