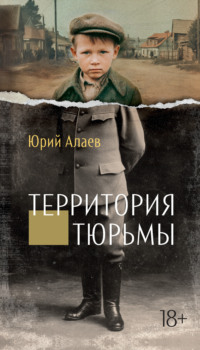Read the book: «Территория тюрьмы»
© Ю. П. Алаев, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
* * *
Моим дочерям Ане и Даше: сами того не зная, они помогли мне преодолеть мою леность
Особая признательность Шамилю Идиатуллину: если бы не его морально-волевая поддержка, эта книга, скорее всего, не увидела бы свет
Территория тюрьмы
Конюшня
В 1952 году Горкиному отцу, как прилежному коммунисту, дали отдельное жилье. Это было сдвоенное стойло в конюшне женского монастыря на окраине городка под названием Бугульма. Монастырь там был до революции, а после его переделали в тюрьму; стойла прилегавшей конюшни вычистили, прорубили окошки, приделали крыльца. Теперь в этих помещениях селились граждане нового мира. Новоявленному дому о девяти квартирах присвоили № 2 по улице Казанской, но так его не называли даже почтальоны, – место было известно как «территория тюрьмы»: от увитых колючей проволокой стен бывшего монастыря конюшню отделяли каких-то пара десятков метров. При желании в укоренившемся названии можно было усмотреть некий символизм, но местным ничего такого не приходило в голову, – территория и территория. Тем более что и сам город в предуральской лесостепи возник из воинской заставы на каторжном Сибирском тракте. Как считают образованные горожане, отсюда произошло и название: в переводе с татарского «бэгелма» значило «не сгибайся»; якобы этим возгласом местные жители подбадривали бредущих мимо кандальных, поднося им хлеб и воду.
Квартира, доставшаяся Горкиной семье, была хорошей. Предыдущие хозяева сложили здесь добротную русскую печь, выгородили кухоньку, стены оклеили дешевенькими, но свежими обоями. Вдобавок в квартире имелись просторные сени, которые в теплое время года легко превращались в летнюю кухню, и вместительный чулан. Мать с отцом в один заезд на полуторке перетащили из угловой комнатенки, которую они снимали в доме отцова брата (мать упорно называла ее хлевом), весь свой скарб. Отец уехал на работу, а мать принялась осматриваться, соображая, с чего начать обустройство.
Первое, что она сделала, – укрепила в простенке между окнами наклонное зеркало. И встала перед ним, оглядывая себя и оглаживая на бедрах веселенькое крепдешиновое платье. Тридцатидвухлетняя крепко сбитая женщина, способная и коня, и в избу, оттрубившая три года на войне, не чаявшая дождаться иной, чем в казарме или коммуналке, жизни, наконец стала хозяйкой чего-то своего – отдельной квартиры. Так! – пристукнула она каблучком по бурому от въевшейся грязи полу и пошла к колонке за водой – отскабливать-отмывать.
Зеркало
Для своих трех с небольшим Горка был весьма смышленым мальчишкой. Он, например, понимал, что его мама – красивая, она ему нравилась, хоть была строга, и он также понимал, что мама себе тоже нравится, и то, что она первым делом повесила зеркало, – правильно и хорошо. Правда, Горка не сразу сообразил, зачем надо было крепить верхнюю часть зеркала с отступом от стены, но сообразил-таки: при относительно маленьком размере оно, наклонное, позволяло даже взрослому человеку видеть себя в полный рост. А вскоре Горка открыл и другое свойство этого зеркала: если подойти к нему сбоку, можно увидеть ту часть квартиры, которая была с другого края.
Обнаружив это явление, Горка взял за правило каждое утро совершать обход зеркала, точнее – обеденного стола, который поставили к стенке под ним, и рассматривать жилище. Почему-то так оно выглядело ярче и объемнее, чем на самом деле. Слева в зеркале был виден угол казавшейся огромной беленой печи, а следом – трехстворчатый шифоньер (там на средней створке тоже должно было быть зеркало, но мать решила сэкономить при покупке). За ним – вход в кухню, где, помимо крашенного зеленым серванта и стола с табуретками, стояла мамина кровать; а если подойти к зеркалу с другой стороны, то справа были видны две кровати – отца и Горки, – их расположили вдоль стены, под коврами (отцовский – с оленем, Горкин – с парой лебедей на лесном озере). А выход в сени был невидим под углом, тут надо было встать прямо перед зеркалом. Но тогда перед Горкой возникал бледный мальчик с темными кругами под глазами, и этот вид его пугал. Он и это уже понимал: с ним что-то не так.
Круги под глазами были следствием ночных кошмаров, когда он просыпался оттого, что кровать под ним начинала раскачиваться и кружиться, а следом раскачивались в полутьме стены и потолок; Горка кричал, захлебываясь слезами, мать соскакивала с кровати, отпаивала его, потом ложилась к нему в постель, укрывая собой от напастей, и Горка засыпал. До следующего кошмара через день или два.
Интересно, что при всей своей анемичности Горка был не дурак поесть, но мать кормила его в основном кашками, супчиками, гоголями-моголями, он ел все это через силу и ждал, когда у отца будет аванс, а через две недели – и получка, как это родители называли. В такие дни к ним приходили гости, отцовы сослуживцы, и тогда мать меняла клеенку на льняную скатерть и зеркало отражало тарелки и миски с солеными груздями, огурцами, квашеной капустой, докторской колбасой и селедкой, чугунки с кусками тушеной свинины и – отдельно – с исходившей паром вареной картошкой. И кувшин бражки, и пара бутылок «белоголовой» тоже непременно отражались в зеркале, куда же без них. Такой фламандский натюрморт а-ля рюс в темно-коричневой раме, оживленный гаммой сытных пряных запахов и звяканьем посуды и рюмок, когда мужчины – большие, как шкафы, красномордые – чокались, выпивая за общее здоровье. Горке тоже наливали – клюквенного морса или кваса в маленькую граненую рюмку на ножке, и гости поощрительно смеялись, когда он залихватски опрокидывал ее и с серьезным видом принимался закусывать, хрустя капустой и руками раздергивая на волокна мясо.
Горка усвоил, что к отцу в гости приходили однополчане, все где-то там воевали с «фрицами» и часто вспоминали, удивляясь и радуясь, как удалось остаться в живых. Еще говорили о каких-то колорадских жуках, которых с самолетов разбрасывают над нашими полями американцы и которые потом «жрут картошку» (услышав об этом в первый раз, Горка опасливо посмотрел на чугунок), о дусте (ДДТ, поправлял кто-то), которым надо посыпать всходы, чтобы уберечься от жуков, о каких-то «студерах», которые американцы погрузили на корабли, вывезли в море и затопили, только чтобы нам не остались (много позже, повзрослев, Горка узнал, что имелись в виду «студебекеры», поставлявшиеся во время войны из США по ленд-лизу), – о разном разговаривали, но все равно как-то все сворачивало на войну – на прошедшую и, кажется, на будущую.
Однажды из разговора выплыла фамилия Жуков, – мол, вот как без него? – и все посерьезнели, а потом один произнес сокрушенно: «он же прям в ложу к Самому спустился по трубе! И говорит: „товарищ Сталин, как же?!“ А тот…» Что «тот», осталось невыясненным, потому что тут в разговор вмешалась мать, сказав негромко, но внятно: «заткнись, Паша». И все замолчали, ковыряясь в тарелках.
Вообще, мать с трудом переносила все эти посиделки. Горка чувствовал: она не уважает отцовых дружков (пяток лет спустя он понял, что она и отца не уважает). «Фронтовики, – фыркала она, выговаривая отцу на следующее утро, – однополчане! Какие они тебе однополчане, кто где воевал? Яйца Рузвельта в обозах уминали, – (это Горка понимал, речь шла о яичном порошке, опять американском), – теперь к тебе присосались, а ты и рад перед ними куражиться! Солдат с раной!» Последнее определение звучало погрубее, обиднее, отец багровел, но сдерживался. Может, потому, что понимал – жена кое в чем права, – фронтовиками в те годы норовили записаться все, а уж как там и где кто был на самом деле – не в застольях проверялось. Да и рана отцовская, о которой он, подпив, не уставал рассказывать, была, конечно, предметом подшучиваний. «Такой чирьяк вскочил на шее, – говорил отец, – вот с Горкин кулак, наверное, – голову не повернуть! Температура поднялась, аж мотает всего, а тут „фокке-вульфы“ эти налетели, гвоздят почем зря, и – жжик, потекло у меня под воротник. И так легко стало – ни температуры, ничего. Сел, – думаю, капец, артерию пробило. А это гной был! Чирей!» Гости понимающе кивали, посмеиваясь, но и завидуя: надо же, за всю войну один раз чикнуло, и то по чирью!
Мать слушала эти рассказы, горестно поджав губы: муж всю войну прослужил наводчиком расчета зенитного орудия, не тыловик, конечно, но все же чуть в стороне от пекла, а она успела побывать в нем самом – горела в Ил-4 в воздухе (экипаж чудом посадил бомбардировщик на своей территории), полгода провалялась в госпитале, борясь со слепотой, была списана из бортмехаников в наземные механики по вооружениям, цепляла 250-килограммовые бомбы… А тут осколком чирей срезало, и разговоров на всю жизнь!
Тем не менее она старалась быть правильной женой, знать, как говорится, свое место и безропотно стряпала к приходу гостей, ухаживала за ними, следя, чтобы тарелки были у всех полны и вовремя поменяны, подливала напитки…
Все оборвалось в один субботний вечер, когда в компании появился новенький (командированный, скупо пояснил отец, из главка) – сухощавый, среднего роста мужичонка с жидкими, зачесанными на прямой пробор волосами. Заявившись, он первым делом сунулся целовать матери руку. Горка в изумлении раскрыл рот, а мать, выдернув руку, проговорила невесть откуда взявшимся ледяным тоном: «Товарищ из господ? Должен знать тогда, что к руке склоняются, а не тянут к губам, как стакан». Эта сцена вызвала в компании секундное замешательство, но гость быстро нашелся, с улыбочкой прочастив что-то извиняющееся насчет «хондроза», и уселся в торце стола, рекомендуясь направо и налево: «Пегенякин, вот, к Прохору Семеновичу с дружеской ревизией, Пегенякин, рад». По такому поводу первую выпили за нового знакомого, затеялся общий разговор, мало-помалу все оживились, расслабились, но Горка чувствовал, что мать непривычно напряжена и старается не смотреть в сторону этого Пегенякина.
Первый раз заискрило, когда Пегенякин, подпивший уже до развязности, улучил момент и елейно спросил мать: «вот вы культурные, я вижу, с Прошей, а пиджак некуда повесить, напольных плечиков нет разве у вас?» Мать не нашлась что ответить, вспыхнула и выскочила в сени, загромыхав там ведрами, а отец принял у гостя пиджак и аккуратно повесил на спинку стула, заметив с улыбкой: «ничего, и тут не помнется». И опять все вроде успокоились, продолжили про свое. А потом разговор свернул на то, кто где квартировал в Германии после победы, перед отправкой домой, и Пегенякин принялся рассказывать про какую-то немку, все больше вдаваясь в подробности. «Ну, я ей завернул как след, – воодушевляясь до блеска в глазах, говорил Пегенякин, – а она руками плещет и – „битте, битте“, а больше и слов у нее нет!» он засмеялся было, но тут что-то свистнуло в воздухе и с грохотом рухнуло за зеркало. Все онемели, глядя на Горкину мать, которая, тяжело дыша, стояла за спиной пригнувшегося к столу Пегенякина с черенком ухвата в руках. Горка перевел взгляд с нее на зеркало и с ужасом увидел, как оно прямо на глазах принялось чернеть, ничего уже не отражая.
…Из обморока его вывели, дав понюхать уксуса. Гостей уже не было, Горка лежал в постели и смотрел, как отец пытается приладить ухват к черенку и бурчит в сторону жены: «а ты – „закрепи гвоздем“ да „закрепи“, закрепил бы, так ты башку бы человеку снесла». Тут до Горки дошло, что же это свистнуло в воздухе и улетело за зеркало: ухват слетел, когда мать замахнулась. Горка попытался представить, как он летел, но так и не понял. И уснул. Утром он пошел к зеркалу с опаской, но все было нормально: оно отражало их жилище, как обычно.
Отец
Прохор Семенович Вершков служил директором Горпромкомбината, который и приехал ревизовать Пегенякин, то есть был, что называется, не последним в городе человеком, и слухи о скандале быстро разнеслись по Бугульме, как и то, что ревизор нашел больше, чем мог бы; стали даже поговаривать, что недолго Вершкову осталось директорствовать, а как бы и не посадили. Сами собой сошли на нет многолюдные застолья в его квартире, круг друзей сузился до того, что им хватало на «посидеть» кабинета в местном ресторане. Но Вершков к своим пятидесяти успел повоевать в гражданскую, вступить в партию, худо-бедно не только школу окончил, но и кооперативный техникум, да так, что его оставили преподавать, а перед самой войной дослужился до назначения начальником швейного цеха Горпромкомбината, в одночасье выросшего на завершающем этапе индустриализации из артели «Кустарь». К тому времени он был уже дважды женат, имел от второй жены трех дочерей, жил у нее примаком… Повидал, короче, всякого, так что к несложившемуся визиту ревизора отнесся стоически и даже загордился про себя, поняв, что после случившегося жену его в городе зауважали по-особому.
На отечественную войну Прохор попал при не вполне ясных обстоятельствах: тридцать девять лет, какой-никакой, а начальник, номенклатура, дети на руках – не должны были призывать, но в октябре 42-го он как-то внезапно собрался, поцеловал в лоб суженую, хмыкнув неизвестно чему, потискал задумчиво старших дочерей, посмотрел на валявшуюся в люльке младшенькую и уехал на попутке в Куйбышев, на сборный пункт. Бывшего в ладах с математикой, Прохора Семеновича определили, как вскоре узнала многочисленная родня, в наводчики зенитного орудия, при нем он и прослужил до Победы, заставшей их батарею под Кенигсбергом.
Вернулся Прохор в Бугульму с орденом Красного Знамени (самым «мутным» по статусу и причинам для награждения из советских орденов), пятком медалей «за освобождение» и «за взятие», а также и «За отвагу» и кое-каким скарбом. Точнее, бо́льшая часть скарба уже была дома у старшего брата Василия: в 45-м воинам армии-победительницы официально было разрешено отправлять домой посылки из «заимствованного» у бюргеров добра; рядовым – до пяти килограммов в месяц, офицерам – до десяти, а генералам, поговаривали, и вообще без меры. Сержант Вершков натаскал немного: патефон, кофр с пластинками, комплект льняных салфеток с надписями по краям красным по белому «Tischtuch» (то ли «платок на стол», то ли «тряпка для стола», понимай как хочешь), двухкомфорочный керогаз с асбестовыми фильтрами, длинное кожаное пальто, габардиновый плащ и отрез тонкого сукна.
Трофеи эти оказались у брата потому, что под новый, 1945 год Прохор Семенович оказался вдовцом: жена скончалась от заражения крови. Что за заражение, откуда – никто и не разобрался толком, мало ли людей умирало в войну. Детей Василий с женой приютили, конечно, но когда Прохор вернулся в Бугульму, к «октябрьским», то тут же возник вопрос о хозяйке: куда отцу-одиночке с тремя дочерями?
Стали с родней присматривать, и выбор пал на статную шатенку Наталью, служившую кассиршей в местном «Заготзерне». Прохора она привлекла контрастом между темной «мастью» и холодным огнем голубых глаз, а также набором трофейных кокетливых шляпок и вуалей, которые Наталья надевала на танцы в городском ДК и смотревшихся на ней не хуже, чем на Любови Орловой. Деловитой жене Василия Луше Наталья понравилась тем, что была круглой сиротой. «За ней никто не встанет, а она за тебя, если возьмешь в жены, живот положит, – припечатала как-то за ужином Лукерья и добавила: – и к труду сызмальства привычная, что тебе тягловая лошадь». Последний аргумент диссонировал, конечно, с образом Любови Орловой, но произвел на Прохора впечатление. Наутро он запряг служебный тарантас и поехал в «Заготзерно» делать предложение.
Тут надо пояснить, что, демобилизовавшись, Прохор Семенович времени не терял: чуть ли не в день приезда явился в горком партии, доложился, встал на учет и после короткого разговора с «первым» получил направление на руководящую работу – в тот же Горпромкомбинат, только уже начальником не швейного цеха, а всего предприятия, в котором были еще кирпичный и столярный цеха, шорная и сапожная мастерские, а также парк гужевого транспорта, состоявший из десятка лошадей, телег и начальственного тарантаса на резиновом ходу и с рессорами от «опель-капитана». Это наследство досталось Вершкову от предшественника с неприличной фамилией Бляденков, внезапно уехавшего куда-то на Украину. Так что Прохор Семенович в самом деле был не последним в городе человеком и завидным женихом, чего экс-бортмеханик Таманского бомбардировочного гвардейского полка, а теперь просто кассир в затрапезной конторе Наталья Абрамова не могла не оценить. И оценила, утихомирив свою гордыню.
Поженились они в первых числах марта 47-го года, очень скромно, по-деловому можно сказать: днем расписались в ЗАГСе, а вечером отметили событие в пятистенке Василия на окраине Бугульмы.
Из гостей, помимо Василия с Лукерьей и двух их сыновей, были только свидетели брака: горпромкомбинатовский закройщик Лева Гируцкий, сосредоточенный еврей лет сорока с небольшим, и курчанка Клава, кладовщица конторы «Заготзерно». «Горько» не кричали (Прохор Семенович строго наказал обойтись «без детства» еще до того, как сели за стол), а песни, захмелев, пели, конечно, – и «Шумел камыш», и «Мороз, мороз»… Лева, хлебнув как следует браги, грянул было «Артиллеристам Сталин дал приказ», но был остановлен внезапной репликой Натальи: «Орел! Любишь начальникам лизать?» Она, надо думать, имела в виду, что Прохор Семенович был артиллеристом, но сказалось как-то не так, и над столом повисла тишина. На Наталью при этом не смотрели, смотрели на Леву. Он постоял, опустив голову, потом встряхнулся, взял стакан и предложил, усмехнувшись виновато: «Ну, тогда за молодую! Счастья тебе, Наталья!» Зашумели, задвигались, чокаясь, старший сын Василия, тоже Вася, кинулся заводить патефон для танцев, но воздух из застолья вышел, и вскоре свадьбу свернули.
Глубокой ночью, намесившись с женой под ватным одеялом, Прохор Семенович осторожно спросил, обтираясь простыней: «Наташка, а ты не троцкистка, случаем?» – «Идиот, – хрипло откликнулась Наталья, укладываясь лицом к стене, – ты лучше думай, где мы жить будем». Ну, он и надумал – в стойле. Правда, пришлось подождать, походить по кабинетам, и получил он жилье чуть ли не как награду к пятидесятилетнему юбилею.
Бычья кровь
Горку Наталья родила в двадцать девять, по тем временам поздно, и мальчик принялся умирать, едва родившись. Неизвестно, что тут сказалось – возраст матери, скудное питание, а скорее всего – трагедия, случившаяся в их семье, когда Наталья уже была на сносях: внезапно и необъяснимо умер ее первенец, полуторагодовалый Валерка, – сгорел за сутки, заходясь в крике и хрипах. Наталья слегла с сильнейшим нервным потрясением и родила Горку на девятый день после смерти его старшего брата.
Роды проходили тяжело, у нее почти не было сил (а может, желания) исторгнуть на свет божий еще одного ребенка, но пацан вылез в итоге и вполне себе ничего – под четыре двести весом и пятьдесят три сантиметра в длину. Вопреки опасениям врачей, у Горкиной матери не пропало молоко, и когда он первый раз вцепился губами в материнский сосок, она вздохнула глубоко, тайком перекрестилась и решила, что надо жить дальше.
Однако спустя два месяца молоко иссякло, ребенка перевели на искусственное вскармливание, начались запоры, стал стремительно развиваться рахит, Горка исхудал, а в годик с небольшим у него случилось двустороннее воспаление легких.
Наталья буквально обезумела. Лежа с Горкой в больнице и ловя хмурые взгляды врачей и медсестер, все чаще думала, что все это с ее ребенком неспроста, как неспроста умер и первый. «Сгубили, губят, – шептала она своей подружке Клаве тоже уже почти в горячечном бреду, – это его отродье мне мстит, сволочи!» Клава отводила глаза и сморкалась в платок.
«Отродьем» Наталья называла дочерей Горкиного отца от предыдущего брака. Собственно, с ними жила только одна, младшая Римма, две другие дочери Прохора Семеновича обособились сразу, как только отец обзавелся новой женой. Старшая, Нина, как раз окончив институт в Куйбышеве, получила распределение на радиозавод во Львов, за ней увязалась и средняя, старшеклассница Галя. Брак отца с Натальей старшие дочери не одобрили, но Римма, которой в год рождения Горки исполнилось семь лет, просто и без принуждения звала Наталью мамой, послушно делала, что велели, по дому и охотно тетешкалась с Валеркой. Ей и досталось.
Наталья Римму терпела, но и только: морщилась, чуя, как ей казалось, фальшь, когда слышала «мама», с молчаливым осуждением смотрела, как Римма чистит картошку – как карандаш точит (пыталась показать, как надо, чтобы тонкая шкурка змеилась под ножиком, да без толку, белоручка, что с нее возьмешь), и едва сдерживалась, чтобы не отнять, когда Римма принималась играть со сводным братиком. Однажды и вправду заигралась: поднесла Валерку к дверце печки-голландки, открыла кочережкой, чтобы тот на огонь полюбовался, а малыш качнулся, да и схватился за раскаленный металл. Сильно обожгло Валерке ладошку, до мяса, и заживала она как-то нехотя, но обошлось вроде. Этот случай не то чтобы забылся Наталье, а затушевался со временем, но вспомнился до мельчайших деталей, когда Валерка внезапно умер. И теперь напасти валились одна за другой на нее и ее второго сына, она уже другими глазами смотрела на то, что случилось тогда, особо отмечая, как тихо, молча стояла среди плача Римма. Отродье.
С пневмонией Горкин организм все-таки справился, но перед выпиской из больницы Наталью «осчастливили» новым диагнозом: малокровие у вашего мальчика, мамаша.
Когда это обнаружилось, седенький, дореволюционного образца, доктор Земляникин прописал Горке лечение с довольно экзотическим оттенком: наряду с типовым гематогеном, куриными бульонами и гоголем-моголем по утрам, велел давать по десертной ложке кагора перед сном. Отец, узнав об этом, только хмыкнул: «не спился́ бы», а мать, для которой доктор Земляникин был запредельным авторитетом («он городского голову лечил, что ты ржешь!»), восприняла все очень серьезно и побежала делать запасы – и гематогена, и кагора, который – что было для Натальи тоже важно – слыл церковным вином.
Какое-то время диета от доктора Земляникина делала, казалось, свое дело: Горка заметно поправился, порозовел, стали выправляться ножки (может, сказалось и то, что мать туго их пеленала с шести месяцев), но потом начались ночные кошмары с раскачивающимися стенами и потолком, Горка снова начал худеть, попутно перенося одну за другой все детские болезни по списку, от кори до скарлатины, и мать опять потихоньку начала сходить с ума.
Главным виновником всех бедствий стал муж, который не смог достать для сына путевку в санаторий, который думает только о себе (там было о чем подумать – Прохор Семенович вернулся с войны туберкулезником), который только свою Римку любит, а их – нет, который только жрет и пьет, который…
Отец уходил от скандалов как мог – засиживался допоздна в своей конторе, уезжал в выходной на рыбалку, стал заметно чаще выпивать, дошло до того, что он отослал жить к брату родную дочь (Римма и это снесла безропотно), но ничего не менялось – ни в отношениях с женой, ни с Горкиными хворями. На помощь пришел случай.
Среди отцовых приятелей был директор местного мясокомбината Карпухин, и, когда Прохор Семенович однажды поделился с ним проблемой, этот Карпухин, выслушав и подумав, сказал: «Кровь плохая, говоришь? Так надо хорошей добавить, бычьей – сам как бычок станет». И засмеялся. Прохору Семеновичу было не до смеха, но, выслушав аргументы приятеля, он решил, что хуже не будет, и согласился с карпухинским планом. Осталось сделать так, чтобы о нем не узнала жена (Вершков даже представить не решался, что бы тогда было), и Прохор Семенович придумал, что по субботам у них на комбинате бывает объезд лошадей, и он будет брать сына с собой, чтобы побольше бывал на свежем воздухе. Как ни странно, Наталья на это повелась (хотя, если подумать, какие там могли быть объезды тягловых кляч?), и так однажды Горка узнал вкус крови.
Карпухин Горке не понравился, едва они вошли в его кабинет, – такой насупленный боров, и посмотрел на него, как на щенка какого, – но сам кабинет – да: весь в темных («под дуб», – шепнул отец) панелях, с развернутым бордовым знаменем в углу… Пока Горка оглядывался, усаженный за приставной стол, «боров» снял трубку и буркнул: «с бойней соедини». И еще что-то буркнул потом. Через некоторое время в кабинет, толкнув дверь ногой, вошел такой же сумрачный дядька, только похудее, с тяжелой даже на вид стеклянной колбой в руках, поставил ее перед начальником на стол и, ни слова не сказав, вышел. Колба была до краев наполнена чем-то ярко-алым. «Ну вот, мужики, – сказал, доставая стаканы, хозяин, – давай, как заведено, махнем на троих».
– Это… кровь? – как-то догадался Горка, глядя на чуть вспенившуюся жидкость в своем стакане. – Пап, я не могу.
– Надо, сынок, – сказал отец, – давай, за твое здоровье, до дна! – И, не отводя от сына глаз, принялся пить, подавая пример.
Кровь была еще теплой, сладковатой и одновременно будто чуть подсоленой, у Горки стало сводить живот, но он пил и пил. Пока не выпил. «Ну вот, – удовлетворенно хрюкнул „боров“, отирая губы, – лиха беда начало, как грится. А теперь давайте, мужики, у меня дел тут еще… Жду через неделю».
Они ездили на мясокомбинат еще раза три, может, четыре – Горка не запомнил, – и удивительное дело – ночные кошмары прекратились! Горка нормально спал, просыпался бодрым, с удовольствием играл с соседскими пацанами… Мать не удержалась однажды – вскользь заметила мужу за ужином: «вот, Римки-то нет, и вот», но Прохор Семенович только отмахнулся с досадой: он-то точно знал, что дело в бычьей крови (хотя понимал, что кровь была коровьей, так-то быков не напасешься).
…Кошмар догнал Горку несколько месяцев спустя, но не такой, как обычно. Он проснулся среди ночи оттого, что начало что-то светить в глаза, все ярче и ярче, белым раскаляющимся светом. Свет шел из проема на кухне между стеной и печкой-голландкой, Горка смотрел туда, немея, и вдруг увидел, как в этом сиянии появляется что-то еще более сияющее – человек в белоснежном кителе и фуражке. Он стоял к Горке спиной, а потом начал медленно поворачиваться, взглянул на Горку – и усмехнулся в усы.
Горкин вопль услышали, наверное, и соседи. Мать с отцом кинулись к нему, но он продолжал пронзительно кричать, а потом забился в судорогах. Уснул Горка только под утро, а днем его снова начало колотить. Вызвали врача, приехал какой-то, кого мать не знала, послушал, пощупал, пожал плечами – да нет, вроде ничего, переволновался просто – и уехал, дав каких-то порошков. Горка уснул, а вечером снова начались корчи. Соседка Галя Лях, жившая за стенкой, пришла (значит, услышала все-таки ночной вопль), посмотрела и отозвала Наталью в сторонку. Переговорили, соседка ушла, а ночью Горка проснулся оттого, что ему в лицо брызнула вода, как при глажке белья фыркают. Открыв глаза, Горка увидел над собой старушечье лицо и глиняный стаканчик, в котором что-то булькало и шипело – уголья. Старуха опять набрала оттуда в рот и фыркнула в Горкино лицо, побормотала невнятно, набрала – фыркнула. Под это фырканье и бормотание Горка забылся, а утром проснулся без ломоты в теле и с нормальной температурой. Что называется, сняло как рукой.
За ужином мать, переглянувшись с отцом, осторожно спросила Горку, что́ ему приснилось. Горка напрягся, но, помявшись, рассказал как мог. После долгого молчания – мать с каменным лицом смотрела в тарелку – отец, кашлянув, сказал: «Забудь. Было и нет. Обещаешь?»
Забыть не получилось: через день все радиостанции Советского Союза сообщили, что умер Сталин, а еще через пару недель пошли слухи, что это случилось не 5 марта, как сообщили, а 3-го, как раз в ночь Горкиного кошмара.