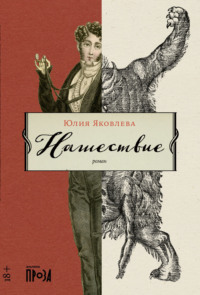Read the book: «Нашествие»
Издательство благодарит Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency за содействие в приобретении прав
Издатель П. Подкосов
Продюсер Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры Т. Мёдингер, Ю. Сысоева
Компьютерная верстка А. Ларионов
© Ю. Яковлева, 2022
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2022
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *


Глава 1
Охота на человека не отличается от охоты на любого другого зверя с тёплой кровью. Тем более когда человек – сам зверь.
С собой нужно: пристрелянное ружьё, сумка с порохом, дробь. Дробь – это, конечно, так, только чтобы подранить, остановить. Добивать всё равно надо ножом или рогатиной. Потом следует подвесить за ноги и дать крови стечь. Её надо вылить поодаль. А голову – отделить от тела.
Некоторые советуют напоследок вбивать в грудь кол. Но скорее всего, просто путают с вурдалаками, а это не то же самое.
СМОЛЕНСК, ЛЕТО 1812 ГОДА
Иван с разбега вжался в дерево, шлёпнул ладонями по стволу, боясь шевельнуться. Высоко в кронах заливались птицы.
Услышать бы что. Но грудь сипела, заглушая все другие звуки.
Увидеть бы. Но перед глазами плясали серые точки.
Унюхать бы. Но мир весь состоял из одного запаха – его собственного: резкого, пронзительного запаха страха. На потный лоб сел овод. Иван мотнул головой, мазнул рукавом. Согнал. С бровей скользнула капля пота. Сморгнул. Вытаращился.
Просека казалась ему пропастью. На той стороне ели приподнимали колючий полог: мол, сигай, спрячем.
Но просеку ещё надо было как-то перебежать! Если они поджидают его в схроне, лучше места не найти: снимут одним выстрелом.
Иван прикинул. Сигануть? Пан или пропал.
А если пропал?
Знать бы, где они. Посопел. Но от бега нос пересох. Иван сунул в рот палец, обслюнявил. Ткнул в ноздрю, в другую. Осторожно потянул воздух.
Кислый хлеб, дёготь, ружейная смазка, порох. Пакостный человеческий дух ел глаза: густой, как дым. Они не отстали, шли по следу. Близко ль? Далеко? Казалось: рядом.
Наклонил голову. Весь стал собственным ухом.
Воздух колебался. Звенел, шуршал. Пройти сквозь него бесшумно они не могли, так же как не могли просочиться сквозь паутину, не задев ни одной нити. Иван слышал всех четверых. Стреляли под ногами сухие травинки. Хрупали сучки. Пыхал мох. О железо клацало железо.
Дурни. Охотнички, царя небесного олухи. Эк звенят. Могли бы тогда уж и в чугунные горшки колотить.
Он ощутил собственное превосходство. Ухмылка поползла сама. Глянул на тот берег, на зелёный полог. Решился. Пан!
Вынул из травы одну ногу, бесшумно опустил, слушая землю всей подошвой. Потом другую. Отделился от ствола, не уронив с коры ни чешуйки.
Сиганул через солнечный коридор. Молотя локтями. Чуть не хлеща себя пятками по заду. Юркнул в зелёный сумрак с банным звуком – хлестнули по груди, по лицу листья.
И напоролся, как на штырь:
– Стоять, Иван.
Вместе с дыханием вырвался запах: запах рта, который не трескал кислого хлеба. Барский.
Иван обмер. Вылупился. Сердце билось так, что в такт подрагивало небо.
Вороной глазок ружья смотрел в грудь.
Барин был незнакомый. Не мочалинский барин уж во всяком случае.
– Не шевелись, – предупредил барин.
Было в этом запахе ещё что-то. Что-то такое, от чего заскребло под коленями, защипало под мышками, защекотало в затылке. Запах барина заполнял Ивану голову, как тьма.
Дуло качнулось.
– Стой, сказал! Я тебе худого не сделаю. Я друг.
«Хотел бы прикончить, давно б выстрелил, – соображал Иван. – Вот только прикончить – это ещё не самое худшее, что такой, как он, может сделать с таким, как я».
Иван сглотнул сухой комок в горле:
– Ружьишко бы опустил, что ли. Раз друг.
Вороной глазок медленно потупился.
Барин, видать, то ли дурной, то ли ни разу не линявший.
Иван брызнул в кусты быстрее, чем мысли успели за телом.
Калёный неподвижный запах созревающих колосьев. Белое невыносимое небо. И пыль. Пыль на крыльях коляски, в складках платья, на лицах и шляпах.
– Вы давно здесь не бывали?
Мари отвернулась от леса и оборотилась к спутникам, что сидели перед ней. Это были немолодая дама, дальняя родственница, княгиня Печерская, и её зять – чиновник средних лет. Оба ехали в смоленское имение, только что полученное по завещанию.
– Шесть лет, – ответила.
Коляска подпрыгнула на выбоине. Подпрыгнули на сиденьях и пассажиры, а собачка клацнула зубами. Разговор оборвался, и все забыли, о чём он был.
Щёки зятя тряслись на неровной дороге, бакенбарды от пыли стали как войлочные. Воздух вокруг него пах скисшим сладким вином. Он то и дело утирал пот и видимо страдал от похмелья. Жара доконала его. Коляска в очередной раз подпрыгнула, Мари вспомнила фамилию этого толстяка: Марков. Лицо старой княгини Печерской было тоже покрыто пылью. Пыль забилась в морщины. Княгиня держала на коленях собачку. В Москве собачка была белой. Теперь стала серой.
«Наверное, и у меня лицо в пыли». Мари расстегнула ридикюль, чтобы вынуть зеркальце, посмотреть, отряхнуть платком. Но не вынула. Застегнула ридикюль. Какая разница? Через несколько минут опять будет всё то же. Мари ограничилась тем, что развязала, ослабила на шее косынку и расставила локти, чтобы не чувствовать отвратительную влагу батиста под мышками. Под лентами шляпы чесалось. Назад уплывали, покачиваясь, зелёные каскады берёз. Трепетал, как розовый флажок, язык болонки.
Коляска въехала в лес. Из белого зноя – в зелёный полумрак. Через несколько минут глаза пассажиров привыкли к тени и окрасились смыслом. Собачка, облизнув напоследок нос, втянула язык и закрыла пасть. Все четверо глядели по сторонам. Мари чувствовала, как засосало отчего-то под ложечкой. Лес всей массой зелени, света, теней валил назад. Блики, тёмные провалы. За рябой кутерьмой листвы угадывалась глубина, как угадывается глубина под ребристой поверхностью моря. Тёмная, неподвижная, холодная – и обитаемая.
– Шесть лет, вы говорите? – ожила, удивилась княгиня.
– С тех пор, как вышла замуж, – пояснила Мари.
– Странно, должно быть, вновь оказаться в родных местах, – заметил толстый Марков.
Кучер чмокнул, прикрикнул:
– Н-да, родимые.
Но не лихо прикрикнул. В голосе его была тревога. Хлопнул вожжами. Копыта стали бить чаще. Коляска покатила быстрее. Пассажиры ухватились за борта.
– А что, любезный, – обернулся к толстой заднице кучера и спросил по-русски Марков, – говорят, волков в этом году пропасть?
– Бывают, – ответил кучер.
Зять княгини не отстал:
– Охотники сказывали. Давно такого в окрестностях не видали. Скот режет. Слыхал что?
– Развелось, грят, – неохотно согласился кучер. – В Бурминовке, в Карповке, в Мочаловке только и разговоров, что развелось.
– Что ж охотники? Спят?
– Не спят. Да только это такеи волки, капкан чуют. Собак рвут. У домов рыскают. Страх потеряли.
Дамы тревожно переглянулись. Старуха осуждающе глянула на зятя. Но тот не унялся:
– Ишь ты. А что, и на людей нападали?
Старуха сердито и быстро приказала по-французски:
– Прекратите, пожалуйста, этот вздор.
Кучер тем временем говорил:
– А то! К войне это, грят. Волк, грят, он мертвечину если распробовал, обратно ходу нет.
Пассажиры скривились. Старуха вперила в зятя негодующий взгляд. Под его калёным жаром Марков громко по-русски перебил кучера:
– Ты врать-то брось!
Обернулся виновато к дамам. Старуха поджала губы:
– Найдёте же вы, о чём разговор завести, – упрекнула зятя.
Ей за многое хотелось его поддеть, укусить. Он источал густой сивушный запах: ртом, всеми порами. Княгиня старалась делать вид, что не замечает, не упрекать, не кусать. Зять её, говоря по-русски, крепко закладывал за галстук. Старуха решила прекратить это раз и навсегда. Но совсем не тем методом, каким на Руси издавна такое прекращают, а… Его недуг она решила победить во что бы то ни стало. За тем и ехала в Смоленск, забрав зятя под наполовину выдуманным предлогом. Ссориться с ним на пути к цели она не могла. Большой стратегический план требовал тактических жертв, и, сказав себе: «Не время сейчас», она поджала губы.
Зять тихо икнул, прикрыв рот кулаком.
– Вы слыхали наши последние московские новости, дорогая? – Наклонилась к Мари: – Граф Безухов разъехался с женой.
– Вот как?
Об этом судачили и в Петербурге.
– Удивляюсь, как бедная Элен его столько терпела. Святая женщина, – болтала Печерская. – Другая бы на её месте уехала от такого мужа сама.
Княгиня Печерская и её пьяница-зять сидели спиной к движению. А Мари со своего сиденья, лицом к ним, увидела, что кучер весь подобрался. Стал озираться: налево, направо, налево, направо.
«До чего неприятно, в самом деле».
– Неужели вы не скучали по родным местам все эти шесть лет? – светски завёл снова краснолицый Марков.
Вдруг собачка на коленях у старухи вскочила на коротенькие кривые ножки. Затряслась. Шерсть на загривке дыбом. Глазки выпучились.
Все трое пассажиров невольно подумали одно и то же. Но день был дивный, любая самая мрачная мысль тут же лопалась на солнце. Лопнула и эта.
– Фидель, Фидель, – захлопотала старая дама.
Собачка оскалила мелкие редкие зубки: звук такой смешной, что и рычанием не назвать. Жужжание маленького моторчика.
– Тубо, Фидель. Да что с тобой? Тубо!
Что столь крошечное существо вызывалось грозить кому бы то ни было, смешило и умиляло.
– Давайте я его возьму, – с улыбкой предложила Мари. – Отважный мал…
Фидель закинул вверх косматую моську – и завыл. Лошади всхрапнули.
А потом грохнул выстрел. Плеснул рукавом вспугнутых птиц: фррррррр. Лошади вытянули шеи и рванули так резко, что Мари выронила сумочку, мотнула концом шали, ухватилась за сиденье, клюнула полями шляпы колени толстяка, тот и княгиня завалились назад, собачка ткнулась хозяйке в живот.
– Тпру! Шельмы! – Кучер, откидываясь всем телом, наматывал на кулак поводья. Тщетно! Лошади летели как шальные.
Княгиня обеими руками прижимала к себе ридикюль и собачку. Марков упирался ногами, прищемив чей-то подол. Мари одной рукой вцепилась в борт, другой тянула сбившуюся назад шляпу – та хлопала, как парус на ветру. Концы косынки выскользнули, хлестнули Мари по лицу на прощание – косынка улетела.
– Боже мой… Да остановите же… Держитесь!
На полу коляски каталась и стукалась её сумочка.
Вот опять это чувство. Смотрит прямо в глаза. Эта дама с жёлтой розой. Только глаза и удались, счёл Облаков. Чтобы избавиться от наваждения, рассмотрел портрет придирчивым глазом покупателя. Дурно и грубо написанная рука, что сжимала розу, выдавала работу доморощенного крепостного живописца; а сам цветок художник из крестьян изобразил куда приметливее и точнее. Платье и пудреная причёска дедовых времён соответствовали немодной обстановке гостиной. Она не изменилась за шесть лет. С тех пор, как Облаков был здесь в последний раз.
Бр-р-р-р, передёрнул он плечами, так что дрогнули жирные золотые червяки погон. Тот – последний раз – вспоминать не хотелось.
Облаков отошёл от портрета. Скрипнул креслом, сдвинул, развернул. На пальцах осталось неприятное чувство, отряхнул руки. Ну и пылища. А слуги-то на что? Экономка? Ключница хотя бы?
На крыльце его встретил старый Клим, он же проводил сюда.
Других Облаков не видел.
«Может, и нет никаких слуг?» – с новой мыслью огляделся Облаков.
Подёрнутая серой пылью полка над камином была пуста. Ни часов, ни портретов в рамках, ни фарфоровой дребедени, милой дамам. Камин разевал давно не чищенную пасть. Диван и добрая половина кресел были в чехлах. Обои потускнели. Шторы выцвели. С потолка свисал сероватый кокон: хрустальную люстру давно не зажигали. Под сапогом мелко похрустывало – пол не мели, не мыли. Давно не вощённый паркет рассохся и был тускл. Ковёр был скатан у стены. Всё носило следы запустения и пренебрежения. Облаков прислушался. Дом был тих. Той тишиной, которой никогда не бывает в доме, где работает кухня, где моют посуду, где стирают, где гладят, где носят дрова, где чистят серебро, где разводят огонь, где греют воду, где перестилают постели, словом, где для дворни найдётся тысяча дел каждый день. Похоже, слуг в этом доме и правда не было. Но как так? «Бурмин – среди наших крупнейших землевладельцев, – только что, утром, сказал губернатор. – Если уговорите его, остальные задумаются». Не разорился же Бурмин, с утра-то?
Взгляд дамы с розой ответил с вызовом. «Не твоё дело», – говорил он.
Облаков решил пересесть от него подальше. На сей раз осмотрев обивку, прежде чем коснуться задом и спиной. Не хотелось запачкать мундир. Похоже, переодеться до вечера ему уже не успеть. В кресле недавно сидели, пыльным оно хотя бы не было. Облаков сел. Перебросил одну ногу через другую. Но пронзительный взгляд сверлил ему затылок. «Ерунда. Просто портрет. Есть специальный приём, говорят, чтобы писать глаза. Иллюзия». Но всё же не сдержался, обернулся.
Взгляд дамы опять пробрал его до мурашек.
Просто портрет, просто такой приём. Или просто признать, что не по себе ему в этом доме? Чужом доме. Доме друга. А друга ли?
Кем ему сейчас считает себя Бурмин?
Последний раз они виделись шесть лет назад. Последний раз Бурмин ответил на его письмо – тоже шесть лет назад. Их отношения не были ни разорваны официально, с положенными словами. Ни прояснены. Ни восстановлены. Ни то ни сё. Точно обморок, что длится вот уже шесть лет. За шесть лет Бурмин мог измениться. Многое могло измениться. Всё!
Облаков вскочил.
Ждать больше не хотелось. Хотелось убраться отсюда поскорее.
– Клим! – крикнул. Послушал тишину.
Потом зашаркали шаги. Дверь скрипнула.
– Ваше сиятельство.
Но тут Облаков вспомнил то дело, что привело его сюда, и что ждать – придётся, столько, сколько придётся, и что другого выхода нет, друг ему Бурмин или не друг, начать с него Облаков был вынужден. Сел:
– Что ж твой барин? Скоро будет?
– Не изволили сказать. До рассвета в лес уехали.
Махнул на старика:
– Ладно. Ступай.
– Не изволите чего подать? Воды? Чаю? Трубку?
– Ступай.
Дверь скрипнула. Опять тишина. Глубокая, чуть звенящая, точно дом давно покинут. Она заливала в уши, заполняла голову. От неё тяжелели колени и локти. Всё тело, измученное скорой тряской ездой по смоленским трактам. Веки слиплись. Облаков не видел вошедшего. Не видел, как лицо того напряглось. Как рука, схватившаяся было за пуговицу на вороте сюртука, опустилась. Облаков почувствовал, что дремлет и через секунду захрапит, когда от громкого – «Облаков!» – сон его разлетелся вдребезги.
Облаков грохнул креслом, стукнул сапогами, вскочил, моргая, обернулся. Бурмин уже шёл ему навстречу, протягивая обе руки:
– Дорогой мой Облаков!
Улыбался.
– Бурмин!
Облаков почувствовал облегчение, просиял в ответ. Он обрадовался тону Бурмина – естественному и непринуждённому, точно расстались вчера на светском чаепитии, а не шесть лет назад и при обстоятельствах, вспоминать которые Облакову не хотелось. Он уже стал было поднимать руки для объятия. Но Бурмин лишь сжал его ладонь обеими руками, как бы отстраняя. Кивнул себе на грудь:
– Весь перепачкан. А ты каков! Покажись.
И отступил на шаг. Облаков смущённо отстранился, смахнул с рукава пыль, показал себя, забормотал:
– Это новые совсем. Только ввели. Многие пошить ещё не успели. Великого князя собственноручные эскизы… Государь…
– Игрушечка! – Но в похвале Бурмина Облаков услышал насмешку.
– Да уж, – согласился. – И это уже переделали. Но ты бы видел первые! На смотре с ними вышел конфуз. Ты помнишь Радова?
– Этот повеса!
Бурмин бросил перчатки на каминную полку. Два кожаных комка тут же начали медленно расправлять сморщенные пустые пальцы.
Облаков оживлённо рассказывал – сыпал слова. Он боялся первого неловкого молчания. Первых неловких вопросов.
– Его Величество подъехал к строю. Все стоят, разубраны, как рождественские ёлки. Тут Радов принялся командовать своим людям. Садись! – С коня. – Садись! – С коня… Такая катавасия началась! Кто в лес, кто по дрова. Шнуры на куртках цепляются за сбрую. Мишура сыплется. Рукава трещат. Его величество хмурится. Великий князь красен как рак. Его эскизы-то были. А Радову хоть бы хны.
Облаков говорил и не сводил взгляда с Бурмина, пытаясь прочесть его лицо.
– Мундиры тотчас велено было перешить.
Бурмин с улыбкой покачал головой.
– Ну вот. Я болтаю и болтаю, – улыбался Облаков. – Похвастайся же ты.
– Чем?
– Добычей.
На лбу Бурмина мелькнула тень.
– Твой Клим сказал, ты на охоте, – пояснил Облаков.
– А. Ничего не поймал. Ты голоден? Присядем. Расскажи. Как ты?
Оба сели в кресла напротив друг друга. Облаков участливо заглянул Бурмину в лицо:
– Как – ты?
Бурмин пожал плечом:
– Чудесно.
– Вот не мог бы представить тебя деревенским жителем. В уединении…
– Я люблю уединение, – перебил Бурмин.
– Ты… Но… Среди людей…
– Что ж. Они мне надоели.
Лицо Облакова замерло на долю секунды. Но он уже снова улыбался:
– Да, с возрастом взгляды и мнения меняются. Посмотри-ка на нас. Шесть лет! Подумать только.
– Ты тот же.
Бурмин сказал это с улыбкой.
Облаков крякнул, провёл ладонью себе по затылку:
– Плешь нарисовалась. И в холодные дни, знаешь, суставы уже напоминают: не мальчик.
– Так ты ради климата приехал?
Рука Облакова остановилась на затылке. Медленно легла в сгиб локтя другой, как бы отгораживая тело от собеседника. Бурмин пожалел, что слова его могли звучать грубо, и постарался смягчить тон:
– Прости. В деревне дичают, и я решил не оригинальничать и не быть исключением. Но оставим это. Я вижу, что тебя привело дело. Скажи же как есть.
Облаков вздохнул. И рассказал, как есть.
– Рекрутский набор? – удивился Бурмин. – Но ведь рекрутов набрали.
– Дополнительный.
– Вот как.
– Манифеста императора об этом ещё нет. Но будет. Видишь ли, губернское дворянство… Хотелось бы вначале заручиться твоим… вашим…
Бурмин хмыкнул:
– Овацией? М-да, государь как опытный актёр не выходит на сцену, если клака не на местах.
– Что же ты скажешь?
Бурмин махнул рукой на окно:
– Вон там всё сказано.
Облаков послушно посмотрел. Но видел лишь, что окно давно не мыто, а в лучах солнца танцует пыль.
Бурмин фыркнул и пояснил:
– Лето. Полевые работы в разгаре. Мужики заняты от темна до темна. Никто работников сейчас отрывать не будет.
Облаков изумлённо уставился на него. Бурмин пожал плечом:
– Знаешь, как мужики говорят. Своя рубашка ближе к телу.
– Но ты! Ты же не мужик! – не сдержался Облаков, и на лице Бурмина тут же появилось замкнуто-холодное выражение:
– В деревне у дворян и мужиков общие интересы.
– Только не списывай на то, что в деревне дичают! Остановить Наполеона есть долг, который отечество…
– Отечество? – перебил Бурмин презрительно. – Отечество для мужика – вот эта деревня, вот эта речка, вот этот лес, этот луг, это поле. А не какой-нибудь Аустерлиц, где ему предлагается сложить голову во имя цели, которая ему чужда и непонятна.
Облаков был поражён. Лишь воспитание не позволило ему показать насколько.
– И это говоришь ты, – с оттенком горечи произнёс он, – ты, который шесть лет назад под этим самым Аустерлицем…
– За эти шесть лет я о многом успел подумать. А вот почему так рвёшься ты? Для меня загадка. – Бурмин говорил лениво-насмешливо. – Разве ты разорён? Или медальку хочешь? Так ведь, поди, после прошлой кампании уже места нет, чтобы дырочку проверчивать.
Судя по гримасе Облакова, на этот раз воспитание не удержало бы его от тирады.
– В любом случае, – со вздохом продолжил Бурмин, точно не заметив, – боюсь, ничем помочь не могу. Так называемые мои крестьяне…
Но договорить не успел. Дверь позади мяукнула. Оба обернулись. Старый слуга растерянно переводил взгляд то на барина, то на его гостя.
– Вашество… – пробормотал. – Это… беспокоить…
За спиной его, потряхивая нарядной сбруей и горячо дыша, как жеребец, которому не терпится вскачь, топтался молодой офицер.
– Нестеров! – воскликнул Облаков, узнав своего адъютанта, которому было велено дожидаться в коляске у крыльца. Извинился перед Бурминым, вставая. – Тут, должно быть, что-то срочное.
– Клим, – приказал Бурмин скорее взглядом, чем голосом.
Слуга посторонился, пропуская адъютанта.
– Ваше превосходительство, – вытянулся тот. – Прошу прощения, дело безотлагательное.
Облаков бросил на Бурмина строгий взгляд, как бы говоря, что не уступил. И обернулся к адъютанту:
– Докладывай.
– Солдат прибежал. Нашли убитыми четверых человек, опознаны все четверо как записанные в рекруты…
– О господи.
– Прикажете вызвать из Смоленска дознавателя?
Облаков ухватился за лоб, принялся скрести пальцами:
– Только этого не хватало… Нет, ни в коем случае. Поменьше шума. Сами разберёмся.
Он обернул к Бурмину озабоченное лицо:
– Прости, я должен немедленно ехать.
– Конечно. Прости ты меня, что не смог оказаться полезным. В любом другом, более прозаическом деле буду рад оказать услугу.
Облаков глянул на него рассеянно. Снова обратился к адъютанту:
– Точно рекруты? Это наверное? Ошибки нет? Кто их опознал? Где солдат этот?
– Солдата я обратно отправил, присмотреть за телами. До дальнейшего разбирательства.
– У трактира небось нашли? П-пьянь. Всякий сброд в рекруты записывают, что самим негоже, – начал распаляться Облаков.
– Никак нет. Не у трактира. В лесу.
– В лесу? – опешил Облаков. – Даёшь ты, Нестеров… Отослал солдата. Как же мы теперь это место сами отыщем?
– Извольте. Там просто. Отсюда до Днепра. По правому берегу лес.
– В моём лесу?! – резко поднялся из кресла Бурмин, до того молчавший.
– Это твой лес? – удивился Облаков.
Бурмин схватил с полки перчатки и уже у двери обернулся:
– Я еду с вами. Сядем в мою коляску. Если не возражаешь. Там одно только название, что дорога.
– Буду рад, – кисло ответствовал Облаков.
– Отсюда пешком. – Бурмин натянул поводья, останавливая лошадь.
Облаков с адъютантом переглянулись. По плюмажам на их шляпах пробегал ветерок, движению вторили длинные зелёные плети берёз. В траве трещали кузнечики. Небо ещё не раскалилось, только обещало жару: ни облачка не было в его голубизне. Оба чувствовали себя здесь чужаками.
Бурмин проверил, крепко ли обвязан повод, и только тогда спрыгнул. Адъютант Нестеров, стоя в коляске, опасливо высматривал что-то за деревьями.
– Идёмте, – поторопил Бурмин. И тотчас махнул кому-то рукой: – Вон, выслали нам провожатого.
Облаков сошёл с подножки. Сдвинул край шляпы, промокнул платком лоб. Трава здесь доходила до края его высоких сапог. Следом спрыгнул адъютант.
Из леса к ним спешил, всей спиной выражая усердие, молодой рыжеватый мужик, лоб его был перехвачен тесёмкой. Широкие бугристые плечи распирали рубаху. При виде мундиров он так и разинул рот.
– Ты чей? – спросил его Бурмин.
Мужик ожил:
– Мочалинский.
Бурмин по-французски пояснил Облакову:
– Мочаловку, имение князя Мочалина по соседству, недавно купил некто Шишкин.
– Веди, – шагнул Облаков к мужику. – Ты тела нашёл? Ну?
Тот не сразу оторвал взгляд от их диковинных шляп.
– Не, ваше сиятельство. Пантелей с сыном. Он сына-то сразу в деревню и послал.
– Ладно. Веди же.
Мужик зашагал к лесу, приминая траву. Порхнула птица.
– Полагаю, вся деревня уже сюда сбежалась, – проворчал по-французски Облаков.
Лес тотчас накрыл их прохладной тенью. Землю усеивала рыжая хвоя. Траве здесь не хватало света. Адъютант Нестеров, придерживая шляпу рукой, задрал голову на пушистые еловые облака. Пахло разогретой смолой.
Бурмин крикнул в спину мужику:
– А что Пантелей-то с сыном здесь потеряли?
Спина чуть напряглась:
– Не могу знать, барин, – донеслось.
– А как же, – сердито буркнул по-французски Бурмин. – Зато я знаю.
– Вот как? – по-французски спросил и Облаков.
– Либо сеть ставили, – недовольно ответил ему Бурмин, – либо силки… Попросту говоря, воровали. В моем лесу. Думаю, мне стоит сделать визит этому господину Шишкину.
– О боже, – остановился Облаков.
Он увидел тела. Они лежали рядом. Головы были накрыты армяками. Торчали ступни.
– Эй! – крикнул провожатый.
При виде генерала солдат торопливо вскочил, одёрнул мундир, вытянулся, пролаял по уставу:
– Здра жела, ваш выблародь.
– Отставь, – махнул Облаков.
Увиденное расстроило его. «Как некстати. Только этого не хватало».
– Ты уверен, что наши рекруты?
– Точно так, ваш выблародь.
«Как некстати».
Спиной к стволу стоял и курил мужик с пегой бородой. Не суетясь, затушил самокрутку, убрал. Отлепился от дерева. С достоинством ждал, когда баре обратятся.
– Ты Пантелей? – спросил Бурмин.
Мужик наклонил голову.
– Он самый.
Облаков уставился на топор, заткнутый у Пантелея за поясом. Тот уловил взгляд, положил руку топору на затылок: мол, да, топор, и мне скрывать нечего.
Бурмин подошёл к лежавшим, сел на корточки, приподнял полу армяка, подняв эскадрон мух. Воздух немедленно окрасился запахом. Запах пролитой, быстро тухнущей крови. Облаков поморщился, но заставил себя внимательно рассматривать тела, раны так же, как Бурмин:
– Господь всемогущий… Посмотри на эти длинные порезы. Когтями их рвали, что ли. Слушай, может, задрал медведь?
Бурмин не ответил. Сунулся рукой в карман трупу. Обшарил остальных. Адъютант не выдержал, отвёл взгляд. Стал нервно отмахиваться от мух, носившихся с жирным жужжанием.
Бурмин показал Облакову: мешочек с порохом.
– Медведь бы не унёс с собой его ружьё, – сказал по-французски Бурмин.
Облаков закатил глаза, пыхнул губами. Мужик, не понимавший ни слова из их речи, безмятежно подпирал ствол. Он видел их лица, а лицо Бурмина было сковано самообладанием:
– Не удивлюсь, впрочем, если ружьё унёс сын этого Пантелея.
Так же, как лицо Облакова:
– Ты хочешь сказать, убийца стоит у нас за спиной?
– В деревне подкову оброни, гвоздь без присмотра оставь, сопрут – и глазом не успеешь моргнуть. А тут ружьё брошенное. Целое состояние.
Бурмин снова накрыл убитых. Поднялся:
– Нет, я не думаю, что он убийца.
– У него топор, – возразил всё так же по-французски Облаков, – очень чистый топор. Такой чистый, что я бы предположил, он недавно спустился к воде и хорошенько оттёр его песком и вымыл.
– И я бы с тобой согласился, что он убийца, – наклонил голову Бурмин.
Мужик наблюдал за ними издали. Не сводил глаз.
– …если бы не этот самый топор.
Бурмин поглядел на мужика.
– Топором рубят. А не перерезают горло, мой милый Облаков. К тому же одежда на нем чистая. Ни пятна крови.
– Одежда, – покачал головой Облаков. – Не спорю. Может, ты и прав. Тогда кто это сделал? Чёрт возьми, как всё запутано – и как некстати. Именно рекруты! Только этого сейчас не хватало.
В сердцах хлестнул перчаткой по лучистым мордам ромашек и зашагал обратно к коляске.
Бурмин подошёл и заговорил с Пантелеем по-русски:
– Я их знаю. Это ваши, мочалинские.
– Ну да. Как есть. Я ж мальца своего в Мочаловку за народом и отправил.
Пантелей показал пальцем на убитых – один за одним:
– Васька Игнатов. Лукин Мишка. Антоха Чудилов. И старостин племянник Андрюха.
– Что ж мочалинские мужики тут делали? В моем лесу.
– Дак они, поди, уже не скажут.
– А ты в моем лесу что делал?
– Гулял.
– С топором.
– Всяк по-своему гуляет.
Бурмин обернулся к солдату:
– Эй! Мальчишка-то, который про убитых рассказал, на телеге был?
– Чаво?
– В деревню мальчишка на телеге прикатил?
– А то. Не на своих же двоих он так быстро прискакал.
Бурмин снова повернулся к Пантелею:
– Ты, значит, гулял у меня в лесу. С топором. На телеге.
Тот и ухом не повёл:
– Ладно, поймал.
Мужик был вор и воровал его лес, но держался с достоинством, и его самообладание понравилось Бурмину.
– Ты, стало быть, их нашёл, рядком сложил и головы покрыл?
Мужик перекрестился:
– По-людски ж надо.
Треск подъехавшей телеги заставил всех обернуться. Мальчишка, сын Пантелея, сидел на козлах рядом с чернобородым мужиком. Глаза мальчика горели.
– Вон мертвяки, вон! – возбуждённо тыкал он пальцем.
То, что он оказался в центре столь громкого происшествия, уже сделало его в деревне известной персоной, и мальчишка решил приумножить свою славу, вызнав как можно больше, чтобы было о чём рассказывать потом.
Чернобородый мужик сошёл, стянул шапку перед Облаковым, поклонился со странным оттенком подобострастия и презрения, затем кивнул Пантелею. И сразу направился к мертвецам.
– Родственник? – спросил о нём по-русски Бурмин у Пантелея.
– Староста.
Среди убитых был его племянник.
Староста, присогнув ноги и уперевшись руками в колени, разглядывал тела. Разогнулся, отмахнул муху, сказал только:
– М-да, – и крикнул: – Чего лупишься, Пантелей! На телегу кладём. Или как… барин? – Та же смесь подобострастия и хамства.
«А с ним ухо надо востро», – подумал Бурмин.
– Увози, – велел Бурмин.
– Ты куда? – по-французски крикнул Облаков.
– Просто осмотрюсь немного вокруг.
– Ах, да всё одно: без дознавателя теперь никак.
Но Бурмин махнул, не ответив. Отошёл по нежно хрустящей рыжей хвое. Сделал несколько шагов к берегу – сам берег был не виден, но сквозистая пустота за деревьями дышала прохладой: вода. Постоял на невысоком обрыве. Посмотрел на плюшевые заплатки мха на камнях. Пошёл к просеке, по которой шла дорога. Взгляд его бесцельно шарил вокруг. По траве, по стволам. Прошёл мимо колючих мотков ежевики. Подошёл к Облакову. Тот стоял у пыльного крыла коляски и смотрел, как Пантелей и староста, один за руки, другой за ноги, тащат провисающих в поясе мертвецов и кладут на телегу, забрасывая половчее руки и ноги, будто это были поленья. Мальчишка вился и суетился вокруг.
– Тела ещё мягкие, – заметил по-французски Облаков. Прикрыл глаза и покачал головой: – Зверство какое.
Он был бледен. Рука неловко теребила застёжку на жёстком воротнике. Расстегнула. Подёргала шёлковый галстук, ослабляя.
– А тебе? Не жарко? Доверху застегнут.
Бурмин покачал головой сочувственно:
– Нет.
Быстро отвязал повод:
– Послушай, поезжай в моей коляске. Так выйдет скорее.
Облаков благодарно положил руку поверх его рукава, сжал:
– А ты?
– А пройдусь. Проветрюсь.
– Да уж. – Облаков скривился. Он выглядел усталым и жалким. – Вот ведь начался денёк.