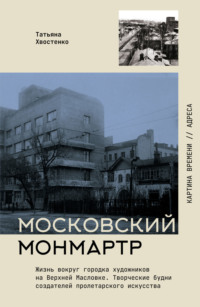Read the book: «Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства»
Аристократам духа – моим дорогим современникам – сердечно и нижайше.
Татьяна Хвостенко
© Менделеева М. В., текст, 2025.
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Из воспоминаний Татьяны Хвостенко
Как появились первые дома художников
В 1925 году общее собрание художников Москвы приняло решение построить в Москве кооперативный дом. Деньги на коллективное строительство взялись достать Павел Радимов и Евгений Кацман.
Кацману позировали члены правительства: он умел, сохраняя несомненное сходство с моделью, создать приукрашенный образ и рисовал портреты ведущих партийных руководителей и советских военачальников. Во время сеансов художник вел с ними задушевные беседы.
Мастерскую Радимов и Кацман делили со Стефанией Уншлихт, женой заместителя наркомвоенмора Иосифа Уншлихта.
Стефания Арнольдовна была художницей. Когда они с мужем были в Польше, у их дочери случился приступ аппендицита. Во время операции в больнице неожиданно отключили свет, и девочка умерла на операционном столе. Стефания Арнольдовна места себе не могла найти после смерти дочери, и Уншлихт решил познакомить ее с художниками, чтобы работой она могла заглушить боль. Он выбрал Евгения Кацмана, Кацман позвал Радимова, и им троим, вместе со Стефанией, была выделена мастерская в Кремле.
Атмосфера в мастерской была почти семейной: к художникам частенько заходили Рыков, Бухарин, Томский, Рудзутак, Ворошилов, Демьян Бедный и даже Сталин. Некоторые приходили с женами.
Тринадцатого февраля 1929 года Кацман начал портрет Рыкова. «Некрасивый очень, – записал потом художник в дневнике, – но вместе с тем похож на Чехова. Лицо сложное для портрета, отличное. Глубокие морщины от носа к губам, глаза серо-голубые, позирует ужасно. Начал с чтения «Правды». Я сказал, что это редкие минуты, когда «Правду» приходится ненавидеть. Попросил позировать без газет. Просидели около часа».
Выбрав момент, Кацман и Радимов рассказали о проекте дома, где художники смогли бы жить по-человечески: ведь Рыков совсем недавно помог вахтанговцам со строительством их кооператива, дом за год выстроили.
– А вы как долго планируете строить? – спросил Рыков.
– Года полтора.
И Радимов стал говорить, что в этом же доме можно будет устраивать выставки не только художников, но и, например, собак, так что строительство окупится.
– Мы так и укажем в докладной записке, что это будут помещения для художников и собак.
Рыков смеялся.
Получив резолюцию на заявлении, подписанном большой группой художников, Радимов и Кацман стали «двигать» это заявление через Моссовет. На настоящий многоквартирный дом надежды было мало, проголосовали за строительство общежития. Но тут вступились наркомы Луначарский и Бубнов, и в Моссовете при повторном голосовании все-таки решили строить дом художников с мастерскими. На это строительство нищее Российское государство по просьбе Уншлихта и с разрешения Ворошилова выделило миллион рублей.
Начали делать эскизы, выбирать место; остановились на пустыре, оставшемся от сгоревшей кинофабрики Ханжонкова. Пустырь обступал вековой Петровский парк, где художники могли бы писать пейзажи; через несколько трамвайных остановок начинался лес, примыкавший к Тимирязевской сельхозакадемии. Сначала предполагалось построить несколько домов художников, выставочный зал и гараж. Но выделенных средств не хватало, и художникам пришлось доплачивать свои деньги.
В 1930 году вблизи восточных ворот центрального стадиона «Динамо» появился первый в Москве дом художников – дом № 15 на Верхней Масловке. Он возвышался над двухэтажными деревянными еще дореволюционными постройками. Совсем недавно в этом стародавнем уголке Москвы с могучими липами и кленами жили в основном цыгане знаменитого «Яра». Вечерами казалось, что вот-вот в этих патриархальных романтичных домиках с резными, как кружево, наличниками зажгутся свечи, а на просторные террасы выйдут цыгане в цветастых ярких нарядах и запоют знаменитый романс «Что так грустно?».
Вот первые жильцы дома № 15:
Е. А. Кацман, Е. А. Львов, С. Д. Тавасиев, скульптор В. А. Сергеев, Е. П. Шварц, С. С. Алешин, Г. М. Шегаль, П. Д. Покаржевский, К. Молчанов, Б. В. Иогансон, С. М. Луппов, Чашников, Белянин, Шестопалов, К. И. Максимов, Ф. К. Лехт, Е. Ряжский, Кутателадзе, А. К. Кибрик, Коршунов, Л. Н. Соловьев, К. А. Корыгин, Немов, Шухмин, А. М. Каневский, Н. М. и Н. Я. Никоновы.
Павел Радимов получил квартиру самым последним, на первом этаже.
Наша семья переехала на Масловку из Большого Тишинского переулка в 1934-м, когда мне исполнилось шесть лет. Нам дали квартиру в доме № 6 на Петровско-Разумовской аллее, построенном для художников-холостяков. Почему этот дом так называли, непонятно: почти все новоселы были семейными, а у некоторых уже и дети были. Дом выходил одной стороной к дороге, а другой – на не огороженный еще участок парка у стадиона «Динамо». Глухая окраина, за окном шумели вековые пихты и липы, из окон был виден большой пруд, где мы ловили карасей. На лугу у пруда паслись козы, останавливались табором цыгане; Иогансон, отец и Черемных писали там этюды. Под окном проходила узкая немощеная улица, вся в рытвинах и ухабах. После дождя образовывались большие лужи, по которым мы пускали кораблики.
Наш двор окружал деревянный забор из высокого редкого штакетника, так что с улицы было видно, что творится во дворе. Как-то мама, папа и я возвращались поздно и увидели, что у забора сложены какие-то вещи. Мы позвали дворника Степана и… предотвратили кражу у Константина Александровича Вялова.
Обитатели Масловки
Они живут в моей памяти, ведь когда-то я встречала их ежедневно.
Вот Игорь Эммануилович Грабарь – маленький, толстенький, в очках с тонкой оправой, он еле втискивался в крошечный лифт, а я забивалась в угол, чтобы закрылись дверцы.
Сергей Васильевич Герасимов. Голова с оттопыренными ушами крепко сидит на прямой упругой шее. Он что-то шумно рассказывает, буравя взглядом собеседника.
Павел Петрович Соколов-Скаля – немного прищуренные карие глаза, аккуратная небольшая голова венчает громадную фигуру, глянцевитые сапоги туго обтягивают икры. Он казался мне Гулливером среди лилипутов, держался независимо и на все имел свое мнение; если ему что-то не нравилось, прекращал спор единственной фразой.
А вот в проеме входной двери появляется Василий Алексеевич Ватагин в своей черной бархатной шапочке. Слышу его голос, тихий, слабый после тяжелой работы в мастерской…
Вот подкатывает к дому черная «Волга». Из нее выходит хозяин – красивый, улыбчивый Георгий Васильевич Нерода.
Легко и весело сбегает по лестнице элегантный Федор Семенович Богородский: пальто с бобровым воротником, начищенные до блеска ботинки – все по последней моде. Роскошная шевелюра с заметной проседью.
Часто художники, встречаясь на лестнице, останавливались, чтобы обменяться новостями. Обычно Богородский задерживался на третьем этаже с супругами Серафимой Рянгиной и Борисом Яковлевым. Не только меня удивляла эта пара. Она – небольшого роста, с плохой фигурой и кривыми ногами, с плоским невыразительным лицом. Он – красивый и интеллигентный. Рянгина входила во все комиссии и стояла, как говорится, у руля. Когда она умерла, Борис Николаевич женился на сравнительно молодой Валентине Васильевне Курильцевой, искусствоведе. На другой день после свадьбы я услышала на лестнице, как Федор Семенович добродушно подкалывал смущенного новобрачного:
– Ну что, Боря? Усики и волосы подкрасил, хочешь моложе казаться?
И добавил что-то традиционное насчет «рогов». Боря только слабо отбивался от шутливой атаки Богородского.
Были на Масловке и жильцы другого склада. Помню Владимира Евграфовича Татлина: худой, немного сгорбленный, с серо-охристыми седоватыми волосами, внимательные глаза, а под глазами мешки. Одет в вязаную жилетку и черные обвисшие брюки, он молча, едва кивнув головой, проходит мимо веселой братии, обсуждающей во дворе последние новости в МОСХе и во «Всекохудожнике».
Около десяти утра из второго подъезда выходили Гавриил Никитович Горелов с женой Татьяной Николаевной; они направлялись в мастерскую. Горелов – в прошлом ученик Ильи Ефимовича Репина, он дружил с моим отцом, очень любил меня и охотно со мной беседовал, хотя с другими был немногословен.
Наши дворники
Мы очень любили наших дворников, Степана и дядю Васю. У Степана было четверо детей и большое хозяйство: во дворе стоял одноэтажный дом с большим сараем, где помещались корова, коза и множество кур. Там же хранились огромные маски репрессированного скульптора Николая Шалимова. Я дружила с дочкой Степана Шурой. Степан слыл очень добрым человеком (был из раскулаченных), во время войны он меня подкармливал молоком. Двор Степан содержал в образцовом порядке, и именно он посадил липы. Уже давно нет ни забора, ни одноэтажного дома, ни Степана и его доброй жены, а липы выросли и превратились в огромные деревья, цветут, благоухают.
Кроме Степана, в подвале дома № 15 жил дядя Вася с двумя дочками. У него была ломовая лошадь с телегой, на которой он зимой вывозил со двора снег, а летом возил уголь для отопления дома. Он часто сажал нас в телегу и катал вокруг «Динамо». В его каморку можно было пробраться, только перелезая через кучи угля. Однажды, это было под Новый год, подвыпившие два Федора – Шурпин и Решетников – попросили у него телегу. Впрягшись в нее под хохот всего двора, они покатили вдоль трамвайной линии по Масловке, а вернувшись, почему-то решили затащить телегу в коридор. В просторных коридорах пятнадцатого дома часто работали молодые художники, рисовавшие к праздникам вождей. Увидев портреты, наши герои сбегали в мастерскую за красками и стали переписывать их, ловкими мазками придавая вождям карикатурный вид. Но этого им показалось мало. Бросив взгляд на большую картину «У гроба Кирова» (вокруг гроба стояли Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов), они занялись ею: дописали у Кирова руку, которая тянулась к Сталину и как бы тащила его в гроб. Увидев утром такое превращение, авторы пришли в ужас. Они стали спешно счищать и записывать эти художества, но, когда принимали картину на выставку, при боковом освещении просматривалась тянущаяся к Сталину рука Кирова. Членов совета это повергло в шок, ведь сие грозило ни много ни мало расстрелом. Картину уничтожили, и все обошлось.
Столовая, клуб и женсовет
Чтобы облегчить быт художников, в доме с первых же дней создали общественную столовую. Штаб столовой состоял из жен художников; заведующей стала жена Николая Митрофановича Никонова Наталья Яковлевна. Благодаря ее усилиям столовая пользовалась успехом: ненадолго прервав работу в мастерских и не выходя из дома, художники, да и их семьи, могли в любое время получить вкусный обед за очень небольшую плату. Деньги на содержание столовой частично давало государство.
Радимов и Кацман познакомились с молодыми художниками Тимковым и Лактионовым. Поскольку ребята отчаянно нуждались, коллектив художников решил бесплатно кормить их в своей столовой, а потом добился для них направления в Академию. Впоследствии Тимков и Лактионов стали известными художниками.
Масловка постепенно обживалась: приобрели большую библиотеку по искусству, затем открылся детский сад. На втором этаже, над столовой, оборудовали комнату, где собирались молодые люди, играли в шашки или шахматы, танцевали. А зимой во дворе заливали каток, и первые фигуристы Москвы – художник Константин Молчанов и жена скульптора Ткачева Ирина – восхищали своим необыкновенным мастерством многочисленных зрителей.
Когда началась Отечественная война, Наталья Яковлевна продолжала заведовать столовой. Вместе с ней работали Мария Петровна Молчанова, Лидия Гавриловна Валева, Александра Яковлевна Хвостенко, Софья Петровна Бенькова-Крайнева, Мария Васильевна Кузнецова-Волжская. Маруся Молчанова стояла на раздаче. Экономили каждую ложку супа, каждый грамм хлеба. Задолго до обеда выстраивалась очередь с кастрюльками и бидонами; старикам и детям первым отпускали обед. Если оставалась лишняя порция, отдавали тому, кто больше всех нуждался.
Женщины Масловки – женсовет – вообще всегда готовы были прийти на помощь тем, кто нуждался. Я помню, как Василию Васильевичу Крайневу купили вскладчину валенки (у него болели ноги) и торжественно преподнесли. Седовласый старик плакал как ребенок.
В нашем подъезде жил скульптор, болгарский коммунист, соратник Димитрова Валентин Цаневич Валев. Выше среднего роста, крепкого телосложения, с густой черной шевелюрой, он казался сильным человеком, а волевой подбородок и горящие глаза лишь усиливали это впечатление. После победы в Великой Отечественной войне он мечтал о скором возвращении в любимую Болгарию, но внезапно умер: оторвался тромб. Последние его слова были о семье: две дочки остались с женой Валева Лидией Гавриловной, не имевшей никакой профессии. Женсовет не оставил осиротевшую семью: обошли с подписным листом всех художников городка и собрали Валевым деньги. Сергей Васильевич Герасимов, который всегда откликался на подобные просьбы, и в этом случае оказался первым. Другие художники подхватили почин: И. Э. Грабарь, В. Ватагин, Г. Горелов, Б. Яковлев, В. Яковлев, Ф. Модоров, Б. Иогансон, В. Одинцов, Ю. Пименов, Г. Нерода, В. Сварог, да всех и не перечислишь. Дружное братство художников не оставляло в беде своих товарищей.
До войны, в 1938–1939 годах, на Масловке была не только столовая, но и клуб художников. Заведовала клубом тоже Наталья Яковлевна. Там часто устраивались пышные ужины с танцами, игрой на гитаре, пением и декламацией. Художники любили там бывать. Из пятнадцатого дома в клуб приходили Е. Львов, Н. Покаржевский, К. Максимов, В. Яковлев, Ф. Кононов, Якубени, Шестопалов, П. Мещеряков, К. Корин, Е. Перельман, Чашников, Ф. Немов, К. Лехт, Цырлесон, Симанович, Ф. Шурпин, С. Луппов, К. Молчанов, А. Тихомиров. Часто бывали там В. Хвостенко, В. Сварог, Ф. Богородский, С. Рянгина, Е. Мешкова, А. Морозов и другие, жившие в шестом и восьмом домах.
Наталья Яковлевна была душой этих встреч. Она привлекала своим обаянием и добротой, создавала атмосферу покоя и дружелюбия. Вокруг нее всегда вились молодые обожатели, притязания которых она шутливо отвергала.
В клубе всегда было весело и интересно: обсуждали свежие творческие новости, делились впечатлениями о самых разных вещах и событиях, много шутили, смеялись. Неутомимая Наталья Яковлевна угощала сибирскими пельменями, которые лепили дети и взрослые, пирогами, чаем из самовара. Все это выглядело празднично, по-домашнему тепло. Тут же позировали натурщицы. Это были в основном жены репрессированных военных, которых пригревала Наталья Яковлевна, давая возможность заработать, так как везде им в работе отказывали.
Наши соседи Никоновы
История супружества Никоновых интересна и достаточно драматична. Николай Митрофанович, белый офицер тридцати трех лет от роду, в 1921 году прибыл в Красноярск и получил задание разместить своих солдат по квартирам. В одной из квартир ему открыла дверь молодая девушка, стройная, с живыми карими глазами, с черными косами до пояса. Она поразила его своей осанкой и красотой, и Никонов остался жить в этой квартире.
Николай Митрофанович влюбился в девушку и решил просить ее руки. Почти двухметрового роста, стройный, с проседью в густых волосах, он был старше ее на двенадцать лет. Оказалось, что хозяева квартиры не родители и даже не родственники Наташи, она у них работала, и они ее не отпускали, не желали терять работницу. Тогда влюбленные решили тайно уехать и обвенчаться. Николай Митрофанович сорвал погоны, отказался бежать за границу через Монголию и вступил в ряды Красной армии. Его известная картина в Третьяковской галерее «Въезд красных в Красноярск в 1920 году» рассказывает об этом событии. В ней он изобразил себя рядом с молодой женой.
Наталья Яковлевна была безгранично предана мужу, делила с ним и горе, и радость нелегкой жизни. Я часто бывала у них, ведь отец дружил с Николашей. И в Москве, и в Песках мы жили рядом. Наталья Яковлевна выглядела очень колоритно. Ее отец, цыган из Молдавии, был сослан за конокрадство в Сибирь. Там он женился на сибирячке, и они родили Наташу. Статная, подтянутая, она носила длинные, до полу, шуршащие юбки самых невероятных расцветок и туфли на высоких каблуках. Она слыла прекрасной хозяйкой, вкусно готовила, а ее консервированные огурцы, помидоры и грибы с рябиной, черемухой, разными листиками смотрелись как красивые натюрморты.
Такие разные «высокие гости»
Однажды во двор пятнадцатого дома въехали две большие черные машины. Из одной вышел Семен Михайлович Буденный и по-военному отдал всем собравшимся честь. За ним шли два его внука. Зевак собралось очень много. Навстречу Буденному выбежал скульптор Сосланбек Тавасиев. Он, суетясь, проводил гостя в свою мастерскую на первом этаже, где делал конную статую Фрунзе. Моделью служила настоящая лошадь, которая жила в мастерской Тавасиева.
А в июне 1945 года на стадион «Динамо» приезжал Сталин. Его маршрут проходил мимо наших домов. Улица – сплошные колдобины, лужи, заборов не было. В одну ночь покрасили с фасадов все дома, выходящие на Петровско-Разумовскую аллею, закрыли щитами помойки. Во дворы поставили пушки-самоходки. Нас всех загнали в квартиры, взяв подписку, что мы даже не будем подходить к окнам.
За десять лет до этого, в 1934 году или в начале 1935-го, у нас в гостях побывал Циолковский. Хотя он приезжал в Москву только один раз, незадолго до своей смерти, он нашел для нас время. Я помню, как мы, дети, сидя на высоком зеленом заборе, который огораживал наш дом, ждали великого человека.
И вот я его увидела. Он был одет в крылатку грязно-черно-седого цвета, на голове была шляпа с большими полями, тулью которой покрывала широкая лента, вся в разводах. Глаза закрывали очки, с которых спускались многочисленные веревочки. Из-под шляпы торчали во все стороны волосы. На ногах – какие-то опорки с разного цвета шнурками.
Он держался прямо и шел быстро, походка его была четкой. Рядом шла худенькая невысокая женщина, тоже в шляпе с тульей и, кажется, в пенсне. Меня поразили ее туфли на высоком каблуке (такие носили еще до революции курсистки).
Увидев эту странную процессию, мы почему-то стали кричать на его сестру: «Пиковая дама! Пиковая дама!» и бросать камни. Тут появился мой отец: «Дети, как вам не стыдно! Это великий ученый, великий человек!» При этом он поднял вверх указательный палец: «Запомните, вы видите великого человека России!»
Меня домой не пустили. Папа пригласил Георгия Васильевича Нероду, о чем они говорили, я не знаю, но вскоре Нерода и папа уже провожали Циолковского. Мы уже не веселились, а, притихшие, смотрели им вслед.
Яков Айзикович Рапопорт
Циолковского и его сестру привел к нам Яков Айзикович Рапопорт. Моя мама работала вместе с его женой, Еленой Владимировной, в Свердловском университете, а Яков Айзикович дружил с моим отцом и часто приходил к нам домой. Рапопорт самозабвенно любил Константина Эдуардовича Циолковского и был так ему предан, что тратил почти всю свою небольшую зарплату на поддержку буквально голодавшего тогда Циолковского. Рапопорт считал его не только гением, но и своим учителем. Он не получил никакого специального образования и работал простым рабочим-слесарем на заводе, тем не менее помогал Циолковскому рассчитывать орбиты полетов ракет, да так, что и сейчас специалисты удивляются точности расчетов. Яков Айзикович обладал удивительной способностью в уме оперировать огромными цифрами. Он мог в уме умножать, делить, возводить в степень, извлекать корни и так далее.
Всю неделю, кроме воскресенья, Рапопорт работал, а в выходной ездил в Калугу. На собственную семью, на жену и дочку, времени не оставалось.
Из-за Рапопорта мама и папа часто ругались. Мама была на стороне жены Рапопорта и говорила, что Яков бросил семью «ради этого сумасшедшего». «Ты ничего не понимаешь, Шурочка, – говорил папа. – Очень скоро настанет время, когда его гениальные теории осуществятся. Но мы с тобой не доживем, а вот Танюша увидит». И эти слова моего отца сбылись.
Однажды Яков Айзикович поехал в Калугу вместе с моим отцом. Я помню, что они купили несколько связок баранок, сахар, картошку, какие-то конфеты… По возвращении в Москву папа был очень задумчив и взволнован, с восхищением рассказывал художникам о «встрече с великим провидцем», но ему не верили: «Вася, ты, как все художники, преувеличиваешь». Но папа потом не один раз еще ездил с Рапопортом в Калугу.
Яков Айзикович в первые дни Великой Отечественной войны пошел на фронт добровольцем. Он просил моих родителей взять стол, который ему когда-то подарил Циолковский. Стол мы оставили на даче, и во время войны он пропал.
Якова Айзиковича я с тех пор не видела. Мама уверяла, что Рапопорт прошел всю войну солдатом и что его спас якобы какой-то талисман, подаренный Циолковским. Этот талисман Яков Айзикович носил в кармане гимнастерки у сердца и потом не расставался с ним всю свою долгую-долгую жизнь. Но папа говорил, что этот «талисман» – просто лист бумаги, на котором Циолковский начертил орбиту для полета в космос, а Якова Айзиковича хранил Бог, чтобы он продолжил дело Константина Эдуардовича.
The free sample has ended.