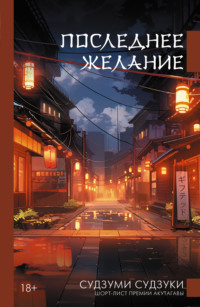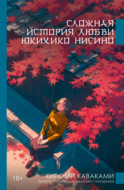Read the book: «Последнее желание»
GIFTED by Suzumi Suzuki
© Suzumi Suzuki 2022
All rights reserved.
© Слащева А., перевод, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *

Я обхожу дом, выходящий на дорогу между кварталом развлечений и Корея-тауном, я открываю тяжелую входную дверь на парковке и по боковой лестнице поднимаюсь на третий этаж. Там, в конце коридора, еще одна железная дверь: когда я, приложив все силы, приоткрываю ее, раздается скрип, но прежде чем она захлопнется, я успеваю вставить ключ в старый замок и провернуть его налево до щелчка. Каждую ночь одни и те же звуки: скрип, затем щелчок. Если пауза между ними коротка или, наоборот, затягивается, мне становится не по себе. Стоит поставить на пол тяжелую сумку или случайно обронить ключ – и весь ритм сбивается.

Когда мама попросила разрешения пожить у меня в те последние дни лета, я сразу согласилась – может, потому, что тем летом и так было много потерь. Болезнь, поселившаяся у мамы в желудке, уже достигла той стадии, когда мама, кажется, искала, где бы умереть. Она сказала по телефону, что хочет дописать еще одно последнее стихотворение.
– На больничной кровати это будет совсем не то. Ты понимаешь?
Я уловила в этом ее «Ты понимаешь?» нотку снисхождения, но не смогла на нее ни разозлиться, ни рассердиться. Мне даже сделалось грустно – ведь для нее умереть в моей захудалой квартирке неподалеку от квартала развлечений лучше, чем в обычной больнице. Мама не достигла выдающегося успеха, хотя могла бы. Она выпустила несколько тоненьких поэтических сборников, и ее фотография пару раз появлялась на обложках журналов. Ну и однажды она выступила в утренней программе на местной радиостанции, где читала японские переводы английских стихов. И в общем-то все.
Через два дня после своего звонка она приехала ко мне прямо из больницы, и меня охватили двойственные чувства: досады – ну почему она не сказала мне пораньше, чтобы я смогла подготовиться и собрать все необходимое – и облегчения, ведь, значит, мама была уверена, что я ей не откажу. Из такси мама вышла в мешковатых спортивных штанах и футболке с длинными рукавами, на которую был наброшен пиджак. Этот голубой пиджак, который был на ней в тот день, когда она легла в больницу, отныне служил единственным напоминанием о прошлой жизни – теперь она могла носить только просторную ночную рубашку. После больницы у нее было всего две сумки с вещами, и на мой вопрос, надо ли забрать что-то еще из ее квартиры, она ответила отрицательно. В одну сумку были втиснуты две ночные рубашки, зубная щетка и расческа, и я уже знала, что лежит в другой.
Я не просыпалась в одной комнате с мамой уже лет восемь, с тех пор как самолеты террористов врезались в нью-йоркские небоскребы. Тем не менее это не значит, что мы не общались совсем, может, за исключением пары лет, пришедшихся на мой подростковый возраст. Мы стали чаще видеться с тех пор, как у нее нашли серьезную болезнь, мы встречались как в больнице, так и в других местах. С каждой встречей она все больше худела, ее волосы истончались, и это меня беспокоило. В молодости у нее были блестящие, пышные черные волосы до самой груди. Она говорила, что их слишком много, чтобы собирать в пучок или делать завивку, поэтому носила их распущенными. Ее черные волосы ярко контрастировали с моими, вьющимися и каштановыми.
Прошлой весной мама говорила, что справится с болезнью, но теперь она так не думала. Пробыв у меня девять дней, в течение которых она даже не открыла сумку с блокнотами и ни разу не взяла свою ручку, она снова легла в больницу, жалуясь на дыхание. Сейчас я думаю, что если бы мне пришлось жить с ней полгода, да хотя бы несколько месяцев, то так было бы лучше: я бы каждый день готовила ей что-нибудь, делала бы ванну, рассказывала бы интересные истории, хотя она бы их все равно не слушала. Но это лучше, чем соблюдать отбой и пить лекарства по часам. Мы спали рядом только в первую ночь, когда она приехала. Мама подумала, что так будет и дальше, но на самом деле у меня не было времени из-за работы.
Теперь я понимаю, что вечерами, догадываясь, что мне пора уходить, она правдами и неправдами пыталась задержать меня: то нарочно тянула с лекарствами, то раскрывала газету и задавала мне какой-то явно вымученный вопрос, – не говоря об этом прямо: «Останься, побудь здесь, побудь со мной». Протягивая мне телепрограмму и пульт, она просила помочь ей с выбором: «Не знаешь, что мне лучше посмотреть на ночь перед сном?» Мамины руки, в прошлом изящные и гибкие, теперь покрылись волосами, иссохли и стали не толще, чем три моих пальца: указательный, средний и безымянный. Кожа ее сморщилась и стала дряблой, но когда я намазала ее дешевым увлажняющим кремом из аптеки, то ее цвет слегка улучшился. После этого она снова попросила: «Включи мне что-нибудь». Раньше она не смотрела телевизор, и ее стремление задержать меня очередной несущественной мелочью только вызвало у меня желание поскорее уйти.
Я переодевалась перед самым выходом и в целом старалась одеваться не так, словно собираюсь на работу в ночной клуб. Обычно я час тратила на макияж, но теперь только наносила пудру, а остальное доделывала уже снаружи. Скромная одежда, которую я надевала, чтобы мама не удерживала меня, ей нравилась. Однажды она даже бросила мне: «Очень миленько», – на мне были надеты джинсы и бежевый кардиган, и тогда мама впервые похвалила мой выбор одежды и мой стиль. Но в итоге я все равно старалась как можно раньше дать ей лекарство, чтобы избежать расспросов и выйти на улицу. Щелчок ключа в замке, раздававшийся после того, как она засыпала, звучал укоризненно.
Может, если бы мама воображала или много думала о себе, с ней было бы проще. Она была невысокой, но стройной, у нее был прямой нос и большие глаза. Мамина светлая кожа легко сгорала под жарким летним солнцем, поэтому она не ездила на море и не ходила в бассейн. Она осознавала свою красоту и умела ею пользоваться, но в то же время презирала мир, в котором этим словом швырялись. Это же отношение проявлялось в ее стихах, ведь их порой хвалили не так, как ей бы самой хотелось. Поэтому нетрудно догадаться, что эта черта ее характера воспринималась как капризность. В прошлом близкие ей люди порой исчезали очень быстро, не оставив ни контакта, ни имени. Так что из маминых друзей я смогла вспомнить только тех, о которых на самом деле уже ничего не слышала много лет. Но при этом такая жизнь не выглядела одинокой или жалкой – и это можно считать величайшим благословением. Но именно поэтому мне было тяжело смотреть на ее исхудавшее, покрытое волосами тело и на ее редеющие волосы.
На девятый день я поставила перед мамой теплую лапшу с луком и мэнтайко. Домой я вернулась под утро, и мне хотелось спать, но разозлившись на маму, которая не могла ответить, что бы ей хотелось съесть, я приготовила лапшу, купленную еще летом. Для меня было бы достаточно простой лапши, но после приезда мамы я запаслась луком и мэнтайко1. Маленькую красную пиалу с лапшой я поставила на небольшой столик рядом с футоном2, и мама сказала, что это вкусно. Но сделав три-четыре движения палочками, она положила их на стол. Лапша осталась почти нетронутой.
– Очень вкусно, спасибо, но мне хватит.
Вид мамы в футоне согнувшейся над дешевым столиком из гипермаркета хозтоваров – все это совсем не вязалось с выражением «последние дни». Она даже не носила белье под растянутой пижамой, наверное, больничной. Желтая пижама в цветочек, выбранная мамой, казалась неуместной. Но у нее не было сил носить что-то другое. Возможно, пижаму принес кто-то из ее знакомых, но я не видела, чтобы кто-нибудь ее навещал. Мне пришли на ум образы смерти и грусти из ее стихотворений, и в животе возникла тяжесть.