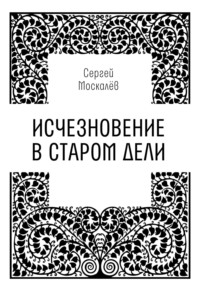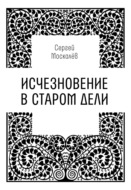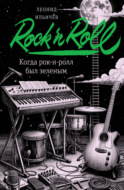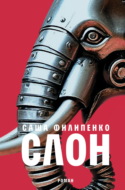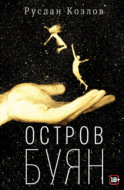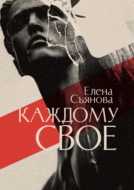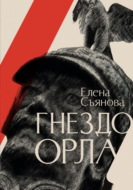Read the book: «Исчезновение в Старом Дели»
© С. Москалёв, 2025
© «Время», 2025
Смотри в свое Сердце, как только увидишь Любовь – больше никогда не отводи глаз.
Хазрат Инайят Хан
Пролог
Москва – Юг
Москва
Москва встретила Алима мельчайшим дождем, ветром и пронизывающим холодом. Проходя по Никольской улице, он увидел странный предмет в окне аптеки Феррейна. Несмотря на раннее утро, аптека работала, и Алим вошел, чтобы немного согреться. Купил коробочку мятных пастилок и спросил аптекаря:
– Простите, а что это за прибор у вас на витрине?
Аптекарь в очередной раз убедился, до чего плодотворна идея хозяина выставить на витрину нечто таинственно-привлекательное.
– Это аламбик, – сказал он, – перегонный куб. Как видите, тут есть медная бутыль, в которую кладут цветки, заливают их водой, а затем нагревают. Нагретый пар движется по тонкой трубке, уносит с собой эфирное масло цветков и попадает в сосуд с водой, где эфирное масло остывает и всплывает на поверхность. Его собирают и используют для лекарств или духов.
Алим кивнул. Он вспомнил, что когда-то читал об этом. Это был инструмент для извлечения того, что дает цветку аромат, – его сущности. Тогда он и представить себе не мог, что скоро ему предстоит оказаться там, где сущность извлекают не из растений, а из людей.
До начала путешествия в Индию оставалось два дня. Пароходная компания пока не открылась, и Алим решил навестить Николая Говорова, приятеля со времен учебы в последнем классе гимназии, а затем и в Лазаревском институте восточных языков. Говоров теперь служил в Городской думе. Аристократическое происхождение и титул князя помогли ему в его двадцать четыре устроиться на престижное место. Он жил на Арбате, и Алим неспешно отправился к нему, останавливаясь и разглядывая витрины, желая потянуть время и дать своему другу подольше поспать. Но как бы ни были неторопливы его шаги, в конце концов он, как черепаха, убегающая от Ахиллеса, подполз к линии, где старые московские двухэтажные доходные дома мешались с новыми – теми, что кое-где несли на себе отметины русского стиля, какой недавно стал моден в Москве. Как раз в таком доме и жил Николай.
Дверь открыл Петрович, в прошлом учитель военной гимнастики, которого отец Николая пригласил жить в их большой пятикомнатной квартире. Был он не слугой, а скорее компаньоном отца, с которым они служили когда-то в одном полку. В силу жизненных обстоятельств, среди которых было пристрастие к питию горячительных напитков в сочетании с глубокой религиозностью, Петрович в преклонные свои годы оказался на улице. Покровительством Николаева отца он пользовался за какую-то важную услугу, оказанную тому в молодости.
Петрович сообщил, что Николай поехал в Нескучный сад купаться в Голицынском пруду, и предложил подождать в теплой гостиной. «Как же я забыл!» – подумал Алим. Он знал, что уже несколько месяцев, начиная со знаменитого «Ежегодного заплыва» 1897 года, как его приятель взял на себя суровое обязательство каждое утро купаться в пруду, невзирая на погоду. Там, в Нескучном, собралась небольшая, но крепкая компания настоящих спортсменов, выносливых мужчин, которые что ни утро с семи до девяти купались рядом с заведением, где москвичи пили искусственные минеральные воды. Вода в пруду была пусть и холодная, тем более зимой, однако достаточно чистая и пригодная для купания – в отличие от Москвы-реки, в которой приходилось купаться с лодки на самой середине потока. Поблагодарив Петровича, Алим все же решил отправиться в Нескучный, хотя путь туда был неблизкий, и застать приятеля за аскетическими подвигами.
Купальщики Нескучного сталкивались с двумя трудностями: сохранность одежды, оставляемой на берегу, и благопристойность при переодевании, поскольку в нашем мире всегда находятся те, кто не готов делать то или другое сам, но не упустит удовольствия понаблюдать, как это делают другие. Образовались два лагеря постоянных посетителей: купальщики и те, кто с завистью, а кое-кто и с осуждением на купальщиков глазел.
Николай скромность блюл посредством фиолетового халата, набросив который, он переоблачался после купания. Именно по этому халату Алим сразу же заприметил его среди небольшой группы спортсменов-энтузиастов, стоявших под двумя большими вязами. Друзья обнялись и решили вместе пройтись по утренней Москве.
Николай был почетным членом Императорского Российского общества спасания на водах, которое одной из главных целей ставило себе обучение плаванию, а также обеспечение опасных речных мест средствами для спасения жизни – лодками и спасательными кругами. В уставе общества было написано: «В основу руководящих Обществом принципов поставлено безусловное бескорыстие по отношению ко спасаемым. Спасание же вещей, багажа погибающих строго воспрещается». Покровительницей общества была сама императрица Мария Федоровна. Но для того, чтобы кого-то спасать на воде, нужно по крайней мере самому уметь плавать. Этот навык и осваивала компания молодых людей, приучая себя плавать в любую погоду. Удачно, что пруд в Нескучном был неглубоким, в самый раз для занятий и для того, чтобы перебороть страх. Еще Петр Великий во время наводнения в столице сам подавал пример храбрости, спасая тонущих, и призывал солдат: «Сам погибай, а товарища выручай!»
Более тридцати лет в Нескучном устраивали состязательный заплыв на двадцать саженей. Прошлогодний заплыв состоялся в девять утра на Рождество, в вырубленной полынье, и его Николай, к собственной досаде, проиграл какому-то лейтенанту и еще двум господам, один из которых был кронштадтский морской офицер. А так хотелось получить скромную, но желанную памятную медаль! Николай продолжал лелеять надежду как-нибудь отыграться, хотя у него уже и был серебряный памятный знак для ношения на кокарде – из Андреевской ленты, его он удостоился за спасение тайного советника, который неосторожно, будучи в подпитии, купался в Волге рядом со своим имением в Рыбинске. После того спасения чиновник приложил все усилия, чтобы отблагодарить своего спасителя памятным знаком.
Николай был эксцентриком и разрывался между государственной службой и тягою к искусствам. В России быть чудаком и оригиналом, как ни странно, даже почетно. Человек с умственным заболеванием «страдает» от своего поведения, тогда как эксцентрик счастлив в том, как он живет, и в том, что делает. Благодаря этому эксцентрики не бывают сумасшедшими.
Деревья в Нескучном все еще были укутаны морозной утренней дымкой, ночью было прохладно, и потому над домами витал приятный и уютный запах березовых и сосновых дров и угля. Для Алима это был запах утра в большом городе.
Сперва шли по набережной, дошагали до Крымского моста, железными конструкциями напоминавшего Алиму Эйфелеву башню, положенную горизонтально. Решили перейти реку по Малому Каменному и двинулись дальше по Кремлевской набережной, чтоб посмотреть на Покровский собор, именуемый в народе Василием Блаженным. А там уж и до Рождественки недалеко.
После купания Николай иногда заходил в трактир «Яма» – выпить чаю и посмотреть на собиравшихся там «искателей истины». Туда и направились друзья, поскольку все рестораны в такой ранний час были закрыты. А собирались в «Яме» люди странные, с горящими глазами. Алим любил такие места «для своих», где все понятно, уютно, и пусть посетитель за соседним столиком вас не знает, но он все равно как бы знакомый – через друзей или дальних родственников. «В нашем мире, – думал Алим, – где все так быстро меняется, существование подобных живых старинных мест говорит о небесном покровительстве. Без такого покровительства даже благие начинания рассыпаются в несколько лет». Тем более радостно было провести здесь время с другом, да еще и перед дальней дорогой.
Трактир этот был тайный, полуподвальный, случайные прохожие с больших улиц его б не нашли. Время от времени «Яму» посещали благополучные и порядливые православные, чтобы послушать сектантов. Они говаривали: «Занятно послушать заблуждающихся…» Слушали и иногда уходили с опущенной головой и разбросанными мыслями: «А ведь правда! Что-то неладно у нас…»
В этот ранний час трактир был закрыт, но хозяин внутри готовился к приему гостей. Николай помахал ему с улицы, и тот, улыбнувшись, открыл и впустил их внутрь. Хитрость состояла в том, что нужно было занять столик в дальнем зале, возле натопленной изразцовой печки, и до чего же приятно после прогулки посидеть под теплым печным боком, выгоняя из тела остатки стужи! Они прошли вглубь заведения и спустились по трем ступенькам, попросили чаю и что-нибудь поесть, и дружелюбный хозяин предложил им пирожки с капустой, оставшиеся со вчерашнего вечера. Пирожки те делали славу заведению. Когда завсегдатай трактира уезжал из Москвы на несколько месяцев, по возвращении он приходил в «Яму», заказывал пирожков, сосредоточенно съедал несколько, запивал чаем, и только после этого возвращение домой считалось состоявшимся.
По трактиру неторопливо скользил половой в белой рубахе, брюках и фартуке, и облачение его составляло яркий контраст с не слишком чистым полом и закопченным махоркой потолком. На стене в нише стоял фонарь, и в нем горела свеча, а напротив, на другой стене, висела огромная икона Николая Чудотворца в золотом окладе. Иконы эти очень популярны стали в трактирах после коронации 1896 года. Получалось, что лампаду перед иконой повесить нельзя: люди тут пьют и курят, но живой огонь все же присутствует, пускай и в старом жестяном фонаре.
Понемногу подтягивались люди. К их столу подсел знакомый Николая, пожилой художник, много поездивший по Северу. Он горел желанием рассказать забавную историю, которую уже две недели как обсуждали в «Яме».
– Два рабочих, – начал художник, – поспорили о силе действия иконы. Причем поспорили на четверть водки, что само по себе уже курьез. Один говорил, что в машинах – например, в паровозе – действует нечистый дух и он испугается иконы. Решили произвести опыт – веру и безверие проверить на практике. Вышли на железную дорогу где-то в Кунцево, один из рабочих встал с маленькой домашней иконой архангела Михаила на рельсы. Когда машинист поезда, отошедшего от платформы, увидел на рельсах человека, машущего чем-то, он подумал, что на рельсах случилась авария, и остановил паровоз. Победивший в споре сбежал с насыпи, радостно обнял приятеля и… потребовал четверть водки!
Алима это потрясло. В патриархальной Астрахани таких чудес богоискательства он не встречал. Ай да Москва! Неспроста говорили: «Европа надеется на Россию, а Россия на Москву».
Алим вспомнил, как знакомый студент, побывав в Оптиной пустыни, передавал совет одного тамошнего старца не искать подтверждения своим словам в Библии. В ней, по словам старца, можно найти подтверждение чему угодно, даже нехорошему и жестокому, а смотреть нужно, как написано в Евангелии. Важно, чтобы сомнение не стало убеждением, а потом и осуждением.
За соседним столиком старик что-то объяснял молодому парнишке.
– Ну что ты, брат, приуныл? Чего ты хочешь? Смотри, какой богатый, веселый мир! Все твое. Какой дом ты желаешь? Выбирай! Весь мир наш! Все его радости – наши радости! Зачем тебе золото и бриллианты, когда сам Бог на тебя смотрит и улыбается… А люди тоскуют, потому что им привили болезнь – веру в смерть. Смотри! Ведь в Писании же сказано: «Всякий живущий, верующий в меня, не умрет. Веришь ли этому?»
– Но отчего же никто не живет вечно? – усомнился молодой.
– Чудак! Умирают, потому что веры мало! А разве все тайны нам открыты? Есть, брат, есть люди, живущие вечно, вот хоть в Беловодье, но мы просто их не встречали, а встретивши – не признали бы, тут внутреннее око должно быть открыто!
– А вот Василий Кириллович говорит: «Всё в табе, всё в любве», тут и ехать никуда не нужно, ни в Беловодье, ни в Светлояр, – спорил со стариком молодой.
А кто-то рассказывал про комету, которая точно прилетит 12 июня, и с этого начнется Царство Божие на земле. При этом, как только наступит пришествие, избранных переселят на другую планету, землю очистят огнем от всех грехов и потом вернут обратно! О чем только не говорили в «Яме»!
Вышли на улицу, в неожиданное московское потепление на излете зимы, еще на днях такой недоброй. И хотя давно должны были они разойтись каждый по своим делам, но случается так, что интересная беседа удерживает людей вместе, и Николай все никак не хотел бросить разговор, завязавшийся у них с Алимом в трактире:
– Ты помнишь восстание сипаев в Индии? В министерстве говорили, что некий важный делийский мулла называл англиканского священника фанатиком, потому что тот, как и все фанатики, считал, что Бог назначил его исполнить миссию обращения всех индийцев в христиан. Наиболее ретивые из прихожан этого проповедника, военные, у себя в частях перед строем читали Евангелие, заставляя туземных солдат сипаев-мусульман все это слушать. То есть сами сотворили бунт.
– Ну, достаточно посмотреть вокруг, – продолжил Николай, – люди, которым не хватает сил что-то делать самостоятельно, смущают окружающих, особенно людей сильных, чтобы с помощью этой чужой силы делать свои дела. Не хватает денег, значит, нужно объявить кого-то безбожником, пойти и ограбить его. Беда всех новых пророков в том, что они начинают обличать других если не в греховности, то по крайней мере в глупости и слепоте. На самом деле это показывает, что они во всемогущего Бога не верят, а верят в какие-то удобные для них фрагменты и цитаты из Писаний.
– При игре в шахматы на пять ходов вперед без ошибок во всем мире могут видеть десять человек, – говорил Николай, – Стейниц или Ласкер… Это всего шестьдесят четыре поля и тридцать две фигуры, а мир – это бескрайняя доска с одним миллиардом фигур. Кто тут может рассчитывать ходы? Конечно, чем глупее человек, тем больше он склонен думать о своем уме в превосходной степени, но заканчивается это тем, что, не в силах понять сложнейшее устройство мира, они выбирают простые методы управления: сломать построенное и создать хаос, и все это с далекими и непредсказуемыми последствиями.
– Мне кажется, есть области, в которые никому хода нет, – согласился Алим, – это личная внутренняя вера каждого человека. Все в мире, кроме катастроф, имеет органическое, растительное какое-то происхождение. Ты же знаешь, я сам отчасти индиец, хотя и астраханский, нас именуют «агрыжанцами», что означает «выходцы из Агры». Так вот, я скажу: если у индийцев, в их культуре, выросло нечто диковинное, нечто напоминающее причудливое дерево, пусть непривычное и непонятное, то зачем его спиливать? Пусть растет.
Друзья в задумчивости замедлили шаг, незаметно разговор пошел в неприятную для обсуждения сторону, так бывает, когда что-то болит и все внимание утекает в это место. Молчание прервал Алим, вспомнив, что пароходная контора уже открылась и пора идти.
– Обещаю собрать для тебя в Индии побольше сведений от местных очевидцев и участников, свой урду я подтянул по мере возможности, попробую описать ощущения и настроения. Подробности уже есть в сотнях книг, и они ничего не объясняют, а, наоборот, рассыпают картину на тысячи фрагментов. Может быть, именно мои ощущения дополнят твой взгляд и сделают картину более достоверной. Но пока сам не знаю, как все сложится с моей поездкой в Дели. У меня есть несколько семейных обязательств, которые я должен выполнить, и для «Русского слова» я обещал писать корреспонденции. А еще надо для журнала «Жизнь» привезти статью об индийской музыке. Последний раз о музыке индусов писал профессор Московской консерватории Размадзе десять лет назад, вот и все мои знания о ней. Как я буду статью эту сочинять – ума не приложу.
Друзья обнялись, и Николай на прощанье сказал странную вещь:
– Помнишь, как мы читали из Эпикура? «Следует выбрать кого-нибудь из людей добра и всегда иметь его перед глазами, – чтобы жить так, будто он смотрит на нас, и так поступать, словно он нас видит».
На юг
Проведя две недели в пути на австрийском пароходе, вышедшем из Одессы, Алим наконец ступил на благословенную индийскую землю – родину предков. Корабль его дважды побывал в серьезных штормах, прошел по Суэцкому каналу в Индийский океан и пришвартовался в Бомбее. Индийская община в Астрахани, к которой принадлежала семья Алима, существовала уже триста лет. Сохранились Агрыжанская слобода и подворье, где и теперь живут индийцы – и мусульмане, и индуисты, у последних даже есть свой действующий храм. Очень хотелось Алиму посетить Агру и посмотреть на Тадж-Махал – памятник любви и преданности.
На корабле Алим познакомился с русским купцом, который часто сидел на верхней палубе и читал старую библию. Они разговорились, и оказалось, что купец этот с юности мечтал найти Беловодье и однажды от кого-то услышал, что находится оно не на Алтае – там бывали многие, но ничего, кроме холодных скал, не нашли, – а в Индии. И в Индию он едет, чтобы своими глазами удостовериться, что там что-то есть – есть люди настоящей православной веры.
Еще в Астрахани Алим в определенную пору жизни с головой ушел в кипучую народовольческую и нелегальную деятельность, где полагаться приходилось только на ловкий ум и смекалку, а также порой и на чистую удачу. И ему было приятно встретить человека уже немолодого, в летах, но не утратившего стремления найти свой идеал и не отчаявшегося в поисках.
Дорожная контора Кука устроила так, чтобы, минуя бомбейскую жару, которая вместе с влажностью была непривычна европейцу и довольно быстро могла свалить его в лихорадку, Алим смог в тот же вечер сесть в экспресс Бомбей – Дели и напрямую проследовать к цели своего путешествия. Хотя точно описать свою цель он не мог – скорее, это был набор указателей-стрелочек, какие ставят в парках, чтобы показать общее направление. Эти вот стрелки совокупно и составляли для него один большой указатель.
Отец учил его приему, который назывался «сохранить взгляд». Это был удивительный способ не растратить внимание и чувства на пути к цели. Дело в том, что если человек совершает хадж, или паломничество, и в пути отвлекается на все вокруг, он до святыни не дойдет никогда. Они с отцом, бывало, ездили в незнакомые города, и тот настаивал, что начинать осмотр города нужно с высшей точки, на которой обычно располагается храм. И лишь после соприкосновения с высшим начинать спуск, а пока спускаешься, можно выпить чаю, зайти к торговцу безделицами на память, а еще лучше – в книжную лавку.
Алим знал, что у отца сложилась традиция: каждый раз, приезжая в Москву, он ходил в галерею купца Третьякова смотреть картину «Портрет Лопухиной» Боровиковского. Отец почему-то считал этот портрет шедевром, равным работам Леонардо и Рафаэля. «Русская Джоконда» – так отец называл этот портрет. С вокзала он шел пешком мимо Кремля, затем переходил реку по Каменному мосту, далее до набережной и, повернув на нее, уже к галерее. Обычно он старался явиться к открытию, когда в залах еще никого не было. Брал билет и отправлялся в нужный зал, при этом не смотрел по сторонам до тех пор, пока не встречался со своей любимой картиной. После свидания с ней отец обычно целый день был тих и задумчив. Однажды ему прочитали экспромт Полонского из альбома одной княгини, и он запомнил несколько строк:
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд…
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.
Однажды отец признался, что девушка, изображенная на картине, очень похожа на мать Алима, которую тот помнил смутно, поскольку она умерла, когда ему было всего пять лет, но остались фотографии в кабинете отца. Они подтверждали его слова лишь отчасти – сходство было, но скорее не внешнее, а внутреннее, так бывает, когда вы точно знаете, что одна вещь связана с другой, хотя вещи эти разные и по виду, и по назначению.
День 1. Вечер.
Дели. Дарга святого Калимуллы. Шейх Мансур
Дели
Вечер случился внезапно, стемнело как-то сразу, поезд мягко подходил к платформе делийского вокзала, двигаясь медленно, давая возможность многочисленным людям ходить по путям, подобно муравьям, какие заняты своей работой и не обращают внимания на что-то огромное – то, что они не замечают именно из-за его огромности. Хотя, наверное, какой-то общий муравьиный ум все видит и повелевает этим народом, постоянно находящимся в движении. И Алима пронзила мысль: движение, вот что важно! Никому не нужна вода в трубах, если она не приведена в движение, никому не нужны железные дороги, по которым не мчатся поезда, не нужны города, в которых не ходят люди… Так и с человеком: должно происходить движение – не только снаружи, но и внутри себя.
Вдруг Алим увидел пожилого человека, который бежал по поезду с чем-то дымящимся в руках. Когда старик миновал его, Алим понял по знакомому с детства запаху ладана, что старик окуривает поезд. В руках у него было нечто похожее на глиняный горшок, к которому для удобства была приделана ручка. Курильница была наполнена тлевшим древесным углем, на него была брошена щепотка желтой смолы и измельченной травы. Судя по всему, старик был дервишем, о чем свидетельствовали островерхая шапка, залатанный халат и сумка через плечо – так на картинах Верещагина изображалось дервишское одеяние, так эти люди выглядели и на газетных иллюстрациях к статьям о недавнем столкновении британской армии с дервишами, занявшими столицу Британского Сомали. Этот дервиш не был похож на вояку – он улыбался, и глаза его были чисты, как два василька. Он несся по вагонам, забегая в открытые купе, обдавая клубами дыма всех собравшихся к выходу. Он был так резв, что, для того чтобы пожертвовать ему денег, которые он, вероятно, собирал таким способом, людям приходилось догонять его. Все произошло в секунды, как будто пролетел ветер, оставив за собой сухой и терпкий дух дыма. Так красиво! В этом действе не было ни намека на унылое попрошайничество! Кто был этот человек? Почему он взял на себя такую обязанность – очищать приезжающих в Дели? И как можно очистить людей с помощью дыма? Всего этого Алим пока не знал – ответы ждали его впереди.
Замелькали фигурки носильщиков, одетых в красные курты и белые тюрбаны. Тюрбаны эти были плоские – вероятно, чтобы удобней было носить на голове поклажу. Всё и вся двигалось хаотически во все стороны разом. Железнодорожные служащие, крестьяне, чиновники, женщины, дети, нищие. Солдаты, стоявшие группами и ожидавшие отправки в свои гарнизоны. Кто-то по платформе провел корову! «Неужели она поедет в поезде? – подумал Алим. – А что, все возможно, ведь это священное животное!» Платформы загромождали огромные тюки, обшитые холстиною, на земле сидели люди – большие семьи в несколько поколений, со старухами, дедами и грудными младенцами. Люди ужинали или спали. Вокруг вокзала велись строительные работы, кое-какие здания даже частично уже подведены под крышу. Строился новый вокзал из красного кирпича с готическими сводами, покрашенными белой краской, виднелись башенки, похожие на минареты, – приятное глазу соединение викторианского и могольского стилей.
Сперва Алим решил избавиться от своего внушительного чемодана и, с трудом отбившись от подозрительных носильщиков, сам понес его в камеру хранения. Над дверью в камеру хранения висел щит, на котором красной краской было написано, сколько стоит день, неделя и месяц хранения одного чемодана. Алим получил квитанцию – бумажку желтоватого цвета с блеклой печатью и подписью на хинди. Особого доверия сей документ не внушал, зато его внушал бравый сикх, в камере хранения царивший.
Мы можем не доверять видимым обстоятельствам, но при этом доверять человеку, нас к себе располагающему. И Алим решил положиться на судьбу, поскольку выйти в вечерний сумрак в незнакомом городе с большущим чемоданом было бы глупо и, наверное, небезопасно, но страх он в себе не подкармливал, уверенно полагая, что именно страх притягивает несчастья. Он был хорошо экипирован для вечерних и даже ночных прогулок: френч военного покроя с множеством карманов, крепкие ботинки. Каракулевая шапка-астраханка, в которой он ходил по холодной Москве, вечером в Дели оказалась совсем не лишней, она к тому же делала его похожим на кашмирца, чему также способствовала борода, отросшая за две недели пути, и он решил не бриться. Все это придавало ему вид боевой и решительный.
Так, внезапно оказавшись налегке, он решил по отцовскому правилу «первого взгляда» сразу же пойти на могилу деда, которая, судя по карте, должна была располагаться на расстоянии всего одной версты от вокзала. Алим не задумывался о том, где будет ночевать, он знал почему-то, что все должно устроиться, – так происходит, когда ощущаешь силу внутри.
Дарга святого Калимуллы
Место, куда он решился идти, называлось дарга Калимуллы – по имени святого, чей мавзолей окружало небольшое кладбище, и на этом самом кладбище были, по семейному преданию, похоронены несколько родственников, самым выдающимся из них был его дед, которого Алим никогда не видел. До семьи в Россию доходили слухи, что район этот был почти целиком разрушен в 1857 году во время восстания, или, как его предпочитали называть англичане, бунта сипаев. Никто из родных не знал, в каком состоянии теперь находится кладбище и сохранились ли могилы. Из-за боевых действий Дели сильно пострадал, жители квартала – мусульмане – рассеялись по всей Индии, и, по слухам, квартал теперь населяла публика разношерстная, люди, пришедшие в город в поисках лучшей доли. Дели – калейдоскопическая смесь всевозможных языков, обычаев, религий, желаний, устремлений, разочарований и надежд.
На улице уже стемнело, хотя час был еще не поздний: Алим посмотрел на часы – около восьми по местному времени. Наручные часы свои он переставлял в Бомбее. В который раз полюбовался на свой «Вристлет», серебряный, с защитой от сырости и, самое главное, со светящимися фосфорными стрелками, которые в самой глухой ночи сообщали время. Эти часы, новинка последнего года в России, несмотря на свою дороговизну, были в большом ходу у людей военных и морских офицеров, равно как и у велосипедистов, к которым Алим себя причислял с большой гордостью. Удивительно, что наручные часы придумали не часовщики, а производители ремней и портфелей, сделав приспособление на ремешке, в которое можно поместить часы обыкновенные, карманные.
Хотя у Алима была карта города, он решил, что лучше спрашивать направление у местных жителей, и такое решение впоследствии оказывалось для него причиной и досады, и радости. Незадача была в том, что у индийцев не принято говорить «нет». Если вы задаете вопрос, требующий точного ответа, а человек, к которому вы обращаетесь, не может ответить или не понимает вопроса, он из вежливости и желания помочь начинает придумывать или пытается угадать, что же вам нужно на самом деле, и, бывает, стремится угадать даже то, о чем вы сами еще и подумать не успели. Местный житель фантазирует и с уверенным видом и пожеланием счастья посылает вас в направлении, противоположном от того, которое вам надобно. Однако если индиец действительно знает, куда и как идти, он не сочтет ненужной тратой времени лично сопроводить вас до места и немножко поговорить с вами в дороге. Вдруг вы расскажете что-то нужное и полезное, дадите вашему провожатому намек или подсказку, как ему волшебным образом изменить свою судьбу к лучшему.
Выйдя на вокзальную площадь, Алим пошел вдоль железной дороги. Справа от него тянулись кварталы старого города, над которыми возвышались минареты, купола и был виден даже крест католического храма. По высоте крест пока возобладал. Алиму нужно было дойти до первой большой улицы и повернуть направо, что он и сделал, углубившись в лабиринт из домов.
Вечер принес прохладу, но город продолжал отдавать тепло, оно исходило от каменных стен, от земли, отовсюду, а ветер, по ощущениям речной, делал это тепло приятным. Город оживал в своей вечерней жизни, свет из мелких лавочек, магазинов, мастерских проливался на улицу под ноги прохожим. Это деление на жизнь ночную, утреннюю, дневную и вечернюю он наблюдал в больших городах; у каждой из этих жизней был свой ритм, свои правила, свои запахи и даже свои звуки. Здесь, в Дели, то наплывала музыка, то вдруг прилетало пронзительное пение муэдзина, призывающего к молитве. Алим шел, поглядывая на бумажный листочек с картой города, останавливался возле позолоченных светом лавочек, здоровался с владельцами магазинов – все наверняка местные – и произносил: «Калимулла». Не успевал он договорить «дарга», ему уже показывали направление.
Пройдя где-то с полверсты, миновав индуистский храм, он вдруг оказался на очень широком и красивом проспекте, который напомнил ему парижские бульвары, с той лишь разницей, что дома здесь были двух– и трехэтажные. Проспект оказался освещен и оживлен, по обеим его сторонам, разделенным строем деревьев, двигались потоки: повозки, носильщики, люди всяких национальностей. Европейская одежда смешивалась с яркими сари, мелькали в толпе сикхи с благородными и красивыми лицами под разноцветными тюрбанами, быстро прошли, о чем-то разговаривая, две католические монахини в серых платьях. Торговцы ловили взгляды прохожих, зазывая их поужинать, купить ювелирные украшения или кашмирские шитые серебром и золотом шали. Алиму хотелось погрузиться в этот пестрый, шумный и неизведанный мир, о котором он слышал с детства, в эту действительность, вдруг превзошедшую его ожидания. Он то оказывался в облаке ароматов, исходящих из лавочки, торгующей специями, то налетал керосиновый дух, сменявшийся запахом плова. Но Алим шел не сбавляя шаг, верный отцовскому правилу, и сознательное ограничение своего любопытства давало силу двигаться бодро и радостно. В этом был принцип аскетизма, давно придуманный йогами и монахами. Так же, как вода, строго направленная, крутит колесо водяной мельницы, так и силы человека стягиваются целенаправленно, если не позволять им растекаться по жизненному полю.
Справа, на противоположной стороне проспекта – а это была знаменитая улица Чандни-Чоук, – он увидел старинную мечеть с тремя золотыми куполами в ряд, а через дорогу от нее стояла сикхская гурудвара с большими резными мраморными воротами, над которыми на четырех столбиках возвышались подобия беседок, увенчанных маленькими луковками. Все это напоминало навершия русских церквей. Вдруг его посетила мысль, что сейчас, здесь, на этой улице, он видит прообраз будущего мира, и, хотя преподобный Томас Мальтус почти сто лет назад говорил, что человечество разрастется так, что скоро наступит вселенский голод, здесь Алим видел жизнь. И, что самое главное, он видел, как смешиваются разные нравы и как совсем разные люди все-таки могут жить рядом, хотя, наверное, и не без сложностей.
The free sample has ended.