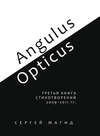Read the book: «Стихи 2011–2019 гг.»
© С. Магид, 2020
© О. Сетринд, оформление, 2020
© Издательство «Водолей», оформление, 2020
* * *
Не то, а это
сижу в пивной «У зевающих»
гляжу в окно на проходящих и проезжающих
выбираю знамения, собираю бога
которому не нужна дорога
который давно на месте
как дрожжи в тесте
пью местное пиво
ем местную колбасу с хреном
наслаждаюсь вавилонским пленом
шлю смертных в Иерусалим
дом это, видимо, там,
где ты хоть отчасти любим,
а я здесь любим, – по той, правда, части,
что даю на чай
ну, на то я и бог,
чтоб творить добро невзначай
* * *
обетова́нная земля
необитаема.
во мгле
растет лишь папоротник пряный
да воздух молодости пьяный
как Щорс качается в седле
обетова́нная земля
теперь совсем необитаема
звонил
стучал
пинал ногами дверь
Щорс воевал за что?
поверь,
жизнь вся
ни в чем
не узнаваема
обетова́нная…
но вот, с пустыней слившийся народ
уже давно ее не ждет
ни в Китеже
ни в тихой Мураве.
лишь про себя он знает точно:
придет приказ – за Щорсом срочно
пошлют. – по бережку придет
(голова обвязана, кровь на рукаве)
и всех спасет, кого любил заочно
* * *
Жизнь предчувствует сразу всю
тот,
кто всегда одинок.
Молодость, старость
разделены запятой. Она не болит.
Просто снова и снова вступает Телониус Монк
в «Тему 52-й стрит»
* * *
миром правят не экономика
и не деньги
а эмоции
и мифы сознания
а эмоции и мифы сознания суть лоции средь знания зияния
и вот я смотрю и не понимаю:
что́ всё это?
неужели культура?
или это дура людская натура
сваливает
с боевого задания?
* * *
скажи мне,
друг по нарам в караулке,
скажи,
мой постоянный на прогулке, –
как жить?
что жизнь? –
и землячок ответил:
жди де́мбеля, он в будущем, он светел
а постоянный мне сказал: дубина,
я Авва твой, жизнь – чаша, пей за Сына
* * *
Всё, всё, что я любил, осталось мне,
я всё забрал и ничего не бросил,
унёс с собой и вынес в эту осень,
где жизнь стоит как лужица на дне.
Мне государства разрешали сносно жить,
я не успел ни в Коми, ни в Дахау
(растерян я, – кого благодарить?
хозяев жизни? холуёв ораву?)
Я был свободен. В армии комбат
нам сам сказал: «Свободны, раздолбаи!»
и вышли мы, как в Трою Менелаи,
чтоб жизни красоту вернуть назад.
Я честно делал всё: свидетель Бог.
И все-таки чего-то я не смог
понять.
Чего?
Людей и их идеи.
Мне волк тамбовский был всегда родней и
ближе отечеств, ведомств, чинных лиц
(их набирается с гвардейский эскадрон),
меня считавших чокнутым. Pardon,
je mi z toho nanic1.
Но жаловаться не на кого. Здесь
всё шло путём, а там… Там будет видно.
Одно обидно:
что умру, что весь.
* * *
Сегодня я кусок
бессмысленного мяса
такая
у меня раса
* * *
на родине есть странные места
в её глуши
и в двух ее столицах
там начинают с чистого листа
историю людей
в суровых лицах
бурлит этногенез
растет квартплата
за ледяной пустыни постоянство
никто не помнит что бродил когда-то
в пустыне этой
ангел…
что сказать,
Победоносцев прав: се – дивный календарь
в провинциях
тем более – в столицах
где все считают попросту
как встарь
что космос есть букварь в родимых лицах,
очнувшись утром в ледяных пластах
средь идолов пещерного пространства
и знать не знаючи
что в этих же местах
бродил когда-то
ангел…
* * *
Болезнь Менье́ра меня роднит
с Шаламовым В. Т. Она такая:
пейзаж сдвигается, тебя в него тошнит.
При этом можешь ждать трамвая
или сидеть за письменным столом,
неважно. Важно то, что нет спасенья.
Шаламов просто падал. Он ментом
не раз был отволохан в отделенье
как местный алконавт. Я раз за ним
зашел туда с таблеткой бетасерка.
Меня он принял за берсерка
в законе, с доступом крутым
к лепилам и кумам.
А я сказал: «Варлам,
я болен как и ты, теряю слух,
но вот те крест, что я готов за двух
нести Меньерову хоробу, –
ты только плюнь на глухоту и злобу,
ведь не они питают дух».
А он в ответ: «Опущенный петух
умней тебя. Чтобы писать стихи,
должны быть злы и быть глухи́
поэты, бес».
И выругался вслух.
Я постоял еще немного и исчез.
И вот я зол и глух.
* * *
слова́ теряются,
их уже не найдешь.
жизнь неприкаянна
как закатившийся в угол грош.
но есть еще женщина.
ее рука
приголубит и дурака.
храни свою женщину,
храни как мысль.
она есть дерево.
она есть рысь.
она есть озеро.
она есть мыс.
она есть низ,
что уходит ввысь.
ты в ней, свернувшись
плодом-клубком,
обретаешь как в смерти
последний дом.
* * *
Жизнь,
что делается
за́ день,
мне важна едва ли, –
кроме пары слов в тетради,
что себя сказали.
* * *
на западной стороне реки
в комнате без дверей
целовать
девичье
тело
с яичной скорлупой вместо головы
так
функционирует старость
из которой нет
пути наружу
* * *
Меньше знаешь, будешь долго
незаметным, бесконвойным, –
говорил мне гад бывалый
на одной бескрайней зоне.
я в ту пору был спокойным,
а теперь я злой и шалый,
и колючий как иголка,
вот и еду в спецвагоне.
только еду не для шутки
жить при тачке на соломе,
а туда, где Запад ходит в пациентах педиатра
аутистом.
он всё знает.
ну, само собою, кроме,
как прожить вот эти сутки,
чтоб убили только завтра.
* * *
Марина – монстр
по обе
стороны
добра:
по эту сторону все божеские смыслы,
по ту –
звериный вой
* * *
ужас жизни
приходит не во сне,
когда нет сил бежать,
а во время бессонницы,
когда силы есть,
но бежать некуда
* * *
из двух первичных чувств,
подмеченных Шаламовым на зоне –
злости и равнодушия –
только злость.
на равнодушие нет времени.
* * *
«Не переставая стыдно за свою жизнь… Я сам себе гадок и противен».
(Лев Толстой, январь 1910 г.)
сегодня не фартит.
не жизнь – сплошная лажа.
дела белы как сажа.
лишь ненависть саднит.
таков мой жалкий день,
убогий длитель тела.
сознанье отлетело.
в уме обид плетень.
и только граф Толстой
(о, путь сравненья сладок!)
всё пишет, что он гадок,
спасая подвиг мой.
* * *
опять стою в метро
смотрю в туннель
а из туннеля смотрят кровь и баня
и свет в конце
свет в красноватой мгле
там ширится звезда, её несет в стволе
купец калашников,
всемирный дядя ваня
Мотольская больница в Праге
1.
я совсем заболел
ждет меня трансформация, вроде
всероссийской крестьянской реформы:
свобода, но без земли
и еще двухголовый орел
(в нем черно́быльский ангел, в уроде)
ну и санкт-ленинград –
слабым отсветом в звездной пыли
2.
стали мерять давление,
а давления нет.
всё что есть – настроение.
непонятный предмет.
всё что есть – испытание
чьей-то странной судьбой:
одиночки, дознания,
их конвейер тупой,
зоны зависти, пропасти
беспричинной хандры,
выпадение в области
абсолютной муры,
а потом та nemocnice2,
где краткость дня
постепенно становится
длинней меня.
3.
еще жив, а уже привязали бирку
вон, висит на правом запястье
отправляюсь на остров блаженных,
увижу Кирку3,
пару свиней, испытывающих счастье,
всех героев греческого аго́на,
и себя – гения плагиата –
не выходя из вагона,
проезжая долиной Иосафата4
…аle ne teď!5
не сегодня…
брошена сходня
с лодки на берег
есть еще время
есть еще дом
входит вестник ре-анимации,
говорит: «шалом!»…
да нет,
это saniťák говорит jdeme6
* * *
всё проще дни
всё чаще ночи
всё дольше отдых у обочин
всё больше мы одни
ты счастлива, что всё так просто:
цветы растут, болезни роста
приходят к ним, и ты одна
судьбою им дана
так протекает в этом Лимбе7
жизнь беззаконных человек
их головы сияют в нимбе
им песнь поют битлы в наушник
резвится Бог как пэтэушник
и бьет с седла как печенег
* * *
книга «Тристий» пришла ко мне
в тесноте моих лет
нет, я не был разбужен
и не был согрет
просто стал я внезапно
родным языком,
позабыв это тело с его стариком
Песах
Ангел Божий полу́ночью шел мимо двери,
миновал,
не потребовал выйти во двор
а за ним словно звери тащились ручные евреи
на которых я в щелку глядел
как непойманный вор…
всё пройдёт и меня
перед сном расцелует хозяйка
но глухое стесненье, боюсь, отзовется в груди…
я пристроюсь в хвосте…
я как в детстве рвану до Клондайка
за собачьей упряжкой…
…пустыня, Синай впереди…
* * *
рабби симо́н сын гамалии́ла приговоренный к распятью
сказал
«человек должен готовиться к смерти
не доискиваясь причины»
в идущем суховее нет кручины
а только Промысел
его порыв с утра
мне тормошит опушку на макушке
и лысину шершавит рукавом
я католический монах в расцвете вишен
я дзэнский мастер, я почти не слышен
меня обходят пыльные ветра
и путь спросить не знают у кого
* * *
и я как дух сходил
туда где гад морской
глядит погибелью в глаза аквалангиста
и на горе стоял
и видел под собой
все царства а внутри
Христа-сепаратиста
и по пустыне брел
и на болоте пил
и от фабричного выматывался гнуса
и персом пал в резне у Фермопил
и жег костер
молясь за душу Гуса
и был везде как перст блаженно одинок
и умирал
и оживал от боли
и поздно понял я
что Запад есть Восток
а воля есть – лишь версия неволи
* * *
жизнь кроманьонца чудесна сознательна коллективна
уже не каждый как медведь
сосет свой одинокий палец
есть даже первый интеллигент
считающий что эта жизнь
фиктивна
что много кроманьонцев суть
один большой неандерталец
Блюз границы
последний дом
и Лилипутии конец
за нею Австрия
за Австрией Равенна
в Равенне Мандельштам, он там славист и чтец,
на четверть ставки жнец, заготовитель сена
нам на́ зиму, на жизнь, на холода,
на наши тощие года,
на наши толстые от кожи города,
где дух-трава в булыжниках растет,
пока наш катапульт, – эпический во гневе! –
долбит по площадям,
чтоб где-то чьей-то Еве
уж не было с чего
сорвать запретный плод.
да черт с ним, ладно.
Лилипутии конец.
обиды жрут ее.
суды ее пусты.
закон приказывает ей – хотя б окошку
прощальному гореть…
горит, но понарошку,
здесь, где всамделишный, возможно, только ты…
так что там – «…крайняя звезда в конце села –
как свет в последнем домике прихода?»8 –
а может погранцы?
да нет, у перехода
вьетнамцы гномов продают –
и ночь светла.
Исаак и его Авраам
я сижу на горе́
в середине материка
больна здесь моя нога
больна здесь моя рука
больна здесь моя душа
и только отец здоров
и когда он спрашивает ну что, так где ты готов
посмотреть за край?
какая разница, говорю,
вот здесь и давай
Гостиница
на севере дыра
и смыслов ноль
зато внизу полно всего – филистимляне,
Самсоны, битвы храмов…
без стихов
я замурован в Дойчланд третьи сутки
со мной здесь пара книг,
сыр,
хлеб
и соль,
бутылка к ужину – спасения фено́мен,
надежный, с кнопкой, нож
зудит в кармане
всё как всегда –
тотально автономен
и нежный русский мат
хранит меня в рассудке
* * *
жизнь человека есть комментарий
к его судьбе
который он пишет без пауз в своем труде
но и судьба есть в общем-то сноска
а сверху – текст
сплошных повторений
и общих
избитых
мест
* * *
нам ничего с тобой не угрожает
нас оставляют ночью длиться вроде
и мы живём за пазухой у Бога
и всё идет естественным путём
как в Африке, где лишь колдун деревни
глядя насквозь, в растерянном уроде
дар джунглям шлёт
и метит лоб урода
куриной лапкой и кривым ногтём
* * *
мне стало тесно
в стихах моих друзей
не интересно
нет колодезей
с живой водой безумных смыслов
а что без них поэт?
он изнутри и сух и спет
был родником, а стал в углу
стоять железным коромыслом
* * *
Наверно я неправ
The free excerpt has ended.