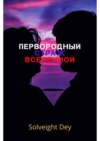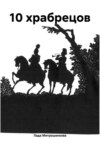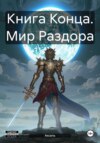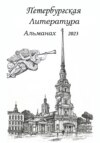Read the book: «Петербургская литература 2024»
Дмитрий Корсунский
ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЖИЗНИ АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ
Но, боясь смерти, рождающейся от преслушания, и как бы движимый сею боязнью на послушание, приступил я к исполнению всечестного повеления твоего со страхом и любовью, как искренний послушник и непотребный раб превосходнейшего живописца, и при скудном моем знании и недостаточном выражении, одним только чернилом однообразно начертав живые слова, предоставляю тебе, начальник учителей и чиноначальник, все это украсить, уяснить и как исполнителю скрижалей и закона духовного недостаточное восполнить.
«Лествица». Преподобный Иоанн Лествичник
Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне,а люди, угодные Богу, – горниле уничижения.
Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, глава 2, 2:4, 2:
Святой преподобный Иоанн Дамаскин писал: «путь к добродетели труден и тернист, в особенности для тех, которые, не очистив еще своей души пред Богом, будучи обуреваемы страстями, считают себя совершенными. Мы нуждаемся во многом, поощряющем к добродетели: частью в напоминаниях, частью в жизнеописаниях людей, заслуживающих в этом отношении доверия.
Чтение таких жизнеописаний помогает нам переносить испытания и заставляет нас не пренебрегать при-готовлением себя ко встрече с терниями этого пути.
Так, если бы кто-нибудь стал уговаривать и поощрять даже склонных вступить на эту полную трудностей дорогу, то он достиг бы одним своим увещанием меньше, чем если бы при этом он представил примеры многих, прошедших уже этот путь и в конце концов доблестно преодолевших его трудности».
Слова этого святого служат хорошим напутствием всем авторам, решившим посвятить своё творчество изучению и проповеди духовной жизни.
Созданию литературы, в которой исповедуются православные ценности, как правило, предшествует приход автора к Богу, а работа над текстом становится средством спасения души сначала писателя, а затем, если то будет угодно Господу, и читателей.
В процессе творчества автор постоянно размышляет о Боге; о промысле Вседержителя в судьбах людей и стран; ищет в Ветхом и Новом Завете, и в творениях святых отцов мысли, истории и чудеса, раскрывающие сюжет, отношения и характеры героев со стороны вечных истин и законов.
Фактически писатель сначала является внимательным читателем, соотносящим христианскую литературу со своей жизнью, с событиями современности и ушедших столетий, с историей Отечества. Лишь набрав и проанализировав достаточно информации, автор приступает к самостоятельной работе.
При этом он не копирует апостолов и ветхозаветных пророков, а пишет историю своего времени. Он делится с читателями своими размышлениями и чувствами, а иногда и предвидением развития общества.
В момент творчества автор может уподобиться мифическому герою Одиссею, возжелавшему услышать пение сладкозвучных сирен и приказавшему гребцам привязать его к мачте, а самим заткнуть уши.
Однако если для Одиссея пение губительниц моряков доставляло услаждение слуха и телесную муку, то для автора знание о подвигах, муках, духовных дарах и пророчествах святых, а также о возможной силе воздействия бесовской злобы на человека приносит и пользу, и укор совести, и искушение, и болезнь. И иногда желание подражать святым может привести к прелести и принятию на себя дел, превышающих его духовные и физические силы, что не всегда полезно и безопасно.
Всё дело в том, что начальное изучение и осмысление православной литературы может дать человеку огромную энергию и рвение, делая его ревностным исполнителем обрядов и давая стремлении к праведности всем сердцем, всем помышлением. Появляется память последнего часа, мысли о последних временах. Он становится вроде святого апостола Павла, сказавшего Христу, что готов в душу за Него отдать…
Именно поэтому он старается делать книгу и всякое доброе дело всё лучше и лучше, даже если улучшение всего на малый грошик, ведь в гробу, и при наличии горячего желания, ничего не сделаешь.
Но бывают случаи, когда автор, в желании совершенствования творчества, словно перестаёт быть собой. Николай Гоголь, услышав множество отзывов, что «Ревизор» и «Мёртвые души» являются фарсом и клеветой на Россию, в чём-то переосмыслив свои труды, решил издать свои письма и издать «Выбранные места из переписки с друзьями». Последствия оказались неожиданными для писателя, но закономерными для читателей.
После прочтения «Выбранных мест», Сергей Аксаков написал Гоголю своё мнение: «вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге… Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, – оскорбляете и бога и человека.
Если б эту книгу написал обыкновенный писатель – бог бы с ним; но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и поэтому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство – измена ему».
Не остался равнодушным к «Выбранным местам» и Белинский, который написал Гоголю: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною…»
Кто был прав? Писатель, обличающий слабости человека или критики Гоголя? Святитель Василий Великий говорил: «Кто без такой необходимости говорит что-нибудь о другом с намерением очернить его, тот – клеветник, хотя бы и говорил правду». И, говоря правду без любви, можно оклеветать и человека, и общество.
И можно сказать, что и в начале пути, и в его конце писателя ждёт великое множество подводных камней и кораблекрушений.
Встав на путь исполнения Божьей воли, автор становится соработником и другом Божьим, а через соработничество с Богом приближается к Христу сам и приближает к Божьим заповедям читателей, которые, глядя на события современности глазами православного автора, приобщаются к Божьему миру.
Однако здесь вполне логично предположить, что человеку лучше всего читать первоисточник и самому делать нужные выводы и действия.
Зачем знакомится с христианским мировоззрением через призму восприятия такого же, как и читатель, мирянина, когда можно самому почитать Библию, Деяния и Послания святых апостолов?
Именно этот вопрос задаёт себе и автор прежде, чем приступить к работе над литературным произведением. Что есть человек пред Богом, пред Святым Духом? Трава, которая утром цветёт, а вечером завядает. Что может человек добавить к славе Божьей? Имеет ли он право уподобиться святым апостолам, принявшим благодать Святаго Духа, святому преподобному Иоанну Лествичнику, святому святителю Дмитрию Ростовскому?
Сможет ли он выдержать страдания, перенесённые евангелистами? Тем более, когда личная награда возможна будет лишь в невидимом мире, а на земле унижений и побоев больше, чем почёта и благополучия?
За свою проповедь святой апостол Павел был побит камнями так, что его почли умершим. Казалось бы, что, после такого избиения, никакой человек не захочет продолжить столь опасную для жизни стезю, а святой апостол Павел встал и пошёл нести слово Христа в другой город.
Впереди были и Афины, наполненные идолами. В этом городе святой апостол Павел «рассуждал в синагоге с Иудеями, и чтущими Бога», и даже был призван в ареопаг, где его спросили о новом для горожан учении.
Обращаясь к язычникам, святой апостол Павел начал речь не с заповедей Христа и примеров явленных Им чудес, которые были известны и идолопоклонникам, а со слов: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны».
Возможно, кому-то эти слова покажутся грубой лестью или как бы лёгкой насмешкой и вызовом на шутливый поединок. Но лесть ли это или поиск общей точки соприкосновения – Бога?
А что было бы если он стал говорить: «Ваши статуи – это идолы и дело рук человеческих, которые ни говорить, ни слышать, ничего делать не могут?».
Язычники, услышав поругание свои лжебожеств, скорее всего, разгневались и могли побить святого апостола, а, следовательно, его проповедь дала бы совершенно противоположенный результат от намерений проповедника.
И вполне закономерно, что далее в Первом послании к Коринфянам он пишет: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (Глава 9:19-22)».
Говоря с афинянами на их языке, святой апостол достиг того, что некоторые язычники уверовали и это настоящее чудо.
Пример апостольской проповеди показывает, что и современным авторам нужно не только создавать православную литературу, но и говорить с читателями на их языке, в сфере их жизнедеятельности и окружающей их реальности.
Естественно, весьма трудно охватить все специальности и работы, но если среди врачей будут писатели, которые опишут свои труды с точки зрения православия, то их книги могут вызвать интерес и у врачей, практически не заходящих в храм, поскольку интересный и наглядный взгляд коллег на рабочие процессы и деловое общение всегда привлекает внимание.
А для православного автора очень важно, через примеры современной жизни, не только показать христианский путь, но и побудить человека к исполнению Божьих заповедей.
Говоря с учителем, как учитель, с сотрудником уголовного розыска, как оперативник, на понятном и близком им языке, знакомыми им образами и на реальных ситуациях, поскольку имеется огромная разница между психологией и мировосприятием людей, живущих в наше время и живших в годы апостолов.
К сожалению, следует признать, что сейчас очень трудно побудить человека, ежедневно просматривающего хронику новостей, к чтению духовной, да и художественной литературы. Люди настолько погружены в личные дела и житейскую суету, что их фильтр приёма информации отсекает всё лишнее, а в это лишнее, увы, попадает и духовная пища, и церковь, как храм, и как общество людей.
Современный человек всячески стремится к благополучной и счастливой жизни, избегая не только страдания, но и чувства неудобства в быту и в личных отношениях. Полюбить страдание для него немыслимо, страшно, безрассудно… Между тем святые призывали терпеливо переносить искушения и любить страдание, болезнь, горести.
Сейчас же множество самых прекрасных и даже, казалось бы, добрейших людей, словно омертвело душой и сердцем. Даже страшные преступления не вызывают общественный отклик. Ничего не ужасает, не удивляет, не возмущает.
Идеалы христианства порой сменяются идолами земной жизни – «золотым тельцом», чувственным удовольствием, успехом в делах, славой… Люди сознательно ограничивают круг своих стремлений, нацеливаясь на главную цель жизни – Например, на высокую должность или олимпийскую медаль.
Интеллектуальная и духовная жизнь вне основной цели может замереть почти на «мёртвой точке». Хорошо, если еще сохранились духовные основы православного мировосприятия, заложенные родителями в детстве. А когда и их не было? Тогда человек и видя, может не видеть ни промысла Божьего в его судьбе, ни слышать голос Бога, призывающего его к святости и совершенству души.
Впрочем, к счастью, стремление к самосовершенствованию еще живо и желание использовать чужой опыт в своей жизни остаётся и человек, может быть на интуитивном уровне, тянется к познанию путей разрешения личных проблем, в том числе и читая книги.
Если автор обращается к нему, как к другу, рассказывает о действии Божьих законов в современном мире, то читатель, думая о Боге, идёт к обожению своей души, к своему Спасителю и спасению.
Ученики Христа были очищены через Его слово, освящены истиною и Святым Духом. И ныне слово Иисуса очищает всего человека; делает его добрее к окружающим его людям, и более взыскательным к себе, к своим мыслям, чувствам и делам; приносит земной мир в Божий мир.
И, вероятно, можно сказать: «Благо автору, когда его читатели захотят приобрести добрые черты характеров положительных героев, и более того – уподобиться святым и Христу».
Однако, приняв в сердце слово Божие, и автору, и читателям нужно быть готовым принять и скорби, и страдания, и боль; в долготерпении переносить все несчастья, уподобляясь Господу, принявшему крестную смерть без упрека к осудившим Его на распятие; простившему воинов, которые Его унижали, били и распинали, не ведая творимого ими зла.
В этом месте будет уместно сказать, что и Христос в начале Своего служения не говорил ученикам о предстоящих для них страданиях, о возможной мученической смерти. Сначала Иисус освящает их словом истины. Затем, когда видит, что они приняли слово Божие и поняли его правильно, следует освящение Святым Духом и, лишь впоследствии, идут скорби, побои, насмешки…
И апостолов не устрашают темницы, удары палками и злоба идолопоклонников, поскольку они на личном опыте и на примере своего Учителя и Спасителя знают истину и будущее воздаяние в Царствии Небесном.
Соответственно, и современным авторам, вероятно, следует сделать выбор – Согласен ли он возлюбить Бога всею своей крепостью, всем помышлением и ближнего своего, как самого себя или же удовольствоваться удовольствиями земного мира, так как служить Богу с раздвоенным сердцем бесполезно, да и может быть опасно, скорбно и непредсказуемо.
Хотя и к проповедующим из славолюбия и сребролюбия возможно проявление Божьей милости и их проповедь станет нелицемерным служением.
И всё же вряд ли стоит заниматься самообольщением, думая: «Грехи мои невелики. Бог увидит мои великие приношения и наверняка помилует, Он же любит людей». Ведь было бы удивительно, когда бы и малый грех остался незамеченным и останется без наказания.
Время лукаво, как говорит Святое Писание. Нам кажется, мы имеем еще много времени жизни и не знаем, что конец-то, возможно уже при дверях…
И придёт господин к лукавому и ленивому рабу в тот час, когда он ждёт, когда лукавец будет пьян и зол, и будет подвергнут одной участи с лицемерами. Кто-то скажет: «Тогда лучше и не служить…» Для кого-то, вероятно, да, но тогда даже и надежды на награду не будет.
И очень важно автору не стать «книжником» нового времени, которому могут быть обращены слова Христа «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Ведь новоявленному книжнику, образно говоря, Бог может сказать: «Что ты берёшь Мои слова в свои уста, а сам их не исполняешь? Ходишь за тридевять земель, чтобы обратить хотя бы одного, а когда обратишь, делаешь его сыном гиены, вдвое хуже себя».
Ведь, прежде продолжения проповеди апостолов, вероятно, нужно научиться у них праведной жизни, смирить душу и начать стяжать благодать Святаго Духа.
Создавая внутреннюю жизнь героев, автор рас-сматривает и свою, и видит свои падения, и начинает грех ненавидеть. Приходит желание припасть к ногам Христа, омыть их слезами и просить прощение за все падения и дать силу больше не грешить. Ведь только Бог может простить грехи, а значит и от беды, приходящей воздаянием за совершённое зло, может избавить только Христос.
Все люди представляются намного лучше, чем он. Через осознание собственного падения приходит отторжение осуждения и даже своих отрицательных героев автор не только не осуждает, но и как бы старается найти для них духовный путь, по которому они могут прийти к Богу или дать персонажам возможность исправления ошибок, которые превратили их злодеев.
И Бог может дать более, чем просит писатель – он приходит к Святому Причастию с чувством покаяния, прося помочь простить обидчиков, не помнить зла, исполнять Божью волю и заповеди Христа, любить Бога и ближних, как самого себя.
И приходит прощение обид, и любовь к ближнему, и на человека восстаёт враг рода человеческого, и бьёт его со всей беспощадностью, злобой и яростью. Но человек уже не хочет жить по-прежнему – во грехе тщеславия, осуждения, самолюбия… Из жизни, из души, из дома вычищается всякая нечистота и ложь.
Между тем и добросовестным авторам, чьи книги и по замыслу, и по содержанию являются и проповедью, и молитвой, на голову могут обрушаться тысячи зол, точно град, безжалостно побивающий созревшие колосья пшеницы, оставляя работника без долгожданного урожая.
Человек начинает молиться за обидчиков или старается сделать для них что-то доброе, но примирение может настать через годы, а сначала от людей, за которых молится автор, может прийти не благодарность, а еще большее уязвление ядом злости, отвержение.
Обидчик будто бы говорит – Если ты изменился, то это твоё дело, а я каким был, таким и хочу оставаться, и ты мой характер, мои привычки не переделаешь, и не пытайся меня изменить. Тащи бревно из своего глаза молча, не трогая соринку в моём, которую, когда захочу, сам вытащу и тебя о помощи не попрошу.
Причём подобное поведение людей бывает не только в наше время, и было в давно прошедшем. Много различных разочарований в людях звучит даже в Псалтири, даже царь Давид с горестью писал, что тот, кто ел его хлеб, поднял на него пяту…
И тут вспоминается книга Иова, приход к Иову его друзей. Они говорят правильные слова, но самые веские доказательства правоты Бога и необходимости смирения Иова не утешают и, более того, раздражают.
Впрочем, совершено глухих к добру людей, скорее всего практически нет, и на добро человек чаще всего отзывается добром.
При работе над книгой или после её завершения, может последовать предательство родных и друзей, тяжёлая болезнь, чувство отчаяния, опустошённости, маловерия, богаоставленности и даже ропот на Бога.
И в этом, вроде бы безвыходном положении, автору представляется, что Господь его не слышит, что он отвержен Богом за грехи, что нет прощения даже за исповеданные падения души и есть один Божий гнев и месть за всё ранее совершённое зло… Ему, как ветхозаветному пророку Илье может показаться, что он в сплошной тьме, остался один и его души ищут…
В этом удручающем состоянии, вероятно, лучше всего положить руку на уста, непрестанно молиться и продолжать доброделание, не рассчитывая на вознаг-раждение, а из одной любви к добру и милосердию.
Спасительным оказывается и помощь погибающим, к обречённым на верную смерть. И это могут быть не только люди, но и весь Божий мир.
У любого человека всегда достаточно сил подобрать желудь, упавший на асфальт, на котором он неминуемо погибнет, и посадить его в лесу. Этим он сразу сделает добро и дубу, и жёлудю, и себе, поскольку и один взгляд на выросший дубочек наполнит сердце радостью и благодарностью к Богу, вложившему благой помысл и давшему силы помочь погибающему, когда и сам погибаешь.
И невелик труд подать записку о здравии обидевших тебя людей, помолиться о их благополучии; подать нищему не копейку, а дорогую шоколадку, спелый персик, изумрудный виноград.
Православный автор может взять в руки духовное оружие, которое приготовил читателям для борьбы с самим собой, своими страстями. И ему, естественно, помогают знания, полученные ранее.
И Бог, видя стремление делать добро и быть с Ним в горе, может не только помочь выбраться из беды, но и, что действительно чудо из чудес – на самое краткое время, как бы приоткрыть небо и дать почувствовать благодать, красоту, вечность и счастье Царства Небесного. Сердце, словно дуновение лёгкого ветерка, посещает необыкновенная радость. Оно, как бы чувствует любовь Господа и отзывается на любовь любовью.
И пусть за этим мимолётным утешением скорби по-прежнему стеснят сердце до чудовищной боли, до печали, в которой и ничего мыслить здраво не можешь, но память о внезапно озарившей радости даёт надежду, укрепляет веру.
Если что-то важнее веры? Да, и это любовь. И с этой любовью автор, прошедший искушения и беды, приходит к читателю и тот ему верит, и через эту веру сам проходит жизненный путь героев, иногда воспринимаемых соучастниками жизни писателя, для которого всё личное в земной жизни умаляется, и он стремится к той цели христианской жизни, о которой говорил святой Серафим Саровский – к стяжанию благодати Святого Духа.
И приходит награда за труд и Божия помощь. Если писатели, которые были равнодушны к Богу, в час испытания могут упасть и погибнуть, как Маяковский, Цветаева, Фадеев, Гаршин, Джек Лондон и Эрнест Хемингуэй, то православный может выдержать и беды, которые до своего творчества, изучения книг святых отцов и Библии не смог бы преодолеть.
Когда нет веры, выйти из депрессии бывает сложно, даже с огромными деньгами и помощью родных, любимых людей. Джек Лондон, вначале творчества воспевавший сильного человека и в чём-то идеалы правды, как она им воспринималась, написал и «Мартина Идена», в котором достигший высшего успеха писатель, приходит к разочарованию в жизни и самоубийству.
Сильный, молодой и успешный человек приходит к осознанию бессмысленности своего существования, да и сам Лондон, ставший литератором-миллионером, закончил жизнь рано – сначала было злоупотребление алкоголем, потом болезнь и обезболивающий боль морфий, передозировка которого и завершила земные страдания американского писателя. Ведь опьянение и забвение дел не делает, а только ухудшает трагическое состояние души, делает более болезненным кризис творчества.
Между тем опыт святых, например преподобного Антония Столпника и множества других святых, показывает, что человеческий организм способен переносить самые тяжёлые физические муки, а значит и Джек Лондон мог справиться со своими мучениями, которых, при другом мировоззрение и личной жизни, могло и не быть.
Кстати, многие трагедии писателей и поэтов связаны с отсутствием связи с церковью и священниками. Многим было достаточно прийти к батюшке, поведать о своих проблемах, исповедоваться, попросить помощи и, можно сказать с большой уверенностью, что реальная помощь пришла бы и от священника, и от Бога, ибо Сам Христос сказал, что приходящего к Нему, Он не изгонит.
Именно Библия, которую читал Достоевский на каторге, помогала ему переносить все невзгоды, унижения и лишения обычных земных благ. Страдания Достоевского выражались в его книгах и иногда его слова о любви вызывают отторжение. Читая «Записки из подполья» мы находим весьма спорное мнение, он пишет: «Я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать».
У верующего человека всегда есть опыт предыдущих поколений христиан, зная который и в самый трудный час житейских бед можно получить облегчение и духовное, и физическое.
Когда же снова наступает печаль и ни молитва, ни труды не помогают от неё избавиться, вспоминаются слова архимандрита Фотия (Спасского) из «Одиннадцати бесед о страстях» – «подвижнику в час тяжкой печали, аще имеет дар слез, горесть печали растворять слезами; аще же ни – вкусив сладостной пищи упокоить себя сном. Ибо печаль после сна, или совсем отходит, или умаляет силу свою».
Если же в унынии и терпение теряется, то, возможно, лучше всего, молится «со слезами: «Избави, Господи, от уныния душу мою, и терпение даруй ми рабу Твоему, Владыко Человеколюбче!».
А Бог, через взгляд на Его терновый венец, напоминает о Своих страданиях. Автора предали родные люди, которым он посвятил всю свою жизнь и делал одно добро, но насколько больше сделал для всего человечества Христос, Которому прямо в лицо кричали: «Распни!» и Которого распяли вместе с разбойниками.
И, совершенно неожиданно для самого себя, многократно униженный и оскорблённый автор, придя к глубочайшему смирению и осознанию своей ничтожности пред Богом и людьми, понимает, что все его труды и страдания не прошли впустую и дали свой плод – веру, надежду, любовь. И он понимает, что только с Богом можно спокойно умереть, потому что смерти нет, а есть встреча с своим Творцом и Вседержителем.
И, хотя смерть не придёт как бы шутя, говоря: «Не бойся, я сегодня просто пошутила… Ты никогда не умрёшь…», ведь смерть в игрушки не играет, человеку может быть не страшно и у него, вполне вероятно, будет возможность вместе с святым апостолом Павлом может воскликнуть: «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?».
Но приходит ли в душу полный покой и удовлетворение от всех литературных трудов к автору? Навряд ли.
Можно предположить, что недовольство Гоголя своими книгами и чувство ответственности перед Высшим Судом побудило его сжечь второй том «Мёртвых душ» и другие рукописи. Даже путешествие в Иерусалим не принесло ему покоя, и он писал Василию Жуковскому: «Моё путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика чёрствость моего сердца. Друг, велика эта чёрствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всём том я не стал лучшим, тогда как всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».
Вероятно, и никакое место само по себе не может освятить человека, когда он сам не меняется внутри себя и не имеет в самом себе Царствия Божия. Ведь от перемещения тела в пространстве не меняется внутренняя сущность человека. Другое дело – Слово Божие, которое освещает людей истиной, хотя и оно падает и на каменистую почву, в терние.
Когда писатель начинает читать Библию каждый день, тогда он приходит к понимаю, что в ней содержится вся полнота знаний, которая необходима для благополучной и благочестивой жизни человека.
Другие книги становятся неинтересны, а, следо-вательно, он приходит к неизбежному выводу о ненужности людям своих книг. Они более всего были нужны лично ему для начального толчка по пути к Богу, для знакомства со словом Божьем.
Ища ответы на личные вопросы, он находит ответы у апостолов, святых и священников. Хочешь простить обиду и не помнить зла? Иди к чаще с Телом и Кровью Христовой с молитвой: «Господи, помоги мне прощать и не помнить зла». Хочешь побороть тщеславие? Вспомни слова Иоанна Лественичника и архимандрита Фотия (Спасского), учивших бороться со тщеславием. Молись Богу: «Избави мя, Господи, от духа тщеславного». Хочешь прибавления ума? Читай акафист Пресвятой Богородицы пред иконой «Прибавление ума», Сирах, Премудрости Соломона, Псалтирь…
Христианская литература учит самому главному в жизни – святости, а понимание святости, как необходимого условия вечной жизни, приводит к стремлению очистить душу от всякой скверны. Победа добра над злом совершается не только силой мускулов и ума, но и с Божьей силой. И немощное может победить сильнейшее со смиреной любовью, во тьме побеждает свет истины.
И все несчастья возможно преодолеть, когда главное – любовь к Богу и к ближнему. И когда путь ко Христу и к Царствию Небесному является не одним из многих интересов земного бытия, а целью жизни, тогда всё складывается ко благу человека.
При этом, чем больше автор погружается в христиан-скую литературу предшественников, тем более может охладеть к своему творчеству, считая его лишним, лишь повторением того, что уже давным-давно сказано. Дойдя до осознания ненужности своих литературных трудов, автор останавливается, оглядывается назад и видит, что его начальный интерес к вере во многом возник из чтения художественной литературы, в том числе и светских авторов.
Шаг за шагом, идя в Царствие Небесное и к Богу, автор, даже если и перестаёт создавать новые книги, своим личным примером ведёт читателей по дороге к Богу, к обожению личности.
Примеров, достойных подражания среди христиан-ских авторов много – святой преподобный Иоанн Лественичник, святой преподобный Иоанн Дамаскин, святой святитель Дмитрий Ростовский, архимандрит Фотий (Спасский), Фёдор Достоевский, Евгений Поселянин…
Читая «Лествицу», «Душеполезную повесть о ВАРЛААМЕ пустыннике и ИОАСАФЕ царевиче индийском», «Жития святых», «Братьев Карамазовых», «ЯКО АД СОКРУШИЛИСЯ» и православные книги современников читатель проходит путь монахов и мирян, находившихся в духовной борьбе.
Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского, святого преподобного Сергия Радонежского, подвиги монахов из Темницы становятся духовным маяком, святящем и в самой кромешной тьме.
Знания, полученные в православных книгах, помогают переносить всякую скорбь с терпением и надеждой, с упованием на Божью помощь.
Фёдор Достоевский призывал гордого человека к смирению, показывая в «Бесах» последствия безбожия. Не послушались гордецы совета, и, не захотев смириться по своей воли, в годы революции были лишены всех земных благ и им пришлось смиряться поневоле.
Вникая в мысли православных писателей, мы прекрасно понимаем, что сами авторы выдержали множество испытаний и искушений. У одних христианских писателей был путь аскетического монашества, у других борьба с собственными страстями.
Стоит представить боль Достоевского, когда он находился на эшафоте и на каторге, то понимаешь, что его осанна Богу выстрадана, и что унижения, через которые он прошёл, возможно перенести только с Божьей помощью, смирением, верой и надеждой.
Ведь одно ограничение свободы, когда общества ограждается от преступника, как от лютого зверя, унизительно. А осознание себя государственным преступником для дворянина и офицера еще более отягощает всякую скорбь. Бесчисленное количество унижений перетерпел Достоевский и будучи известным писателем из-за материальных трудностей, когда ему приходилось закладывать в холодное время тёплую юбку жены, которая кормила ребёнка.
Знакомясь с жизнеописанием архимандрита Фотия (Спасского), особенно годы детства и отрочества, чувствуешь к нему огромную жалость и сочувствие, удивляешься его терпению, способностью преодолевать отчаяние, скорбные обстоятельства жизни. Писатель Вячеслав Улыбин столь ярко, насыщено и интересно рассказал об этом архимандрите, что образ мужественного, умнейшего и смиренного монаха становится близким. За него хочется молиться, всегда помнить его необыкновенные подвиги и служение России, русскому народу и всему православному миру.